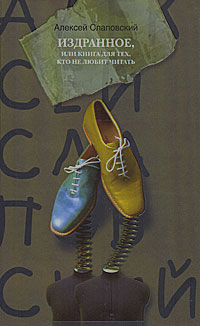
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Пьяный человек
Жил-был пьяный человек. Конечно, он не всегда был пьяным. В этом-то и трагедия. Ему хотелось всегда быть пьяным, но не позволяли обстоятельства жизни и здоровье. Другие на это не обращают внимания, они бывают пьяными время от времени и их это вполне устраивает. Но наш человек был максималист. Он страдал оттого, что не может все время быть пьяным. При этом он заметил, что даже последние алкоголики, знакомые бомжи, которых он видит у метро, и те не всегда бывают пьяными.
Вы спросите, а зачем ему понадобилось всегда быть пьяным?
А затем, что ему это очень нравилось. Ему ничто другое не нравилось, ему нравилось только это. Он только пьяным по-настоящему и жил. А кому понравится чувствовать себя живым не как все, то есть более или менее постоянно, а только время от времени?
И конечно, всем очень интересно, какой же он нашел выход, каков финал у этой истории?
А не нашел он выхода, нет финала у этой истории. Так он и мучится до сих пор: хочет быть все время пьяным, а не может.
Веселый человек
Жил был веселый человек. Ему палец покажешь, а он смеется. И все его очень любили, хоть и не уважали. За что уважать человека, который все время смеется, не понимая трагедий и значительности жизни? Он похож на придурка, не правда ли? И даже когда он печалился, он оставался внутренне веселым.
Но, повторяем, он зато доставлял много удовольствия другим людям. Благодаря его веселости, они лучше ощущали свой ум и серьезное отношение к жизни.
И даже своей смертью он доставил всем удовольствие, потому что всем было приятно говорить: «Надо же, какой был веселый человек, а все-таки умер!» Это всех как-то очень утешало.
Человек идеала
Жил-был человек, который искал идеал. Вернее, это была женщина, поэтому правильнее сказать: жила-была.
Итак, жила-была человек, которая искала идеал. Она очень хотела выйти замуж. И ей, бывало, кто-то нравился. Но она думала: «Да, он мне нравится, но просто нравится, он не идеал, я выйду за него замуж, но вдруг после этого встречу идеал? Я же почувствую себя несчастной!»
И она жила и не выходила замуж, хотя ей по-прежнему многие нравились.
И однажды этот человек шла по улице и увидела ясно свой идеал. «Вот это да! – подумала она. – Надо же!» – потому что уже не надеялась его встретить.
И она подскочила к нему с восклицанием:
– Вы мой идеал!
Эту историю мне рассказывал сосед по нарам в вытрезвителе. Он не закончил ее, потому что его позвали на шмон и допрос. И он почему-то не вернулся. Почему-то ходили слухи, что его убили при шмоне и допросе за его гордость и заносчивость.
Поэтому я не знаю, чем кончилась история. Почему-то мне тоже в ней грезится какое-то убийство или еще что-то в этом духе. Какая-то, в общем, кровь. Почему – непонятно…
Человек без ничего
Жил-был человек без ничего. Вы скажете: так не бывает, у каждого человека что-то есть; даже когда он только что родился, у него уже есть мама.
Но речь ведь не о том, что мы с вами считаем, а о том, что человек считает сам о себе!
Так вот, этот человек считал, что у него ничего нет.
Соберутся друзья, начинаются разговоры о том, о сем, и этот наш человек вдруг говорит: «А у меня ничего нет!»
– Перестань, не гневи Бога! – возмущаются друзья. – У тебя есть то-то, то-то и то-то! Загибают пальцы, перечисляют, доказывают.
– А, бросьте! – машет в ответ человек. – Это все пустяки. Повторяю: ничего у меня нет!
И всем вдруг начинает казаться, что он прав. Всем начинает казаться, что все перечисленное в самом деле пустяки. И то, что у них есть, тоже пустяки, на самом деле у них тоже ничего нет!
Но однажды человек без ничего нарвался на одного писателя. Писатель был происхождением из провинции, легко догадаться, из какого города, и был очень умным. И он, услышав жалобы человека без ничего, что у него ничего нет, а потом восклицания друзей, что у него есть то-то и то-то, а потом его ответ, что это пустяки, закричал разъяренно:
– Кончай всем головы морочить! Ничего – это ничего! А пустяки – это пустяки! Прекрати всех злить и говорить, что у тебя нет ничего! Говори: у меня есть пустяки!
Тут друзья страшно обрадовались, что нашелся на зануду наконец дельный человек, который его урезонил. Но, как выяснилось, не урезонил. Потому что человек без ничего ответил:
– Вы, наверное, как все, думаете, что ничего – это то, чего нет? Ничего – это то, что есть. И вот его-то у меня и нет! Понятно?
Никто не понял, включая писателя. Но все догадались и смутились.
Человек без критериев
Жил-был человек без критериев. Он однажды проснулся и обнаружил, что все его критерии куда-то исчезли. Если бы он потерял память на вещи, как персонажи одной хорошей книги, тогда понятно. Эти персонажи сделали надписи. На столе – «стол». На стуле – «стул». На доме – «дом». И так далее. А на чем ставить надписи относительно того, что хорошо, а что плохо, что прекрасно, а что безобразно? А ведь без критериев хуже, чем без паспорта; даже из дома не выйдешь. Например, тебе мама с коляской с младенцем загораживает вход в лифт, а ты опаздываешь. Тебе, естественно, хочется маму оттолкнуть, а младенца вышвырнуть вместе с коляской. Но, имея критерии, ты этого не сделаешь. Критерии тебе подскажут, что положено или терпеливо подождать, не вмешиваясь, или помочь маме войти и вкатить коляску с младенцем.
Но наш-то человек это начисто забыл! Поэтому он заперся и, обложившись словарями и классическими книгами, долго писал в толстой тетради, что делать хорошо, а что делать плохо. Ориентировался на ключевые слова. Например: «Старуха. Помочь перейти дорогу. Уступить место. Не ударить по голове, когда она полчаса считает копейки у кассы перед тобой». Или про ту же маму с младенцем: «Мама с младенцем. Помочь войти. Вкатить коляску».
Так он сидел и писал недели три. И наконец все написал.
И довольный вышел из дома. А было это восьмого апреля две тысячи третьего года; весна была, как вы помните, затяжной и холодной. Впрочем, как всегда. И на пруду, мимо которого шел человек, был еще лед, но подтаявший, рыхлый. А перед прудом, гуляя, стояла мама с коляской с младенцем. Стояла как бы в раздумье. Человек без критериев, улыбнувшись, полез в карман, достал тетрадь, быстро нашел ключевые слова и поступил соответственно: маме помог войти, а коляску вкатил. Мама и коляска с младенцем, естественно, стали тонуть. Человек без критериев хоть и был без критериев, но не без ума же! Он понял, что сделал что-то не то. И стал лихорадочно листать тетрадь, ища ключевые слова «пруд», «весна», «лед», «тонуть»… Но, поскольку был человек городской, то этих слов в тетради не оказалось. Так он и стоял, листая тетрадь, а мама с коляской с младенцем утонули.
Человек еще одного числа
Жил-был очень странный человек, которого я назвал бы человеком еще одного числа.
Всегда ему казалось, что не хватает. Даже в элементарных ситуациях. Берет он, например, на рынке, три кило картошки. Говорит: «Мне три кило картошки». Продавец взвешивает ему три кило картошки, и тут человек говорит: «Нет, четыре». К счастью, он на этом и останавливался, иначе легко понять, чем бы все это кончалось. Тоннами картошки, тысячами выпитых рюмок и миллионами неприятностей.
Или в духовной сфере. Приезжает он в другой город. Идет в музей. Смотрит картины. Обошел десять залов, его уже тошнит, он готов уйти. Но всегда мысленно говорит: «Нет, еще один». И с отвращением осматривает одиннадцатый зал.
Досадно, но, в отличие от предыдущих рассказов, этот не содержит ни драмы, ни парадокса, это всего лишь житейский пустячный анекдот о человеке еще одного числа. Без смысла и сверхзадачи.
Это рассказ обо мне.
Я написал восемь рассказов.
Но мне показалось, что нужен еще девятый.
Не потому, что цифра девять мне нравится больше, чем восемь. Хотя, в общем-то, больше, потому что нечетная. Нечетные цифры мне нравятся тем, что не делятся на два. То есть всегда есть надежда, что не будет путаницы и уравниловки, а где-то будет больше. Желательно там, где надо.
Но в данном случае не это сыграло роль. Просто сколько бы чего ни было, мне всегда надо добавить. Почему? Не знаю. Просто, я же говорю: человек еще одного числа.
Ну, и тому подобное.
8 апреля 2003
По венам
Маришка бросила телефонную трубку и пошла в ванную. Стала рыться и искать, стараясь не шуметь: родители дома. Но ничего такого не было. Отец бреется одноразовыми бритвами, мать пользуется эпилятором. Сама дура, думала Маришка, сколько раз собиралась купить нормальные лезвия, чтобы были под рукой. Сейчас вот нужны – а нет.
Она вышла и прошла в кухню.
– Спать не пора тебе? – спросила мать.
– Да, я только в душ сейчас.
– Тогда спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Что-то она рано, подумала Маришка. И отец не сидит на кухне, как обычно, не курит, не пьет пиво и не смотрит телевизор. (Он смотрит здесь, потому что в комнате мать курить не разрешает.) Должно быть, решили заняться сексом. Обычно Маришке как-то смешно об этом было думать. Или неприятно? Нет, все-таки смешно. Или просто как-то странно? Мать, мама, мамусик (любит, когда Маришка так называет ее) вдруг превращается сразу в женщину – такую же, как сама Маришка, только старше, в полноватую женщину тридцати девяти лет с обвисшей грудью, рыхлой талией и широким задом, и вот она лежит сейчас, голая, в нескольких метрах отсюда, за двумя стенками, в сущности, рядом, лежит в темноте (света под дверью не видно, они выключают его сразу), а отец, высокий, ироничный, превратился в голого сорокапятилетнего костистого мужика с торчащими рыжеватыми волосами, особенно бородой, борода на голом теле всегда выглядит нелепо, Маришка это знает. Интересно, говорят они что-то друг другу или молча? Если отец умудряется шутить при этом, как при всем, что он делает, то он молодец. Если не шутит – значит… А что значит? Да ничего не значит.
Маришка, забыв, зачем пришла сюда, налила себе чаю, пила, глядя в чашку и представляя их. В подробностях. Потому что раньше все-таки было стеснительно, а теперь можно все. Потому что в последний раз.
Маришка фыркнула в чашку: надо же, чай пьет! Чтобы, что ли, пить не хотеть, когда будет уходить – неизвестно куда? Дура – она во всем дура, сказала о себе мысленно Маришка с удовольствием откровенности. Я такая хорошая, а он со мной так? – клокотало в ней только что. А теперь совсем другая. Ни фига не хорошая, если честно, думает Маришка. Бываю нудной? Сколько угодно. Затрепала всех своими разборками. Давай выясним, давай поговорим. Проблемный человек это называется. А внешность? Ты бы сама себя сильно хотела, если бы мужчиной была? Приглядись внимательно. В папу – сухонькая, ножки тоненькие, носик остренький. В общем, ни кожи, ни рожи, один гонор только. Да и не в хотении дело вообще. Нет просто смысла никакого. Не в том ведь ужас, что – ах, ах! – поссорились. Помиримся – будет хуже. Добьюсь ведь его, знаю ведь как. И сама его возненавижу. А отпустить не захочу. Детей рожу ему, идиоту. В двадцать пять буду на тридцать выглядеть. Целлюлит и все прочее. И так далее, и тому подобное. Ужасно все скучно. Неохота. Ощущение такое, будто всю уже жизнь прожила. И – вспоминаю. Но – надоело вспоминать. До смерти.
Именно что до смерти.
Маришка выдвинула ящик, стала перебирать ножи, пробуя острие. Вот этот хорош. Как бритва. Выпить бы сейчас. Не для настроения, о настроении глупо думать, для анестезии. Тут же вспомнился дурацкий анекдот про человека, который собрался повеситься и увидел бутылку вина, и раздумал. Вот тоже, не успеешь ничего сделать – тут же анекдот выскакивает на эту тему. От одного этого стоит прекратить всю эту канитель. Тоска.
Маришка тихо пошла в зал. Открыла то, что мать называет «секретером», а отец «баром». На самом деле это всего лишь отделение в шкафу. С дверкой. Голая правда прямых слов. Убиться просто. Купили этот шкаф год назад и полгода разговоров друг с другом и гостями. Что похож на антикварный. Что у нас научились мебель делать. Что дерево это дерево, а не дээспэ какая-нибудь. Что теперь под этот шкаф надо подобрать еще зеркало и часы, напольные часы, это стильно сейчас. Совсем недавно таких шкафов в помине не было, а теперь появились. Главное, дерево это дерево, а не дээспэ какая-нибудь… Маришка увидела начатую бутылку водки. Чтобы не было лишних перемещений, тут же отвинтила пробку, сделала несколько больших и торопливых глотков, завинтила пробку, поставила бутылку без стука обратно, на цыпочках побежала в кухню, зажав рот. Села на стул и вся скукожилась, сморщилась. Было почему-то занятно, что она способна испытывать те же ощущения, что и раньше. Уже все по-другому должно быть, потому что она уже не здесь фактически. Она ведь такая: если что решила, слово держит.
Стало тепло и хорошо. Легко задышалось. Глаза, промытые слезами, увидели все ясно. Сейчас бы закурить. И криминала нет: они знают, что она курит. Но не любят, когда на глазах. На балконе, в коридоре. А сейчас могут учуять запах, выйти, спросить: почему не спишь, почему сидишь тут куришь? Вот дела: даже у приговоренного преступника есть право перед казнью выкурить сигаретку. А у нее такого права нет. Смешно. Правда, никакой казни нет. Она ведь не казнит себя. Она просто решила. И очень твердо. Иначе действительно сойдешь с ума, а это хуже. Твердо, без порывов. Как бывает в порыве, она видела. Девочка Таня с дикими глазами ломанулась тоже ванную, даже не закрываясь, схватила лезвие, там нормальное лезвие было, чирк по одной руке, чирк по другой. Шум, гам, радостная тревога (что-то настоящее случилось!), а она стоит и совершенно идиотски улыбается, глядя на свои руки. Обработали, забинтовали и только потом дали по морде.
Серьезные люди так не делают. Они делают просто и без шума. И без повода. Разговор по телефону ерунда, если вдуматься. Она до этого решила. О покупке бритв ведь думала до этого? Думала. Значит – … Сладостно лениво было думать Маришке, что это значит. Да и можно теперь позволить себе не думать об этом. Все, в сущности, можно позволить. Но – одной. На пару люди позволяют себе гораздо меньше. В обществе – совсем мало. То есть, вроде, наоборот, всякие похабства, в том числе исторические, совершаются как раз когда объединяется большое количество людей. Но речь не об этом, а о позволении высоком, вечном почти что. Ха, как занятно мыслить, не понимая собственных мыслей. Мик говорит: «Гармония души – когда к мелочам относишься как к великому, а к великому – как к мелочам». Где-то вычитал, наверно. И гордится. Глупый Мик. Глупые все. И останетесь здесь со своими глупостями. А я – … и в низу живота горячо стало Маришке. Ожидание появилось. Предвкушение такое приятное. Не зря она подозревала, что есть в этом что-то эротическое. Сейчас проверим.
Она пошла в ванную, открыла воду, стала ждать, пока наполнится. Нож положила на стиральную машину под полотенце. На всякий случай.
Она сидела на краю и тупо глядела на воду. Что-то я даже ни о чем не думаю, очнулась она через некоторое время. Только о том, что неудобно и надоело сидеть на металлическом краю. Костлявой задницей своею. На металлическом краю костлявой задницей своею. Стихи. Выйти и сочинить? Зачем? Нет в мире таких стихов, ради которых стоит откладывать. Ничего вообще нет такого. Маришка поймала себя на чувстве удовлетворения оттого, что наконец к ней пришли значительные и важные мысли, подобающие моменту, и усмехнулась. Кому какая разница, думает она что-либо перед этим или не думает? В том числе ей самой?
Ванна наполнялась, Маришку это не пугало. Наоборот, хотелось – скорей бы.
И вот – уже можно. Она легла, вытянулась, потянулась. Появилась уверенность, что все будет хорошо. Раньше это надо было сделать. Вон, пальцы, извлекающие нож из-под полотенец (не полотенцев, грамотные, знаем!), пальцы чуть подрагивают. Но не от страха, от… слово есть хорошее, именно то. От вожделения, вот. Вожделею я, понятно? Кому понятно? А неважно. На самом деле ничьим пониманием не интересуюсь. Выйдите и закройте за собой дверь. Это только вам кажется, что вы остаетесь, а я ухожу. Остаюсь как раз я, а вы идите себе дальше своей унылой дорогой. Езжайте, погромыхивая. Желтые дома станций. Традиционная окраска железнодорожных зданий, Маришка знает, поездила по белу свету.
Вот кабала инерции: Маришка почувствовала, что теперь обязана подумать о родителях. За маму, за папу. Почему обязана? Как почему: дочерний долг. Ладно, подумаю. Ну да, им плохо будет. Какое-то время. А потом горе свое понесут, как знамя. Сейчас-то у них ничего в руках нет, а будет очень интересное и даже в каком-то смысле замечательное горе. Они, обычные, сразу станут значительнее всех своих друзей и знакомых. Вам же всегда этого хотелось, разве нет? Так скажите спасибо мне, царство мне небесное, которого нет.
Маришка, неторопливо и с удовольствием размышляя, машинально водила кончиком лезвия по животу. Слегка так, нежно так. И, вот идиотизм, прямо возбудилась даже. Что ли взять душ и упругими струями доставить себе удовольствие? Ха. Протокол осмотра тела: «Судя по состоянию и консистенции… неважно, без подробностей… девушка занималась перед смертью одиноким сексом, предположительная причина самоубийства – неразделенная любовь».
Маришка отдернула нож от живота и резанула по руке и, не давая себе опомниться, тут же по другой. И тут же опустила в воду. Резко защипало, потом, в воде, как-то заныло и потянуло, а потом стало как-то легко. И все легче, легче, легче… Я трахаюсь с богом по имени смерть, гениально подумала Маришка (она сейчас имела право называть себя и гениальной, и какой угодно). В животе опять стало горячо. Сейчас придет, подумала Маришка, невольно поторапливая, двигая ногами. Нож мешал и отвлекал, паскуда, нож, который она уронила в воду. Она взяла его и кинула на пол, на коврик, досадуя, что от этого красивые клубы крови смешались с водой и стали мутной заурядной жидкостью. И…
И вдруг – пустота. И не равнодушие даже, а скука. И не смертная, томящая, от которой даже и хорошо с собой покончить, а – никакая. Просто голая скука, когда и туда скучно, и сюда скучно, и назад, и вперед, и вверх, и вниз. Горячее в животе тоже ничем не кончилось, ни во что не превратилось, а тоже – в скуку. Облом. Не жмет, не тянет живот мой бедный, скучает, сука, и все дела. И надо бы, в общем-то, плюнуть на все и встать, но и это скучно. Хоть бы отчаяние, позвала Маришка, но и отчаяние не пришло на выручку, не явилось. А неровная муть кровяной воды кажется самым скучным зрелищем из всего, что Маришка видела в своей жизни. Обидно. Если смерть так уныла и безвкусна, то ради нее и жить-то не стоит, странно подумала Маришка. Но и от этого облегчения не было.
За дверью послышался голос отца. Скучный, сил нет.
Потом голос мамы. Еще скучнее.
Господи, кому какая разница, что она делает, если ей самой все равно?
И нелепое, тихое, и откуда, как будто не то, что за там, а когда бы, но бы не взялись рассеяно сеяно сели и шили шили шили бжючешесть.
Цапля
Орефьев перестал запирать дверь на ночь, чтобы, если он умрет во сне, не пришлось ее взламывать. А она металлическая, с тремя замками; два запирают саму дверь, а третий эти два. Воров же и грабителей он не боится. Он вообще перестал опасаться других людей с тех пор, как серьезно заболел. Он боится теперь только себя, вернее, собственного организма – да и то как-то уже привычно, почти спокойно. Или – обреченно. Правда, заодно Орефьев перестал получать от людей удовольствие, но, честно сказать, они его и раньше не очень-то радовали.
Проверив, не заперта ли дверь, он поливает цветы и растения, которыми украсило квартиру его семейство давным-давно, когда оно еще было.
После этого он пьет лекарства, в таблетках и жидкие, а потом с чувством исполненного долга смотрит телевизор, переключая с канала на канал, пока не наткнется на какое-нибудь старое кино, смотренное уже много раз.
Досмотрев кино, он ложится спать.
Ночью иногда спится, иногда нет, а иногда бывает приступ; Орефьев лежит и ждет, когда пройдет. «Скорую помощь» он вызывает крайне редко, ему всегда неловко перед усталыми врачами.
Вчерашняя ночь была средней: немного бессонницы, часа полтора, немного болей, обошлось без лекарств, потом сон без снов – и обычное хмурое и вялое пробуждение. Да еще дождь моросит третий день. Орефьев сел у окна пить чай и смотреть в окно. Там голые весенние деревья, легкий туман и пятиэтажный кирпичный дом; сколько помнит Орефьев себя, столько помнит его. Крыша дома когда-то была шиферной, а потом ее покрыли жестью и покрасили в бурый цвет, она мокрая сейчас, но нигде не блестит: нет света, от которого блестеть. Трубы: восемь у гребня крыши и девять по краю. Орефьев часто задумывается об этой неравномерности, но ответа найти не может.
И тут он увидел птицу на одной из труб. И подумал: цапля. Ему показалось, что она высокая и стоит на одной ноге. И даже не удивился сначала: цапля так цапля. Чего только не увидишь в этом городе. Он даже отвернулся, чтобы спокойно допить чай, но тут же опять посмотрел за окно. Белая высокая птица на одной ноге. Точно, цапля. Откуда? Довольно долго Орефьев раздумывал над этим, а птица все торчала на трубе, словно давая Орефьеву время рассмотреть себя. Видно было плоховато, не помогли даже очки. Жаль, нет подзорной трубы. Как глупо растрачены время и деньги. Когда появились в изобилии новые вещи и возможность их иметь, семья обзавелась многим, в том числе, кстати, и металлической дверью, а вот подзорную трубу не пришло в голову купить, и это даже странно, учитывая, что Орефьев в детстве мечтал стать моряком, стоять на палубе и смотреть в подзорную трубу. И ведь он даже несколько раз видел бинокли и подзорные трубы в каких-то магазинах, поразившись доступным ценам на них, но вот не взял, выбирая срочное и насущное.
Орефьев, не желая бесплодно гадать, отыскал в записной книжке телефон лучшего друга Сурилова. И позвонил ему.
– Кого я слышу! – весело сказал Сурилов. – Привет! Надеюсь, у тебя все в порядке?
Орефьев улыбнулся. Сурилов знает, что у него давно не все в порядке. Он ожидает жалоб, сетований или просьб (при этом, кстати, в помощи никогда не откажет). Сейчас он удивится глупому вопросу, а Орефьеву это заранее приятно, ибо глупые вопросы задают только здоровые и жизнелюбивые люди. Остальные или всё знают, или молчат.
– Ты у нас умный, – сказал он Сурилову. – Ответь, пожалуйста, цапли в городе живут?
– В каком? – деловито спросил Сурилов.
– В нашем.
– Вряд ли. Ни разу не видел и не слышал.
– А я вижу. Напротив сидит на крыше.
– Ты что-то путаешь.
– Говорю тебе, цапля. Клюв длинный, высокая, на одной ноге стоит.
– Может, аист? Хотя аисты у нас тем более не живут. Или кулик какой-нибудь? Но кулики живут на болотах. И у них клюв такой тонкий и изогнутый, я в энциклопедии видел. У этой не такой?
– Вроде, нет.
– Вроде? У тебя зрение минус или плюс?
– Минус пять.
– Ну, тогда ясно.
– Что тебе ясно? – рассердился Орефьев, радуясь своей сердитости.
– Слушай, тебе делать, что ли, нечего? – рассердился и Сурилов. Он, видимо, и впрямь подумал, что Орефьев сейчас совершенно здоров, а на здорового человека можно и рассердиться. – Ну, пусть цапля, дальше-то что?
– Да ничего. Просто думаю, откуда взялась?
– Откуда взялась, туда и денется! – рассудил Сурилов. – А мне некогда, извини!
После этого Орефьев позвонил еще нескольким давним знакомым. Они сначала удивлялись забытому ими Сурилову, потом вопросу о цапле. Говорили разное. Прокофьев сказал: она от стаи отбилась. Валя Малышева сказала: если и залетела в город, все равно сдохнет, тут и люди-то дохнут от этой экологии, а цапля тем более сдохнет. Минин сказал, что у него авария и ему сейчас в милицию идти, не до цапель. Лукьяненко сказал, что он однажды на окраине города встретил лису. Но все, это было ясно, сомневались. Однако боялись свои сомнения высказать, чтобы не задеть Орефьева. И он понимал их, он рад был отметить в душе их сердоболие: значит, они все-таки не такие уж плохие люди.
Активней всех отреагировал Степенко Аркадий, потому что он был зоолог, а сейчас собачий ветеринар, и изучал когда-то орнитологию. Не морочь мне голову, нервно сказал он, не может этого быть. Орефьев мягко настаивал. Аркадий, схватив книгу, горячо, как стихи, прочел оттуда про цапель, а заодно, чтобы прикончить недоразумения, про аистов, журавлей, куликов, фламинго и прочих птиц, имеющих привычку стоять на одной ноге. И никто из них, четко говорилось в книге, в городах не живет.
– Да что ты волнуешься? – спросил Орефьев. – Ну, не цапля, так не цапля.
– Но ты-то утверждаешь, что цапля!
– Мало ли что я утверждаю.
– То есть ты не уверен?
– Да нет, почему? Цапля, я же вижу.
– Твою-то мать! – выразился Аркадий. – Я вот сейчас приеду – и я не знаю, что я с тобой сделаю!
– Приезжай, убедишься!
– На дешевые розыгрыши не поддаюсь! – совсем разозлился Аркадий и бросил трубку. Но через минуту сам позвонил.
– Слушай, зачем тебе это надо? Про каких-то цапель придумывает! Ты не свихнулся там совсем?
– Я не придумываю. Я не виноват, что она напротив сидит. На трубе.
– Идиот! – закричал Аркадий и опять бросил трубку. И опять позвонил.
– Ладно, – сказал он. – Не будем по пустякам. Я, действительно, может заеду как-нибудь. Тебе ничего не надо?
Орефьев прекрасно его понял. Проявлением доброты Аркадий хочет выторговать себе спокойствие. Он как бы говорит: видишь, я с тобой по-человечески, будь же и ты человеком, скажи, что нет никакой цапли. Но Орефьев испытал странное маленькое наслаждение оттого, что может быть немилосердным, как все нормальные люди.
– Спасибо, Аркаша, у меня все есть. Разве что подзорную трубу или бинокль, чтобы цаплю рассмотреть!
– Ну, ты дурак, ну и дурак же ты! – закричал Аркадий чуть не со слезами. – Кому ты сказки рассказываешь? Я профессионал! Я этими вопросами всю жизнь занимаюсь! Ни одной цапли в нашем городе и в наших местах не было никогда – и не будет! Понял меня? Думаешь, ты больной и тебе все можно? Я сам загибаюсь, между прочим, еще неизвестно, кто кого на свои похороны позовет! И все, не звони мне больше!
Орефьев посидел, задумчиво подумал, улыбаясь, и пошел к окну.
Сел и стал смотреть на белого голубя. Потому что это был голубь. Белый голубь. Это Орефьев понял буквально через мгновенье после того, как ему показалось, что это цапля. Показалось спросонья, из-за тумана и плохого зрения, из-за того, что на фоне белесого неба голубь показался каким-то вытянутым и длинноклювым.
С одной стороны, Орефьев, получается, придумал цаплю, сыграл в то, чего нет. Но с другой, если он верил в цаплю хоть немного, значит, она была, вот эту цаплю он и защищал, за нее он и бился в телефонных разговорах, пережив несколько по-настоящему бурных и жизнедеятельных минут.
К тому же, если уж возникла мысль о цапле на трубе городского дома, то почему бы не возникнуть и самой цапле? Что в этом невероятного?
Значит, может стать вероятным и другое невероятное.
То есть, в сущности, всё.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































