Текст книги "Одесса-Париж-Москва"
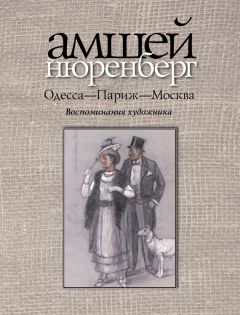
Автор книги: Амшей Нюренберг
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Профессор Бомзе
Одесса, 1911 год. Нежно-голубой вечер. Сижу на берегу моря и пастелью пишу белые с высокими охристыми парусами яхты. Вдали, под крутой синеющей горой, люди и дымок. Вероятно, готовят уху.
Для художника – романтическая тема. Вдруг позади меня громкий, веселый голос:
– Наконец вас поймал! Полгода ищу. Есть для вас интересная и благородная работа – портрет моей покойной дочери…
– Охотно берусь.
– Приходите, договоримся. Вот мой адрес. Жду вас завтра в это же время.
Он оторвал листок из блокнота и карандашом быстро написал: Софиевская, 1б, квартира 8, профессор Бомзе. И, передав листок, бросил:
– Жду вас!
– Обязательно приду, профессор.
Затем, извинившись, что оторвал меня от творческой работы, растаял в вечерней голубизне.
Заказ перед поездкой в Париж был очень нужен, и я не заставил себя долго ждать. На второй день вечером я зашел к профессору. В его светлом кабинете, заставленном стеклянными шкафами, остро пахло нафталином и табаком. Пол был устлан выцветшими украинскими коврами. В углах стояли мощные, гордые фикусы.
Профессор открыл один из шкафов, достал большой, обвязанный шелковой лентой пакет. Дрожащими руками развязал его и с величайшей осторожностью вынул серо-розовое платье. Оно было подобно куску застывшего розового облака.
– Вот ее любимая шляпа, туфельки и фотографии, – сказал он упавшим голосом.
Я взглянул на него. Глаза его были полузакрыты, и кончики мягких усов вздрагивали.
– Может быть, не стоит рисовать портрет? – тихо спросил он. – Я думаю, фотограф не сможет воспроизвести ее тонкий облик. Как вы думаете? Я верю, что только художник-портретист сумеет передать ее образ и состояние.
Я молчал.
– Пишите, – сказал он полушепотом. Он никак не мог решиться отдать мне в руки дорогие для него фотографии и вещи.
– Пишите, – повторил он, волнуясь. – Но вы не должны прикасаться к моим вещам. Это мое условие. Вы согласны?
Я согласился.
Каждое утро он в кожаном чемоданчике приносил платье, шляпу и туфли. Стряхивал с них серебристые чешуйки нафталина и раскладывал все это на стуле. Потом он устраивался на подоконнике у окна, задумчиво разглядывая за окном цветущие белые акации. Много курил и изредка произносил отрывистые слова.
Он внимательно следил за моей работой и щедро давал советы. Критиковал, иронизировал, мешал мне сосредоточиться и уловить то неуловимое, что было в этих пожелтевших фотографиях и что видел он и не мог увидеть я.
Чувствовалось, что работа моя его волновала, что он жалел о затеянном. После сеанса он долго и осторожно укладывал вещи в чемоданчик и несколько минут, щурясь, простаивал около портрета.
Склонив голову, он глухо, с возмущавшей меня непочтительностью, спрашивал:
– Штрихи останутся?
– Нет, их не будет. Это подготовка…
– Глаза уже сделаны? В них нет жизни! Это не ее глаза! Они не светятся! – У него начинали трястись руки и я, подавив в себе раздражение его разговорами, начинал снова переделывать и переписывать лицо его Леночки. Как-то придя ко мне, он, волнуясь, спросил:
– Не думаете, что лучше было бы написать мою Леночку на фоне цветущих акаций? Это было бы очень поэтично! Вы изобразили бы два цветения.
– Впрочем, – добавил он шепотом, – не нужно теперь усложнять работу. Вы замучаетесь…
Поглядев куда-то вверх, он тоскливо продолжал:
– Да, вы правы. Кончайте портрет. Я не дождусь конца…
Немного погодя, он повторил:
– А насколько это было бы поэтичнее – показать две жизни, два цветения… девушки и акации.
Слишком трудную, почти невыносимую задачу ставил он передо мной. Меня утомляло его курение, раздражали высокомерие и равнодушное непонимание живописи, но я должен был закончить эту работу и получить за нее плату.
Больше всего я работал в минуты, когда он, досыта накурившись, впадал в состояние, похожее на забытье. В такие минуты я выжимал из себя все, что мог. Палитра моя пестрела красками, и я радостно и быстро старался что-то поправить и улучшить.
Придя в себя, профессор тупо рассматривал портрет и снова начинал меня терзать.
– Нет, нет. Теперь для меня уже ясно: живопись – это выдумка.
И, погодя, добавлял:
– Мы на разных точках зрения. Вы думаете о красивых, колоритных красках, о подмалевках, о темпераментных мазках, а я мечтаю на холсте увидеть свою любимую дочь, дорогую Леночку… свою незабываемую Леночку…
– Бросьте работать! – сказал он после восьмого сеанса. – Ничего не выйдет. Даром время теряем.
Он подошел ко мне и истерически зашептал:
– Я пришел, чтобы забрать портрет, палитру и кисти… и все это сжечь…
– Как? – удивился я.
– Да, да, – заторопился он. – Я твердо решил это сделать.
Лицо его выражало решительность и злобу.
Глаза его горели, рот был сжат.
Я понял, что спорить с ним было бессмысленно. С грустью я решил попрощаться с неоконченным портретом. Ничего не выйдет. Но кисти и палитру, к которым я привык, мне стало жаль, и я попытался их спасти.
– Профессор, вы очень жестоки. При чем здесь палитра и кисти? Не трогайте их.
– Я не хочу, – сказал он, – чтобы вы ими кого-нибудь еще рисовали.
Мне пришлось ему уступить.
Не глядя на меня, он торопливо вынул из бумажника три красных бумажки и дрожащей рукой бросил их на стол.
– Думаю, – сказал он сквозь зубы, – что этого достаточно.
Я отошел к окну.
Поспешно завернув в газету палитру и кисти, он одной рукой схватил чемоданчик, другой – портрет. И шагом человека, которого незаслуженно жестоко обидели, направился к двери.
У моря
Мне трудно расстаться со ставшими близкими морскими этюдами. Я к ним привык. Полюбил их яркую красочность, свежесть, легкость и «состояние». Бывали хмурые дни, когда я, чтобы поднять творческое настроение, развешивал их на стенах, садился около них и глядел на них. Дышал ими. Каждый из них вызывал неповторимый образ восхода солнца за светящимися голубыми горами. И каждый этюд отдавал утренней прохладой моря. Так мне казалось. Чего только я не дал бы теперь за то, чтобы постоять на берегу утреннего моря и писать прекрасный, но для меня непосильный восход солнца! Я знал, что солнце передать очень трудно и даже крупным маринистам не всегда удавалось решить эту творческую задачу. Поэтому я писал так, как обычно они пишут: стремился передать не восходящее солнце, а восходное небо.
Особенно мне дорог был этюд с молодой женщиной в черном, сидящей на складном стуле у самого моря. Я долго глядел на этюд и вспоминал связанную с ним печальную историю.
* * *
Я жил в Одессе. Писал море и готовился к отъезду в Париж. Каждое раннее утро я приходил на влажный еще берег, ставил мольберт, укреплял холст и начинал работать. Я любил этот поэтический час. Суровая и вместе с тем нежная красота моря! Купающихся мало, никто не мешает увлеченно писать.
Поработав до восхода солнца, я складывал свой реквизит и уходил домой. Однажды, когда окончил этюд и собирался уходить, я заметил, что ко мне приближалась эта женщина в черном.
Подойдя ко мне, она тихо сказала: «Товарищ художник, разрешите посмотреть вашу картину».
– Пожалуйста, – ответил я.
Несколько минут она смотрела на этюд и, поблагодарив меня, молча направилась к морю.
Так она ежедневно к концу сеанса подходила ко мне и просила разрешения поглядеть на мой этюд. Я ей великодушно разрешал. Она благодарила и, постояв перед ним несколько минут, уходила.
Я начал привыкать к ней. Ее присутствие, мне казалось, поднимало рабочее настроение. Мне нравилось ее лицо. Никогда я не видел еще выражения такой глубокой печали на лице.
Я почувствовал большую симпатию к этой худой, бледной и нежной женщине.
Однажды, когда, уставший от напряженной в тот день работы, я снял с мольберта этюд и собрался покинуть берег, она подошла ко мне.
– Товарищ художник, я хочу с вами поговорить…
– Слушаю.
Сильно волнуясь, она тихо, неуверенным голосом сказала:
– Через два дня я уезжаю домой – в Полтаву. Мои средства кончились… но уехать без вашей морской картины я не могу… Вы должны мне помочь и продать ее… но у меня очень мало денег… Что мне делать?
Я не мог понять, в чем дело, и попросил ее объясниться.
Она растерялась, покраснела и вдруг расплакалась… Глотая слезы, она рассказала историю своей печальной жизни:
– Я – несчастный человек… у меня было большое горе… Умер единственный сын, – она умолкла. И, погодя, продолжала: – Я заболела нервной болезнью… муж меня поместил в больницу для нервных больных. Там я пролежала больше трех месяцев. Потом муж меня взял домой… Чувствовала себя лучше… но работать, помогать мужу не могла.
Она глубоко вздохнула и, помолчав, с нарастающей печалью продолжала:
– Я ходила по улицам и паркам, приставала к незнакомым людям и рассказывала им о своем горе. Мне казалось, что так поступая, рассею свое горе… Но горе не покидало, не рассеивалось… Оно, как тень, шло за мной. Однажды в парке я разговорилась с одной незнакомой женщиной. Она меня внимательно выслушала и сказала: «Поезжайте к морю. Сидите и смотрите на него, не спуская глаз. В любую погоду. Дождь, ветер, гроза, жара – все равно сидите и глядите на него – и ни о чем не думайте. Ни о чем. Спасибо мне скажете. Обязательно поезжайте!» И я поехала.
Она умолкла и взглянула на этюд.
– Три месяца я с утра до ночи глядела на море, но средства мои кончились. Надо вернуться домой… но ехать без морского вида не решаюсь. Вот почему я задумала у вас купить картину…
Мне стало жаль ее. Подумав, я решил подарить ей мой этюд.
– Я вам дарю картину. Берите ее.
Она запротестовала.
– Нет, нет. Даром я ее не возьму. Я не нищая…
Долго я ее убеждал, доказывая, что буду очень рад, если моя работа поможет ей выздороветь. Наконец она согласилась взять мой подарок. От неожиданного счастья она опять заплакала. Крупные слезы стекали по ее щекам, падали на кофту.
– Встреча с вами, – призналась она, – лишила меня покоя. Каждый вечер, ложась спать, я думала о вашей картине… Размышляла и очень сомневалась: а вдруг – вы мне откажете! В эти часы я все мечтала – скорее купить картину и уехать с ней домой.
Она в упор взглянула на меня.
– Как я рада и счастлива… – повторяла она.
– Ваше имя и фамилия? – спросил я.
– Анна Руднева.
Я сделал надпись на этюде и подал его ей.
Она схватила мою руку и стала трясти, а потом целовать.
Прерывающимся от волнения голосом она сказала:
– Благодарю! Всю жизнь помнить буду!
Опасаясь какой-нибудь банальной фразой ослабить впечатление от ее слов, сказанных с глубокой душевностью, я молчал.
С величайшей осторожностью она взяла этюд и медленно, не оглядываясь, ушла. Я поглядел на ее походку, в которой чувствовалось глубокое страдание. И примирение.
На следующий день, рано утром, я уже был с мольбертом и этюдником на берегу.
Я ее ждал. Мне хотелось ей сказать несколько теплых слов, ее утешить. Но она не пришла.
Больше я ее не видел.
Лавочник-философ
Художественные материалы я покупал в небольшой лавочке, находившейся неподалеку от школы на Преображенской. Над входом висела яркая вывеска, вызывавшая во мне образ солнечной Африки. Жену Шварцмана называли «тихой Рейзат». Это была рембрандтовская старуха с приподнятыми, узкими плечами и покорными, сияющими глазами. Она не любила длинных разговоров и умела в двух-трех умно сказанных словах выразить очень многое.

Мидлер, Менаше, Нюренберг
Детей у Шварцманов не было. Их заменили жившие на верхней полке пышные кремовые голуби и два сибирских кота.
Шварцман был философ, на жизнь и людей он смотрел сверху или сбоку. Он считал мир творением не Бога, а черта и его приятелей. «Бог, – говорил он, улыбаясь и щурясь, – давно в отставке. Он, как старый николаевский солдат, живет одними воспоминаниями о боевом прошлом». Два правила – «ничему не удивляться» и «беречь сердце и желудок» – руководили всем его бытом и жизнью.
Эти правила он и мне старался привить.
– Вас все волнует, – говорил он, глядя в мое лицо мягкими глазами. – Не набрасывайтесь на жизнь, в ней ничего нет вкусного… Она дает одну изжогу.
Однажды я решил попросить у него взаймы немного денег.
В Одессе была весна, наполнявшая меня до краев, чудесная весна. В парках цвели акации, сирень. Улицы были залиты густым, ярко-желтым хмельным солнцем, а море так посинело, что казалось подкрашенным ультрамарином.
У меня завелась одна рыжая курсистка с бронзовым телом. Веселая, болтливая. Она умела ярко улыбаться и образно рассказывать о своей родине и детстве. Я ее часто рисовал на берегу моря на фоне облаков. Ей это нравилось, и она охотно позировала. Все шло хорошо. Но одно меня огорчало, – это моя одежда и особенно штаны. Они были ужасны: потертые у швов и промазанные красками на коленях. Буду краток. Мне нужны были новые штаны, хорошие, тонкошерстные штаны рублей на шесть, а может, и семь. На толкучем рынке я встречал такие. Мне хотелось предстать перед моей рыжеволосой обязательно в победоносных штанах. Но где достать денег, чтобы купить их? И тут я вспомнил о Шварцмане. Он, я знал, меня поймет. Он добр. Я ему в грустных выражениях расскажу о моей драме. Он будет тронут. Я двинул к старику. Придав лицу печальное выражение, я зашел в знакомую лавочку. Мой трогательный тон показался мне убедительным. Старик меня внимательно выслушал. На его мягком носу дремали темно-синие очки. Шварцман, видимо, волновался. Но это хороший признак. После волнений у него наступала реакция, когда он добрел. Итак, я был близок к удаче.
– Друг мой, – начал Шварцман, медленно снимая очки, – я вам денег не дам…
И, подойдя ко мне мягкими шагами, ласково, но внушительно, добавил:
– И знаете почему? Потому, что я не хочу вас потерять.
Я недоуменно смотрел на его очки, стараясь через яркую холодную синеву стекол проникнуть в казавшиеся мне всегда освещенными добрым огоньком глаза. Заметив, какое впечатление произвели на меня его слова, он продолжал, растягивая время:
– Вы, я вижу, меня, друг мой, не поняли. Подумайте хорошенько над тем, чем кончится моя любезность. Я вам дам шесть или семь рублей. Хорошо. Получили и адье. А потом? Потом знаете, что получится? Денег лишних, чтобы отдать мне долг, у вас не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Вы только не делайте больших глаз, как сова, – перебил он себя, – и слушайте меня.
– Вы меня начнете избегать, а потом возненавидите. Верно говорю? И все это за мое доброе дело… Так зачем мне делать глупость, если я могу ее не делать? Денька два будете дуться на меня, потом все забудете, словом – вы опять мой дорогой гость.
Он отечески мягким жестом протянул свои сухие, бледные руки и, наклоняясь ко мне, шепотком произнес:
– Скажите, что я не прав.
Я молчал.
* * *
Шварцман имел свои взгляды и на живопись. Он любил со мною поговорить об искусстве. О его назначении и целях. Он посещал выставки, знал многих художников и следил за их работой.
Он наливал себе и мне большие граненые стаканы крепкого чаю, клал себе три, мне два куска сахару и, прищурив глаза, начинал поучать меня. Очки лежали на столе, дожидаясь взволнованных моментов речи.
– По-моему, – важно начинал он, – большим художником может быть только портретист. Учись, мой юный друг, быть портретистом. Самое трудное и самое возвышенное искусство – портрет. Человеческое лицо.
Наступал момент жеста. У него был удивительный природный дар придавать своим жестам любой психологический характер и оттенок.
– Человеческое лицо… Что может быть более интересным и волнующим? Глаза, видевшие горе и несчастье, глаза, знающие, что такое слезы. Рот, который не только поглощал пищу, но и произносил проклятия, стонал и охал… Лоб, светящийся мыслью, духом сопротивления, критикой, или лоб, который обо всем передумал, все познал. В каждой морщинке есть своя жизнь, свои радости и страдания. Ничего нет интереснее человеческого лица. Пейзаж вещь хорошая, но он не знает, что такое страдание, а без страданий не может быть и глубоких художественных работ. Я люблю море, восхищаюсь лесом, речками, но скажите, если в лесу или у моря разбойники на ваших глазах нападут на вашу родную мать, изнасилуют и убьют ее – разве лес или море хоть единым движением ответят на это? У природы нет ни души, ни сердца.
– Поэты и художники другого мнения, – вставляю я робко.
– Поэтам и художникам можно так же верить, как весной девятнадцатилетней девушке. Слушайте дальше. Кто на этом свете больше всех страдает? Бедные и нищие. Поглядите хорошенько на них – и если у вас сердце не замусорено всяким хламом – вы меня поймете. Только бедных и нищих должен рисовать художник. Только их. Их лица интереснее, богаче лиц богачей…
Голос его становится глуше, словно отодвигается он все дальше и дальше. Опять пауза. Шварцман долго вздыхает и, покачав головой, задумчиво прибавляет:
– Если бы у меня был талант, я бы, как ваш Рембрандт, рисовал только бедных людей. Он понимал, что такое красота и где ее нужно искать. Мудрый был человек.
* * *
Шварцман учил меня также умению жить и работать.
– Художник должен быть похож на ученого рабби, – неспешно говорил он, подбирая и обсасывая слова. – Он должен с утра до вечера си деть дома и работать. На разглядывание жизни и участие в ней он должен тратить только десять процентов. На еду, женщин и всякие другие удовольствия – тоже десять процентов, а остальные восемьдесят процентов должны идти на картины. Поняли, мой юный друг? Еще лучше, конечно, если художник на свою работу тратит девяносто процентов, тогда он на верное чего-нибудь добьется. У художника должно быть твердое, но не как камень, сердце и крепкий, ничего не боящийся желудок. С женщинами он может встречаться только раз в месяц.
– Судьба каждому дает только один золотой. И нужно суметь его бережно и умно использовать. Один себе накупит детских игрушек и сластей, другой вина и паюсной икры, а третий – книг, учебников и простого житного хлеба. Каждый человек имеет свою дорогу, свои ямы и свою непогоду. Скажите, что я не прав?
Он умолкает, смотря на меня с подчеркнуто нежной и иронической улыбкой. Наступает торжественная пауза. Выпив стакан чаю и неспешно вытерев свои прокопченные табачным дымом усы, он продолжает:
– Бог не вмешивается в такие дела. И не потому, что он стар и глух, а потому, что дела эти для него мелкие. Ум есть, глаза тоже – действуй по собственному разумению.
К концу его речи синие очки уже покоятся на горбатом носу. Он их бережно снимает и кладет на стол, рядом с сахарницей.
– Так, так, мой друг… Берегите вашу золотую монету. И, если будете тратить ее, десять раз подумайте над тем, чего целесообразнее купить. Помните – другой вы уже не получите.
Я пристально гляжу ему в глаза. Спокойным и неподвижным взором он встречает мой взгляд. Бледные старческие губы улыбаются.
– Еще выпьем по стакану хорошего чаю? – с чувством спрашивает он.
– Выпьем, – радостно отвечаю я.
В Париже
(1911–1913 годы)
Переход через границу
Приехав в местечко, расположенное рядом с Беловежской Пущей, я направился на вокзал, где находились люди, знавшие человека, к которому мне нужно было обратиться. Я выпил стакан чаю со сладкой булочкой и обратился к стоявшим в длинных пальто и высоких шапках людям.
– Не знаете ли вы Махновского? У меня к нему письмо.
– Есть такой, – ответил один. – Он здесь, на вокзале. Пойдемте со мной. Я вас с ним познакомлю.
И он познакомил меня с Махновским. Махновский прочел письмо и сказал: «Хорошо, идемте».
И мы пошли. Привел он меня на край местечка к большому дому с очень высокой черепичной крышей и сказал:
– Вы здесь отдохнете. Тут есть буфет и диваны. Я к вам приду, когда стемнеет, а пока всего хорошего.
Он ушел. В доме, куда я попал, было много народу, большей частью молодежь. Они сидели на своих чемоданчиках и пели революционные песни: «Вы жертвою пали».
Махновский пришел, когда были зажжены большие настольные лампы.
– Господа, – сказал он и почесал свою рыжую бороду, – через пол часа мы отправляемся в лес, к казачьему сторожевому посту. Идти придется долго. К вам покорнейшая просьба – не курить, не петь, стараться не кашлять… Не забывайте, что эта операция не безопасная. Все может случиться. Вас будет сопровождать опытный проводник – Борис Каминский. Все. Желаю вам успеха. Будьте здоровы и благоразумны.
Он ушел. Мы засуетились и начали готовиться к опасному походу. Ровно через полчаса нас стали выводить. Была тихая и равнодушная к нашим переживаниям ночь. Безучастно горели большие, почти белые звезды.
– Господа, – сказал Борис Каминский, – ходить будете гуськом, один за другим. Разговаривать нельзя.
Мы пошли. Впереди меня шел высокий старик с двумя мальчиками. Одного он держал на правом плече, другого, лет восьми, вел за ручку. На левом плече у него висела корзина с вещами.
Мы вошли в лес. В лесу было тихо и темно. Меня удивили огромные, необычайно высокие сосны. Казалось, что их верхушки касались звезд. Шли мы долго. Старик, шедший впереди, часто и глухо покашливал. Устав, он впал в раздражение и начал ругать Америку. Я взял одного из мальчиков и повел за ручку.
– Чтобы она сгорела, – слышал я, – эта Америка, с ее высокими домами и долларами. На кой черт она мне нужна? Разве я в своем городке плохо жил? Как сапожник я всегда имел работу и кусок хлеба.
Сосны равнодушно выслушивали его жалобы.
Через два часа наш проводник, обойдя нас, шепотом сказал: «Скоро казаки. Не курите».
И, действительно, скоро показалась опушка леса. Я почувствовал, что сердце мое сильно забилось. Мы вышли на полянку, где на фоне сине-голубого неба виднелись три силуэта верхом на лошадях. Слышно было, как один из них считал: «Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один». Я был двадцать вторым.
Затем показался глубокий пограничный овраг, куда я спустился вместе с другими. Там нас поджидали дородные и грубые немецкие солдаты. Они нас хватали за руки и кричали: «Давай на водку!» Мы останавливались, рылись в карманах, доставали деньги и давали им на водку.
«Родина, – подумал я, – осталась позади».
В этот тревожный момент грусть закралась в мою душу. Мне казалось, что я недостаточно нагляделся на мое любимое ласковое украинское небо, романтические степи и курганы. Надо было бы их зарисовать и в Париже, в часы тоски по родным местам, глядеть на них. Все время не покидало чувство, что в моей жизни наступила холодная пора. Когда я выбрался из оврага, я на минуту остановился и оглянулся. Позади была моя родина – Украина.









































