Текст книги "Одесса-Париж-Москва"
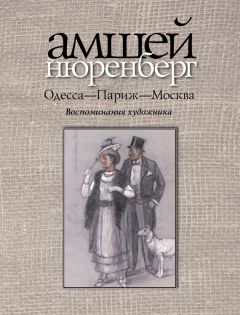
Автор книги: Амшей Нюренберг
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Скульптор Синаев-Бернштейн
1912 год. Дождавшись конца сентября, я надел вычищенное бензином летнее пальто, широкополую серую итальянскую шляпу и отправился в гости к моему меценату и учителю жизни, известному скульптору Синаеву Бернштейну.
Старый мастер жил в аристократическом районе Триумфальной арки. Этого требовали его богатые, тщеславные заказчики. Он имел большую, комфортабельную мастерскую и ежедневно увлеченно работал. В «Ротонде» поговаривали о том, что Синаев, под влиянием возрастных изменений, потерял вкус к скульптуре. Скульпторы в кафе «Ротонда» злословили. Синаев никогда не терял вкуса к скульптуре, без которой он не мог и дня прожить. Он хорошо знал и любил скульптурное ремесло. Легко работал. Мрамор, камень и глина охотно подчинялись его опытной руке. Он работал лично, без помощников (так называемых финитропов). Ему удавалось всегда улавливать сходство с моделью. Заказчики им были довольны. В салонах, в скульптурных отделах часто можно было встретить скульптуры в его стиле. Новаторством, как и все работы Синаева, они не блистали, но ярко свидетельствовали о большом мастерстве их автора.
Человек он был добрый, отзывчивый, но болезненно самолюбивый. Видно, тридцать лет неустанной борьбы за свое скульптурное место в Париже тяжело отразилось на его характере. Об искусстве с ним нельзя было говорить. Стоило мне коснуться какого-нибудь нового имени в скульптурном мире, Синаев вспыхивал и, перебивая меня, яростно бросал свои покрытые ревностью и злостью слова. Он не признавал новаторов, даже такого гения, как Роден. О его скульптурах он иронически говорил, что это «мешки с камнями». Не признавал он также Бурделя и Майоля, говоря, что это эклектики, наивные подражатели грекам. Особенно он ругал скульпторов, живших в Латинском квартале.
– Бездельники, страдающие манией величия! – цедил он.
Его раздражение быстро накалялось.
– Эти богемисты после нескольких лет жизни в вонючих отелях и кафе хотят получить орден Почетного Легиона и чековую книжку. Не выйдет! В Париже, дружок, надо десятки лет работать, как першерон, и тогда, – голос его театрально падает, – у вас будет право на деньги и славу. Легок труд только дельца.
Время от времени Синаев среди своей богатой клиентуры устраивал за двадцать франков мою картинку (сценки парижских кафе, я их писал на картонках). Мечтать о большой сумме я не имел права. Покупателей своих я не знал, да и не стремился с ними знакомиться. Долго и терпеливо ждал я дня, когда мэтр, торжественно сидя в высоком гобеленовом кресле, под сиявшим в золотой раме орденом Почетного Легиона, вручал мне двадцать франков! Какая большая сумма! Какое волнующее счастье – писать картины и продавать их в Париже!
Сколько, вспоминаю, головокружительных планов создавал я, сидя за угрюмыми и липкими столиками кафе! Воображение рисовало мне чудесные поездки в Италию. Удачные этюды. Персональная выставка у крупнейшего маршана. Восторженные статьи в лучших журналах и газетах. Директор Люксембургского музея интересуется моей биографией. На мне, конечно, английский, стального цвета костюм и лаковые туфли. Ежедневные завтраки, обеды, ужины. С Парижем и критикой – дружба. Пора заискивания перед ними кончилась. Какие блестящие планы!..
* * *
Однажды я отправился к Синаеву без корыстной цели. Просто посидеть в богатой мастерской и послушать старого парижанина. В кармане у меня позванивали три серебряных франка, и Париж мне не казался недоступным. Был весенний лилово-розовый вечер. С сердцем, до краев наполненным радостью, я блуждал по паркам и улицам. Внимательно рассматривал нарядную толпу, позеленевшие от парижских дождей памятники и фонтаны, выцветшие и облезшие афиши, пестрые витрины магазинов. Заглядывал в маленькие дворики, где неожиданно встречал удивительную классическую архитектуру. Жадно вглядывался в уже засыпавшие набережные и вдыхал остро пахнувший мулями и смолой речной воздух. Незаметно я попал в район Триумфальной арки, а, попав туда, я не мог не вспомнить о «Марсельезе» гениального Рюда. Меня всегда волновала эта крылатая, точно бурей охваченная, зовущая к победе женская фигура. Я полюбил ее. Бывали дни, когда я думал о ней, как о живой. Часто я приходил к ней поделиться неприятностями, горем. И она, казалось, успокаивала меня, обнадеживала. И сейчас, глядя влюбленно на нее, я ее приветствовал:
«Привет, привет, моя очаровательная возлюбленная!»
Я чувствовал, что она рада моему приходу. Отдохнув около нее, я пошел к Синаеву. Через минут пять я уже стоял перед темно-зеленой дверью, ведшей в знакомый, усыпанный розовым гравием дворик с могучими, гостеприимными каштанами.
Синаев меня встретил удивительно радушно. Ласково поздоровался и предложил свое любимое, обитое гобеленом кресло.
Поставил передо мной старинной работы ореховый столик, принес чашку ароматного кофе и серебряную вазу, доверху наполненную шоколадным печеньем, и, улыбаясь, мягко сказал:
– Угощайтесь, милый друг, и рассказывайте, что делается на вашем чудесном Монпарнасе. Только поменьше о богемистах, – добавил он.
На Синаеве был новенький, из тонкого полотна, рабочий халат. Ослепительной белизны модный воротничок. Глаза, как всегда, потухшие.
Я рассказал ему о первом шумном выступлении независимых художников-кубистов.
– Все это, – прервал он меня, – шарлатанство. Гешефтмахеры. Время их скоро развенчает. Пройдет пяток лет, и их забудут.
Упрятав неспокойную голову в широкие плечи, он зашагал по мастерской.
– Знаете, кто поддерживает этих молодчиков? – спросил он. – Не знаете? Маршаны. Хозяева парижской художественной жизни. Это он и создают новые модные школы, чтобы потом хорошо на них зарабатывать. Модный товар легче сплавить. Особенно иностранцам. Поняли, мой друг?
– Да, – робко вставил я, – но о них критика тепло отзывается, новаторами считает, будущность обещает…
Синаев склонил голову, глаза его налились кровью.
– Какая критика?! – прошипел он. – Никогда не говорите мне о критике. У нас нет критики. Есть маршаны и их агенты. Критика здесь ремесло, хорошо оплачиваемое. Я никогда не встречал опрятных критиков и никогда не видел честных маршанов.
Усилия излить как можно больше желчи утомляли его мысль. Синаев передохнул, и я, воспользовавшись этим, спросил:
– Неужели, дорогой мэтр, все парижские критики дельцы? И все они продаются?
– Да, все, – ответил он резко.
– Не верю, не может быть! – сказал я. – Вздор! Есть скромные и честные критики. Люди с большим, светлым умом и теплым сердцем.
Синаев посмотрел на меня с недоброжелательством, смешанным с жалостью.
– Не говорите мне об этих дельцах! – и, подавляя раздражение, он громко продолжал:
– Я их хорошо изучил. За дюжину устриц и бутылку вина они вам все напишут: что вы – Делакруа, Рембрандт и что ваши картины могли бы украсить Лувр… Все напишут, все. У меня с ними разговор короткий: вон из мастерской или…
Он улыбнулся. Это была улыбка, полная иронии.
– Или великолепный обед с коньяком и ананасами, – полушепотом добавил он. – С ними иначе нельзя. Очень важно, разумеется, быстро оценить стоимость шкуры пишущего.
Несколько минут он молчит.
Внимательно рассматриваю его работы. Бледно-желтые и голубоватые мраморы и серые камни, высеченные опытной, уверенной, но не взволнованной рукой.
Рядом со мной в мраморе бюст молодой женщины. Удивительно мягкое лицо с вьющимися, любовно отделанными волосами. Бюст был укреплен на высоком станке и торжественно возвышался над всеми другими скульптурами. Чувствовалось, что Синаев работу эту любил, высоко ценил и окружал гордым вниманием.
За открытым большим окном – парижский картинный закат.
Гаснущее желтое небо и пламенный шар, медленно и неохотно спускающийся за высокие лиловые крыши соседних домов. Потом шар исчез. Все скульптуры покрылись легким сумраком и потеряли свои очертания.
Порыв вечернего ветерка. Шевелятся занавески из прозрачной зеленой ткани. Запах каштанов, острый и сладкий, наполняет мастерскую.
Мы сидим неподвижно, восхищаясь наступающими парижскими сумерками. Момент поэтический.
– Какой великолепный вечер! – шепчу.
– Скажите, – спрашивает Синаев, – кто это критиканствует в «Парижском вестнике»? Не знаете, что это за тип?
– Знаю.
– Фамилия его настоящая?
Я назвал свою фамилию (Курганный – мой литературный псевдоним). Сумрак спрятал выражение его лица, но я почувствовал, что мое лицо сверлят два горящих изумленных глаза.
– Вот как! А я и не подозревал. Значит и вы, мой юный друг, критик! Критик! Критик! Хорошо! – повторял он.
С ним творилось что-то неладное.
– Идем в кафе! – вдруг воскликнул он. – Сейчас же! Нет, не в кафе, в ресторан.
И потом полушепотом добавил: «Пошли, пошли…»
Минут через пять мы уже шли по густо посиневшей сумеречной улице.
– Только не ломайтесь, мой друг, – слышу я голос, проникнутый сердечной дружбой. – Зайдем в недорогой, но чистенький ресторанчик. Терпеть не могу этих грязных и вонючих баров. Мы не собираемся кутить. Поужинаем. Только поужинаем…
Мы зашли в небольшой, уютный ресторан и сели за угловой столик. Ярко горели газовые лампы. Пахло скисшим вином, табаком и газом.
– Что вы любите, дружок? – спросил Синаев.
Из озорства мне захотелось ответить языком меню аристократического ресторана «Мирабо», но, подумав, я сказал:
– Жареный картофель, фасоль, мули.
– Что вы! Ведь это меню нищих, голодающих мазилок, – воскликнул он. – Поешьте, как следует, как настоящий парижанин.
– Гарсон! – и он начал шептать что-то быстро подошедшему и услужливо опустившему лысую голову официанту.
Впервые наблюдаю незнакомые суетливые жесты скульптора и думаю о тайниках его души. Кажется, что она, как земля в тундре, никогда глубоко не оттаивала. Сейчас холодное пламя коснулось и растопило только ее верхний тонкий пласт.
– Хотите, я научу вас пить и есть? – спросил он.
Я улыбнулся.
– Не улыбайтесь. Пить и есть – большое искусство. Да, искусство! Гарсон, принесите бокалы, бутылку вина и бутылку коньяку. Приходите в воскресенье, – шепотом заговорил он. – Поедем в Сен-Клу. Вы были когда-нибудь в этом чудесном городке? Париж в сравнении с ним – клоака. Вы любите провинциальные ресторанчики? Чудесные уголочки! Вот где можно сытно и вкусно пообедать. Покатаемся по Сене. Полюбуемся живописными берегами. Для художника – это большая радость! Ну, давайте чокнемся!
С подчеркнутой любезностью он подал мне бокал вина, до краев наполненный красным вином.
– За ваше здоровье! Только пить до дна! – произнес он.
Я вежливо кивнул головой. Рядом с нами группа пожилых, подвыпивших французов. Их горячие движения кажутся искусственными. Они дружно вполголоса поют модную уличную песенку «Мариетту». Завидую им. Едят, пьют вино и за это не обязаны писать статьи о скульпторах. Их шкуру никто не ощупывает и не оценивает. Счастливцы!
– Ну, пейте, мой святой Антоний!
После второго бокала голос его немного охрип. Лицо покрылось розовыми пятнами. Жесты стали сдержанными. Он тяжело дышал. Неожиданно он заговорил о родине:
– Скажите, дорогой, письма из России получаете? Очень хочется хоть одним глазом на миг взглянуть и подышать… Там, на моей Украине… тихие речки, мальва, аисты, арбузы… высокое небо.
Он задумался.
– Выпьем за украинское небо и мальву! – сказал он.
Выпили.
Пристально глядя на меня, с трудом передохнув от хмеля, он сказал:
– Поговорим о скульпторах. Знаете, мой дорогой друг, настоящая па рижская слава приходит к нам, когда сердце и желудок уже начинают сдавать. Ко мне имя пришло тоже, когда стукнуло пятьдесят лет. Теперь обо мне пишут, меня покупают… Имею орден Почетного Легиона. Я не могу жаловаться на свою судьбу, но… я устал и очень постарел. Не тот Синаев, который мог работать двадцать четыре часа в сутки. Не тот… Чтобы поддерживать свою форму – нужны силы, а их у меня очень мало… На Монпарнасе думают, что я пресытился милостями Парижа и теперь отдыхаю от трудов. Неверно. Работаю. Но мне, как старому актеру, нужно, чтобы два-три раза в году кто-нибудь аплодировал, чтобы моя фамилия появлялась в газетах. Помелькала. Публика быстро и охотно забывает своих любимцев. Поняли меня? Больше мне от критиков ничего не нужно. Ничего.
И, с необыкновенной для него мягкостью, добавил:
– Зачем вы занимаетесь критикой? Живопись лучше критики. Лучше быть голодающим художником, чем сытым критиком. Выкиньте за окно ваше перо и держите в руке только кисть.
И после молчания:
– Ну, давайте выпьем за безвестных скульпторов-тружеников! Пер шеронов, умирающих у станка от разрыва сердца.
Опять выпили.
Не докурив старой папиросы, он брался за новую. И, глядя мне в глаза, сказал:
– Вы хотите, мой юный друг, доказать, что не продаетесь и продаваться не будете? Так? Но ведь вы только вступаете на этот скользкий путь. Вы не знаете, каким будете через два-три года. Париж вас обязательно изменит. Вы не первый и не последний.
И, сдерживая себя, прибавил:
– Если вы себя считаете честным критиком, напишите о творческих страданиях, которые молодой скульптор здесь переживает. О борьбе, которую он здесь ведет, чтобы не погибнуть. Это страшная борьба. Понимаете?
И погодя:
– Напишите о моих провалах, неудачах. О том, как часто приходило ко мне опустошающее безверие. Вы знаете, что значит потерять веру в себя? Это замирание пульса. Путь к творческой смерти. Да, к смерти…
И прибавил:
– Вот в такой тяжелый момент суметь укрепить веру в себя. Надо уметь…
И после минутного молчания:
– Ежедневно работать, напрягать свою волю и ежечасно внушать себе – ты талантлив. Ты выйдешь на первую линию. Ты победишь. Работать даже тогда, когда работа тебе не приносит удовлетворения. Я не сдавался. Работал, как черт. Худел… Голодал… Хворал, но работал. Вокруг меня шумел Париж с его кафе, ресторанами, выставками, салонами, а я все работал. Критики об этом писать не любят и не умеют.
Синаев устал и смолк. 12 часов ночи. Сонный официант вежливо попросил нас уплатить за съеденное и выпитое и оставить ресторан.
– Мы закрываемся, – прошептал он.
Синаев достал бумажник и отсчитал следуемые деньги.
Еле держась на ногах, мы прошли меж опустевших столов и вышли на улицу. Повеяло свежестью осенней ночи. Тускло горели газовые фонари. Было тихо. Против нас, озаренный бледным светом окон ресторана, у дерева стоял фиакр. На козлах дремал толстый кучер. Его большой клеенчатый цилиндр съехал на бок. Под его усами чернела забытая тяжелая трубка. Шатаясь, Синаев подошел к извозчику и, с напускной развязностью, произнес:
– Довольно, друг мой, спать! Отвези этого охмелевшего богатого иностранца в его роскошный отель,… на улицу Сен-Жак в отель «Генрих Четвертый».
И, проворно сунув несколько монет в карман толстяка, бросил: «Смотри, не урони его! Он мне очень нужен!»
Я залез в фиакр. Он зашатался, задрожал и лениво поплыл по уже засыпавшим улицам. Убаюкиваемый ритмичным покачиванием, я быстро уснул.
Наступило воскресенье. Наспех побрившись и позавтракав чаем с сухарями и моим дежурным блюдом «бри», я отправился на Триумфальную площадь. Был серебряный поэтический день. Из-за легких облаков показывалось небольшое, тусклое, точно марлей затянутое, равнодушное солнце. Глядя на Париж, я вспомнил нежные пейзажи королей французского неба – Коро и Будена. У Арки Победы я остановился, поклонился моей любимой «Марсельезе». В тот день я особенно жадно и любовно вглядывался в нее, тайно мечтая о ее поддержке.
На ее больших крыльях, казавшихся бурей гонимыми облаками, слабо горел отблеск раннего осеннего неба.
– Как ты советуешь, мой кумир, – шепотом обратился я к ней, – идти мне к скульптору или вернуться в мой отель?
В глазах кумира я прочел: «Вернись в отель».
– Неужели тебе не жалко меня?
И я прочел: «Не пой Лазаря».
Я почувствовал себя пристыженным. Спорить с моим безжалостным кумиром было бесполезно. Постояв перед ним несколько минут в горестном размышлении, я прошептал: «Бездушная…» И, не прощаясь с ней, медленно побрел обратно в свой унылый отель.
Парижская весна
Весна началась и в России. Из русских газет я узнал, что Северная Двина уже вскрылась, что глубокий снег, выпавший недавно, и большая толщина льда предвещают бурный ледоход, «что на юге цветет клен остролистный, распускаются розы, вяз и желтая акация и что идет кладка яиц у хищников – сарыча и коршуна». Крепко запахло Россией. Эти вести так ярко передавали образ нашей весны – ее медленные, тихие шаги, ее полную и высокую, волнующую грудь, неисчерпаемую щедрость. Мне даже показалось, что от газетного шрифта, которым были набраны эти вести, несло легким запахом цветения. Чтобы быть в курсе того, как проходит у нас весна, я решил чаще ходить в студенческую библиотеку, где русских газет было сравнительно много. Кроме того, там по вечерам можно было получить стакан теплого, дармового чаю.
В Париже уже зазеленели парки. На черных ветках степенных каштанов распустились бледно-желтые листочки. Голубые, прозрачные тени окутывали дома, людей, одетых в легкие пестрые одежды. Забирались даже в сердце, усиливая пульс и изменяя походку людей и жесты. Асфальт высох. В памяти вставали парижские пейзажи Клода Моне и Писсарро, давших верный, исчерпывающий образ весенних, залитых веселым солнцем парижских улиц, бульваров и набережных. Можно ли после этих мастеров что-нибудь прибавить к их живописи? Сомневаюсь.
12 часов дня. Вся Франция сейчас ест и пьет, пьет и ест. Мне так мало нужно, чтобы участвовать в весеннем празднике. Мне нужны каких-нибудь два или три франка… и я – участник в весеннем празднике… Завтрак – шестьдесят или семьдесят сантимов, чашка шоколада в воротах утреннего Сен-Жака и сэндвич с ветчиной, потом обед в тесной и липкой обжорке «Мать с очками» из двух блюд – суп гороховый и фасоль с мясом.
Влюбленные
1912 год. Они появлялись на Сен-Мишеле, как только сумерки мягко окутывали бульвар легкой синевой, и шли вверх от музея Клюни к площадке Обсерватуар.
Они шли медленно, тихо и молча. Дойдя до «Египетского кафе» они останавливались, несколько минут рассматривали сумеречное небо и шедших вверх и вниз веселых людей. Потом они неторопливо усаживались на стоявшую против кафе под черным деревом равнодушную скамью. Склонившись к своему возлюбленному, девушка клала свою небольшую голову на его плечо, а он свою возлюбленную скульптурно обнимал. И застывали. Так они сидели около часа.
Яркий газовый свет, падавший из дверей и окон кафе, театрально их освещал. Я их хорошо рассмотрел. Лица – скромные, спокойные и простые. Резкие звуки джаза, вырывавшиеся из дверей кафе, и уличные песни подвыпивших художников и студентов, окружавших кафе, их не беспокоили. Потом влюбленные впадали в привычную и приятную дремоту.
Часов в десять, когда движение и шум на бульваре усиливались, возлюбленный крепко обнимал свою возлюбленную и оба засыпали. И казалось, что передо мной каменная глыба работы ранних греков. И веяло от них также чудесной скульптурой Родена «Поцелуй».
Все назойливее становился шум бульвара и кафе, душнее был, отравленный газом и вином, ночной воздух Сен-Мишеля, а они спали каменным сном.
Проходя мимо них, я всегда на несколько минут останавливался, пристально и с жаром их рассматривал и напряженно думал об их жизни, судьбе… Кто они? Чем занимаются?
Почему нужда их ежедневно гонит на ночной и пьяный Сен-Мишель? Как-то раз я близко подошел к ним. Мне хотелось проверить, шепчутся ли они между собой, но они крепко спали.
В другой раз, тронутый их таинственным, волнующим образом, я бросил им на колени несколько нарциссов, но никакой реакции не было.
Моя память, умеющая хранить и беречь прошлое, сохранила еще одну яркую сцену, связанную с этой влюбленной парой.
Однажды поздно ночью я возвращался домой и по привычке шел по Сен-Мишелю. Проходя мимо моих возлюбленных, я, конечно, не мог не остановиться, чтобы передать им мой сердечный привет. Глядя на них, я всегда ощущал радостное волнение, наполнявшее меня большой нежностью к ним. Я стоял и глядел на них.
И вдруг из кафе выскочила молодая женщина и, бросившись на соседнюю скамью, руками охватила голову и истерично стала орать: «Ma tete, ma tete!» («Моя голова, моя голова!»)
Ее обступила толпа. Начали ее успокаивать, но молодая женщина продолжала кричать. Ее страшный, пугающий крик раздавался по всему бульвару и, казалось, достигал черного неба и волновал сонные звезды.
Я поглядел в сторону моих окаменевших влюбленных. Меня интересовало, как они в этот момент будут реагировать, но они беспробудно спали.
Рисовать их было неинтересно. Это была бы только начатая глыба, которую скульптор собирался обсекать. Ни в одном парке или саду в таком виде ее нельзя было поставить. Она бы выглядела изолированной и полуживой.
Я рассказал об этих влюбленных Мещанинову. Он обещал пойти на Сен-Мишель ночью. Поглядеть на них и, «если захватит и увлечет», вылепить их.
Вылепил ли он их? Навряд ли.









































