Текст книги "Одесса-Париж-Москва"
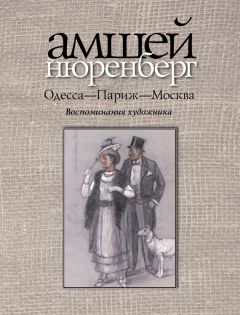
Автор книги: Амшей Нюренберг
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Старый парижанин Леон
У нас были друзья, не занимавшиеся живописью или рисунком, но вместе с нами делившие все тяготы искусства. Они никогда не читали книг по вопросам изобразительного искусства, редко посещали музеи, салоны, но были в курсе всех новостей художественной жизни Парижа. Хорошо знали все интимные стороны личной и творческой жизни Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Утрилло.
К таким друзьям принадлежал наш постоянный натурщик Леон. Его бесстрастное спокойствие во всех рискованных делах, какая-то ленивая самоуверенность в походке и жесте, а также хлесткая, ироническая фраза делали его не похожим на всех нас. Он обладал завидной способностью привлекать к себе монпарнасских натурщиц, видевших в нем своего бескорыстного и вернейшего друга. Они ему больше доверяли, чем своим любовникам. Он умел находить молочниц, отпускавших бедным художникам в кредит молоко, сыр-бри, шоколад, знал все женские монастыри, где по утрам можно было выклянчить чашку молока и кусок свежего хлеба, знал, где на барахолках можно было за какие-нибудь двадцать франков достать один только раз одеванный, модный, стального цвета английский костюм. Чего только не знал и не умел Леон?
Он умел находить интересных и талантливых людей. И был рад, почти счастлив, когда находил их. Ему нравилось бродить по улицам, паркам и бульварам (особенно Большим). Он любил долго и внимательно глядеть на живописные потоки фиакров, людей. Он посещал кафе, дансинги и обжорки. У него было много знакомых и друзей, с которыми он вел бесконечные разговоры и пил вино. «Ночные бабочки» его обожали. И часто угощали его вином и интимными историями. Он пробовал заниматься искусством, но оно не давалось ему. «А вот литературе я нравлюсь», – говорил он. Его дневники быстро заполнялись различными наблюдениями. Он их собирал как рабочий материал для романа, который писал уже два года.
Но все это ничего не стоило в сравнении с его беспримерным талантом находить деньги на улицах. Не отступавшая от Леона нужда, видимо, хорошо поработала над его зрением. Он мог на большом расстоянии увидеть валявшуюся где-то в мусоре под деревом маленькую серебряную полуфранковую монету.
Надо было видеть его в тот момент, когда он, как ястреб, кружился над своей добычей! Какое у него было выражение лица! Какие неописуемые движения!
У него была целая система искания подножных денег. Для своей охоты Леон выбирал предутренние часы. Наспех одевшись и захватив свою удивительную трость, он уходил на Сен-Мишель, стремясь попасть туда до прихода подметальщиков. Ему нравилась эта романтическая работа.
Бульвар еще спит. Дома, деревья, асфальт в росе, источающей свежую прохладу ночи. Только редкие подвыпившие пешеходы нарушают тишину.
Устроившись под первым каштаном, Леон закуривал папиросу и ждал рассвета. Как только предметы на асфальте становились различимыми, он брался за работу. Тонкая трость с острым наконечником в крепко сжатой руке. Шляпа надвинута на лоб. Рыбак ищет серебряных рыбок.
«Рыбками» Леон называл франковые и полуфранковые монеты. Острое зрение опытного натурщика, разумеется, ему очень помогало. Блеск рыбок он умел уловить на большом расстоянии.
* * *
На прошлой неделе Леону повезло, и он нас здорово угостил.
Прогуливаясь вечером после сентябрьского дождя по Монпарнасу, он заметил у водосточной трубы в небольшой лужице какую-то радужную бумажку. У Леона сердце застучало. Чтобы не возбудить подозрения у стоявшего почти у самой лужицы полицейского, Леон долгое время вертелся у находившегося рядом писчебумажного магазина. Он внимательно изучал портреты писателей и философов, выставленные среди чудесных лиловых конвертов и мраморных письменных приборов, сосчитал все проплывшие перед ним мокрые фиакры, выкурил несколько папирос, но полицейский стоял, точно бронзовая фигура, привинченная к асфальту.
Это начало уже надоедать, но тут на помощь пришло небо. Леону всегда везет. Откуда-то из-за крыш высоких домов налетели тяжелые тучи и начали славно обрызгивать бульвар.
Полицейский спрятался в дверях ближайшего кафе. Насвистывая веселую арию, Леон спокойно направился к трубе. Мокрая, испачканная грязью бумажка оказалась настоящей десятифранковой…
Поблагодарив жестом небо, счастливый Леон быстрым шагом отправился домой.
* * *
Вечером собрав нас, друзей, отвыкших от сытой жизни, Леон приказал следовать за ним. Мы ясно чувствовали, что он нас ведет на вечеринку, но делали вид, что не понимаем, в чем дело. Он нас привел в уютный монпарнасский ресторан, где кормились хорошо зарабатывавшие художники и их ленивые накрашенные подруги.
Побуждаемый чувством великолепия, Леон хотел показать нас Латинскому кварталу во всем блеске. И он нас показал.
Выбрав в глубине ресторана пустовавший уютный столик, Леон рассадил всех, как на свадьбе, и голосом человека, уставшего от милостей Парижа, громко бросил:
– Гарсон, меню!
И гарсон почтительно подал ему меню.
В такие часы лицо Леона казалось освещенным лучами утреннего солнца.
– Сегодня, друзья мои, – сказал он, – мы живем, как Ротшильды… Не отказывайте себе ни в чем!
Ну и кутнули же мы!
Коллекция Леона
Мелькнул знакомый силуэт. Леон! Его манера высоко и чуть набок держать голову. Да, это он! Может, у него выужу франк, в крайнем случае, пятьдесят сантимов – и двину к Ротшильду в гости. Вот уж поем этого пресного, как мел, но горячего и плотного риса! Вот уж на славу поем! Я его нагнал.
– Леон!
Он неохотно обернулся. Лицо его не сияло радостью. По его глазам я быстро понял, что он занят тем же, чем и я. Он ищет монеты, рассчитывая на весеннее настроение ворчливой Фортуны.
– Куда торопишься, Леон?
– На медицинский факультет.
– Зачем?
– Хочу медикам свой мозг запродать. Не возьмут мозг, тело предложу.
– Мало дадут, не советую.
Я ему стал доказывать, что французы народ скупой и мелочный.
– Да, не оценят, – соглашался он. – Ты прав насчет французов. Скуповатый народец. Правда, и туловище у меня не первого сорта. Ни кому я теперь не нужен, и ничего я теперь не стою. А было время, – с глубокой печалью добавил он, – когда в бумажнике моем лежали радужные, как сегодняшний день, бумажки и когда нижний этаж честно и бес перебойно работал. Куда же ты советуешь податься? Не на Марше-о-Пюс (Блошиный рынок) же мне поплыть. Там сидят нищие евреи, для которых пять франков – капитал. Черт знает, что такое! Не иметь франка, чтоб посидеть в кафе с таким другом в такой чудесный день!
Я шел рядом с ним, слушая его горячую, прыгающую речь. На углу Суфло мы остановились.
– Пойдем, сэр, ко мне, – важно сказал он мне. – Может, в моем скромном буфете найдутся еще сухарики… Выклянчим у хозяина отеля бутылку пива. Посидим, поболтаем. Как думаешь, сэр?
Я согласился.
Он жил на Сен-Жаке, 82, в старом и грязном отеле. Над покосившейся входной дверью висела ветхая и жалкая вывеска со смытой зимними дождями надписью: «Отель Генриха IV». С большим трудом мы одолели лестницу, кривую и темную, как ночной монмартрский переулок, и липкую, как рыбный отдел Центрального рынка. Леон громко и властно командовал: «Сюда, сэр, влево, держитесь крепче, мон шер, смелей!»
– Знай, Леон, – сказал я ему, переведя дыхание, – ты мне за эту лестницу заплатишь лишним сухарем.
– Ладно, сэр. Ну, вот и мой Пти Пале (Маленький дворец)! – провозгласил он торжественно.
Он отпер дверь. В нос ударила смесь крепких запахов несвежего белья, мочи и клопов. Грустная романтика хорошо знакомых мне нищих отелей. Комната была тесно заставлена старой рухлядью и казалась необитаемой. Точно склад старьевщика.
– Отдохнем чуть в этом прелестном уголке, – проговорил он усталым и разбитым голосом.
Я сижу в жестком нищенском кресле и рассматриваю владельца Пти Пале. Глаза человека, уже не считающего проигранных партий. Такие люди на удары Судьбы уже не отвечают и не обороняются. Они только стараются сделать удары не очень тяжелыми, для чего пользуются хорошо известным методом поставленного воротника. Лицо его, как всегда, чудовищно гладко выбрито. Редкие напомаженные черные волосы деликатно прикрывают стыдливую лысину. Под нижней, несколько выпяченной губой небольшая, но значительная морщинка – отпечаток забот и снисходительности. Шелковый галстук – черное с золотом. Воротничок утомляющей белизны. Трость камышовая с металлическим набалдашником, счастливо купленная у старьевщика на утренней Муфтарке. Природа с ним обошлась довольно дружески. Она его наградила редчайшим умением не скучно жить и ладить с нуждой. Мне нравилась в нем эта ценная способность.
– Где же твое миндальное печение? – спросил я его.
– Не торопись, мон шер, доберемся и до него. – Он встал, подошел к комоду с отбитыми углами и, насвистывая уличную песенку «Мариетту», выдвинул верхний ящик и запустил в него обе руки.
– Вот мое угощение, – сказал он. – Подойди ближе.
Я подошел к комоду. На дне ящика я увидел множество фотографий.
– Угощаю. Это все мои романы и увлечения за двадцать лет. Смотреть можешь, сколько хочешь. Только одно условие – ничего не брать.
Я дал слово.
Замусоленные, грязные фотографии. Видно было, что их часто брали потные, замаранные руки. Были и без углов, изодранные, с полустертым изображением. Я их стал внимательно перебирать, рассматривать. Груди, шеи, глаза, носы, шляпы, руки и ноги. Жирные, толстые, худые, костлявые. Богатейшая коллекция морд, лиц и личиков, от которой Домье и Доре пришли бы в восторг. Никогда в жизни не забыть мне ее.
– Неужели все они собраны тобою? – спросил я.
– Да, мною, – гордо ответил он. – Двадцать лет – понимаешь, друг мой. Двадцать лет! Это почти вся моя жизнь. Как тяжело думать сейчас об этом. Точно совсем недавно я их обнимал этими руками (он протянул свои костлявые большие руки), целовал вот этими губами (указательным пальцем он указал на свои влажные губы). Точно вчера я вдыхал запахи их кожи, волос… белья. Я как будто слышу их голоса, смех, плач… Живы ли они? Что с ними? Я только одну встречаю – Мари. Но эта, некогда чудесная, девушка чудовищно постарела. Какие-то руины! Тяжело глядеть на нее. Руины, руины… – уже забыв о моем существовании, твердил он про себя.
Спазмы голода и его истеричная речь меня утомили. Я почувствовал, как во мне росло и ширилось раздражение.
– Да, Леон, все они чудовищно постарели и служат консьержками в грязных, вонючих отелях, – говорю я, чтобы поддеть его. Его левый глаз прищурился, пряча вспыхнувший огонек злобы. Отвисшая нижняя толстая губа неприятно обнажила его вставные фарфоровые зубы.
– Старость – вот самая пакостная вещь! Как умно поступил Лафарг с женой. Ты знаешь, они, как только почувствовали, что старость их взяла за бока, – покончили с собой.
И, простирая ввысь руки, он придушенным голосом произнес благоговейно:
– Вот храбрецы!
Несколько минут он торжественно молчит, потом порывистым движением вытаскивает из ящика пачку фотографий и жадно разглядывает их. Затем он их патетически бросает на стол.
– Милые мои, дорогие мои, что с вами? Где вы? Вспоминаете ли вы меня?! – Голова его опускается над ними. Что-то шепчет им.
Я начинаю понимать, что никакого угощения не будет, что пиво с сухарями – это блеф, что Леон меня завлек к себе с тем, чтобы сделать из меня аудиторию, публику. Цель достигнута. Мы свои роли сыграли и теперь можем расстаться. Теперь он может спокойно собрать свою замечательную коллекцию и спрятать ее в комод в муфтарском стиле до следующего сеанса. Мною овладело сильнейшее раздражение. Я бросился на улицу. Нарядно одетая толпа плыла вниз по Сен-Жаку в сторону Сены. Когда я взглянул на дома и деревья, забрызганные густым, горячим солнечным светом, а потом поднял голову к расплавленному ультрамариновому небу – мне стало так легко, что я готов был простить ему все. Я даже готов был видеть в его коллекционировании возлюбленных один из видов сильнейшей, достойной уважения, страсти. Брать фотографии в руки, глядеть на них, переживать все сызнова, волноваться. Трогательно! Он, вероятно, потерял бы смысл своей жизни, если бы кто-нибудь украл бы у него эту чудовищную коллекцию.
Через минут пятнадцать я уже шагал по Сен-Мишелю. Мои глаза жадно вглядывались в сухой пыльный асфальт. Надо было спешить, чтобы не опоздать к миллионеру Ротшильду в гости!
Мать с очками
Это прошлое, несмотря на связанное с ним воспоминание о нужде, никогда не вело меня к разочарованию и горестям. Всегда окутанное радостным светом юного романтизма, оно меня воодушевляло, обогащая жизненным опытом и счастливым умением легко переносить трудности.
* * *
Утром нас разбудили надрывные крики молодых горластых газетчиков.
– Пропажа в Лувре знаменитой Джоконды! Исчезновение знамени той Джоконды!
Мы спустились из мастерской на улицу, купили газету и прочли:
«Вчера вечером луврская охрана, осматривая итальянские залы, обнаружила исчезновение величайшего шедевра старой итальянской живописи (“Монны Лизы”, прозванной “Джокондой”, которая была написана в 1503 году). Портрет Джоконды – работа гениального Леонардо де Винчи. Принятые сыскной полицией срочные меры по розыску пропавшего шедевра пока не увенчались успехом. Розыски Джоконды продолжаются».
– Сходим в Лувр, – сказал я. – Посмотрим, как парижане реагируют на это сенсационное событие.
Жак охотно согласился. Зашли в кафе, подкрепились и пошли в Лувр. Был яркий день. С привычным энтузиазмом сияло солнце.
Город жил своей обычной жизнью. Мы в Лувре. Зашли в опустевший зал Джоконды. Было много народу. Фотографы с непередаваемым усердием снимали возбужденную публику, одинокую, осиротевшую раму. Вор, очевидно, был искусный мастер своего дела. На раме не было ни одной царапины.
Лица парижан выражали печаль и скрытое возмущение.
В толпе выделялись два спорящих француза. Один в коричневой визитке с большой лысиной, другой – в голубом модном костюме и в кремовых гетрах. Мы близко подошли к ним и услышали, о чем они спорили. Француз в коричневой визитке с большой лысиной с неослабеваемым раздражением говорил:
– Джоконда обязательно вернется. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Ее весь мир знает. Ее никто не может продать, и никто не может купить.
Другой француз в голубом костюме и кремовых гетрах спокойно, со скрытой иронией говорил:
– Не вернется. Ее купит американский миллионер и спрячет. Попробуйте ее найти.
Быть в Лувре и не поглядеть на Веласкеса, Гойю и Рембрандта нам показалось грешно, и поэтому мы поспешили к великим немеркнущим старикам.
Мы долго-долго простаивали перед ними, стараясь вобрать в себя их неугасимый творческий жар и тайно мечтая о том, чтобы скопировать одного из них.
– Какая это школа для молодого художника, – сказал я, – копировать великого живописца. Недаром Мане больше проводил времени в музее, чем в академии. Кутюр ему ничего не дал, а Гойя и Гальс дали: определили путь и достижения. А сколько лет отдал Дега ранним итальянцам, когда жил в Италии!
Охваченные радостным волнением, мы в эти часы не чувствовали разрыва между надеждой и уверенностью. Наступил вечер, и в Лувре картины потемнели. Охрана нас попросила оставить музей.
Мы на улице. Пешком дошли до площади Сен-Мишель, и у фонтана увидели толпу. Подошли ближе.
В больших соломенных шляпах и широких испанских мантиях уличные музыканты. Трое поют, а двое на испанских гитарах аккомпанируют. Прислушались и были удивлены. Музыканты уже успели сочинить песенку о пропавшей Джоконде. Они пели так, будто песня приносила им большую, вдохновляющую радость, и трудно было поверить в их неискренность. Припевом к каждому куплету были трогательные слова: «Мне надоело жить в объятиях скучной рамы… Я не так стара, как думают парижане. Мне хочется хоть часок побывать на веселом Монмартре. Разве это большой грех?»
Песня о Джоконде окончена. Один из музыкантов снял шляпу и обошел с нею подпевавшую публику. В шляпу бросали мелочь. Кто сколько мог. Бросили и мы четыре су. Малик сказал твердо:
– Больше нельзя. На ужин не хватит.
– Послушай, дружок, – задумчиво добавил Жак. – Мы находимся около знаменитой обжорки «Мать с очками». Сходим туда и поужинаем? Мать обжорки нас накормит и утешит. Как ты думаешь?
– Сходим, – сказал я, стараясь скрыть свой голод. Ускорив шаг, мы направились в обжорку.
* * *
Обжорка находилась в одном из переулков района музея Клюни. Полутемный, унылый переулок. Из чувства гордой брезгливости солнце очень редко посещало его. Только гнилые дожди и серые туманы дружили с ним.
Над обжоркой висела большая желтая вывеска с синей надписью: «Мать с очками». По бокам входной двери, на двух больших окнах, висели потемневшие от времени полотняные шторы. Входная дверь была всегда открыта, и из обжорки неслись тяжелые запахи жареной картошки, лука и кровяной колбасы. Первый в обжорку вошел мой гид – Жак. Надвинув шляпу на лоб и приподняв воротник (такие здесь были для посетителей нерушимые традиции), Жак громко густым басом произнес:
– Месье, мадам!
Мать в очках ему ласково и протяжно ответила:
– Месье!
Мы деликатно поклонились, обошли мать с котлами и лесенку, на которой она стояла, подошли к большому столу и сели на стулья с высокими спинками. Вкладывая в слова уважение и торжественность, Жак бросил матери с очками:
– Шер мадам! Два супа, две картошки, две чечевицы, двое мулей (мидий) и два куска хлеба!
Мать повторила все это и уважительно подала заказанные, изысканные блюда.
Утолив голод, мы заметили, что против нас в поношенном черном сюртуке сидит бородач. Очевидно, нищий. Он свирепо на нас поглядывал и все время кого-то поносил. Из его отдельных слов и возгласов можно было понять, что мы виновны в пропаже Джоконды и вообще во всех бедах и несчастьях Франции.
– О, – воскликнул он истерично, – этих врагов – немцев надо вы гнать! К черту их!
Вдруг мать с очками быстро сошла с лесенки, подбежала к бородачу и, разливной ложкой крепко ударив его по лбу, громко выругалась:
– Старый дурак! Что ты пристал к молодым людям? Это мои друзья – русские художники.
И, поправив на носу свои прославленные позолоченные очки, она спокойно вернулась на свое обычное место.
Жак и я поблагодарили ее за дружбу и мужество.
– Не обращайте на него внимания, – мягко улыбаясь, сказала она. – Он, когда выпьет лишний стаканчик вина, любит к людям приставать.
С бородачом творилось нечто неладное. Он сильно заволновался. Вытирая рукавом свой лоб, он мужественно повторял: «Мерси, мадам!» Потом он подошел к нам и, низко кланяясь, стал извиняться:
– Простите меня, старого дурака! Пардон миль фуа (Тысячу раз простите), – повторял он. И голосом, внушившим нам желание обласкать его, он негромко сказал:
– Я русских люблю. И уважаю. Хорошие люди!
Мы его успокоили.
– Не волнуйтесь, шер месье, – сказали мы, – в жизни всякое бывает. Все люди ошибаются.
И, чтобы окончательно его успокоить, крепко пожали его красные опухшие руки. Он успокоился и вернулся на свое место.
* * *
Через три месяца Джоконду принес в Лувр работавший там столяр. Итальянец. Его арестовали и судили. Похищение Джоконды он объяснил патриотическим желанием забрать ее и передать в Италию как национальное богатство своей родины.
* * *
Жака – мужа матери обжорки – мы всегда видели в углу. Он стоял спиной к посетителям и угрюмо чистил картошку. Порой, когда эта однообразная, утомительная работа ему надоедала, он, чтобы заглушить свою тоску, негромко напевал парижские уличные песенки, а когда и они ему надоедали, он курил. Одну папиросу за другой. До одурения.
Мать обжорки редко и мало говорила. Простым словам она умела придать глубокий, волнующий смысл. Удивительно, что все, о чем она говорила, было окутано какой-то радостной тайной.
После разговора с ней мне всегда казалось, что ее счастье начиналось и кончалось в пределах добра, которое она людям делала.
И еще казалось, что вся ее жизнь – старание больше и лучше накормить голодных людей и что теперь, на пороге старости, она, думая, что недостаточно их кормила, спешит восполнить пропущенное.
– Ах, – как-то с налетом горечи сказала она мне, – если бы я вновь начала жить, я бы не жалела, как раньше, своего сердца. Моя счастливая жизнь, теперь я поняла – это расходование. А я экономила…
* * *
Работа хозяйки обжорки всегда была примером трудолюбия, простодушия и чувства самоотречения.
Часто после разговора с ней я уходил с желанием всегда работать и свои труды отдавать не только тем, у кого имеются деньги, но и тем, у кого есть искренняя любовь к искусству и доброте.
Вспоминая о матери обжорки, я часто думал, что судьба мне ее послала как милость.
* * *
В начале сентября был день ее рождения. Я и Жак написали для нее два натюрморта. Жак написал белую вазочку с красными тюльпанами и лимонными нарциссами. Я – голубое блюдо, до верха наполненное красными раками, и рядом с ними – толстую бутылку сидра. Мать с очками была в восторге. Целый час благодарила. Потом угостила нас устрицами и вином. Я усмотрел в этом черту великодушия.
* * *
Сегодня нужда опять погнала нас в обжорку. Десятый день, как мы не обедаем. Мы только завтракаем и ужинаем. Жак продал на Муфтарке все свои краски, а я – подарок отца, старинные часы. Мы ищем малярную работу, но ее очень трудно найти.
Я начал привыкать к «Матери с очками». Восхищен ее добротой и мягкостью. Я подчинился тому бессознательному чувству, которое движет человеком, когда он сталкивается с искренними и добрыми людьми.
Порой мне казалось, в ней есть что-то от матери Рембрандта. То же прощение жизни за все посланные ей страдания, те же великодушие и необычайная человечность.
* * *
У меня появилось желание написать ее портрет и выставить его в «Салоне Независимых». В ослепляющем белом чепчике и таком же воротничке. С разливной ложкой в руке: впереди нее – три котла с варевом. Особенное внимание решил уделить ее очаровательным рукам. Я ей сказал об этом.
Глаза ее мягко улыбнулись, щеки порозовели, и она ответила:
– Мон шер ами, у меня нет ни одной свободной минуты, чтобы позировать.
– Тогда разрешите мне сделать с вас во время работы несколько пастельных набросков.
– Пожалуйста.
Лицо ее с тонкими чертами было бледно и устало.
– Когда-то, – сказала она грустным и тихим голосом, – на голове у меня были темно-каштановые волосы, а рот был полон белых зубов.
– Но вы выглядите и теперь моложаво, мадам.
– Что вы! Что вы! – ответила она, смущенно улыбаясь. – Я так много в жизни работала, – прибавила она, – что даже не заметила, как ушла молодость и пришла старость.
* * *
Когда по цветным наброскам писал ее трудоемкий портрет, я много думал об удивительном трудолюбии французских художников, скульпторов и писателей. Я вспоминал их биографии и диву давался: как высок и силен был у них культ труда.
* * *
Я вспомнил своего друга – скульптора Жозефа Бернара, работающего по десять часов в сутки. Так работал и талантливый Бурдель. Гениальный Роден, чтобы не отвлекаться от работы, бросил курение. Великий Сезанн свыше сорока лет работал с утра до захода солнца, а за день до смерти мечтал о том, чтобы закончить портрет своего садовника. Мане свой первый шедевр, большое полотно «Завтрак на траве», создал, когда ему был тридцать один год. Основатель импрессионизма Клод Моне за летний сезон написал двадцать больших этюдов Руанского собора. Я внимательно изучил один из этих этюдов. В некоторых его местах я насчитал семь слоев густой краски. Это большая трудоемкая работа. Таков был труд отца новой импрессионистской техники! Не знал отдыха и одержимый, психически больной Ван Гог.
Биографы Делакруа рассказывали о нем много примечательного. Делакруа старался ничем не прерывать правильный ритм своей работы. Он почти всю свою творческую жизнь провел в мастерских. Сорок лет он жил уединенно, держа дверь на запоре, чтобы никто не мешал ему работать. Он ничего не ел до вечера, полагая, что натощак лучше работается. Так работал гениальный Делакруа, оставивший после своей смерти свыше двух тысяч замечательных работ. Французская общественность, чтобы исправить ошибку, допущенную в оценке его творчества, поставила ему в Люксембургском саду большой эффектный памятник и много его работ поместила в Лувр.
Тот же культ труда мы наблюдаем и у писателей. Мопассан ежедневно проводил за работой шесть утренних часов. После его недолгой жизни (он прожил 43 года) осталось свыше двухсот рассказов и романов. Так же одержимо работал и Золя, оставивший целую библиотеку своих трудов.
Готье рассказывал: «Единственная уступка, на которую Бальзак соглашался, и то с сожалением, это чтобы видеться с любимой женщиной по получасу в год».
«Я одурел от искусства и эстетики», – говорил Флобер.
Все большие французы были одержимы культом труда. Я понял, что только таким трудом можно было создать столь высокую и богатую культуру, которой увлекаются народы всего мира.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































