Текст книги "Одесса-Париж-Москва"
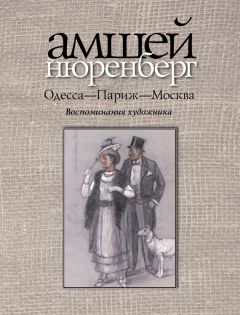
Автор книги: Амшей Нюренберг
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Первые дни в Париже
Когда стемнело, Федер сказал мне:
– Ну, дружок, поехали на Сен-Мишель. В кафе. Посмотришь ночной Париж, художников, студентов.
И мы поехали. Электричества в Париже еще не было. Горели газовые фонари, слабо освещая улицы. Дома мне показались высокими. Деревья стояли черные, мрачные. Накрапывал мелкий дождик. Фиакр, медленно плывший, остановился у ярко освещенного кафе.
Федер заказал кофе с молоком и круасаны (рогалики).
– Платить буду я, Амшей, – улыбаясь, сказал Федер.
«Я впервые сижу в парижском кафе и пью кофе», – подумал я. Против нас за столиком сидели три молодые женщины в больших шляпах и пестрых шарфах. Они поглядывали на нас, о чем-то шептались и улыбались.
Федер встал, подошел к ним и что-то шепнул одной из них. Потом вернулся ко мне и заявил:
– Дружок, это «ночные бабочки». Они сегодня безработные и голодные. Ты как иностранец, приехавший в Париж, должен их угостить. За кажи им кофе с круасанами.
И, глядя на меня, добавил:
– Ничего не поделаешь, такие здесь традиции.
Он заказал три кофе и круасаны, а я заплатил. Я пытался разглядеть этих ночных девушек. Бледные, усталые лица и худые руки.
– Ну, вот. Ты уже, можно сказать, приобщился к Парижу.
Струнный оркестр играл какую-то уличную песенку.
– Это самая модная теперь в Париже песенка – «Мариетта», – сказал Федер.
В углу сидела группа художников в плащах и шляпах и подпевала. Один из художников зарисовывал «ночных бабочек». Затем, вырывая из альбома листы, дарил их девушкам. Они улыбались и прятали наброски в сумочки.
В двенадцать часов ночи мы вернулись домой.
– В Париже сейчас открываются ночные кафе, но после дороги ты устал, и я познакомлю тебя с ними в другой раз, – на прощание сказал Федер.
Утром Федер повез меня в Латинский квартал искать дешевый отель. По узким улочкам он привел меня в отель. Договорившись с хозяйкой, я уплатил аванс. В номере остро пахло гнилой бумагой и сыростью. Одно небольшое окно выходило на улицу против столовки. В номере стояли стол, стул, этажерка и кровать старомодной формы. Вся мебель, вероятно, была наполеоновских времен.
Осенние миниатюры
Она поправила выбившиеся из-под небольшой шляпки, похожей на ежа, золотистые волосы и упрямо, как-то жестко сказала:
– Я не принимаю никаких угощений, подарков. Ничего есть не буду. И пить не буду.
– Да почему?
– Так. Не все ли равно – почему. Впрочем, быть может, после того, как привыкну к вам… но теперь ни за что.
– Странно. Ничего не понимаю. Но ведь я вас целовал. Все ваше тело целовал. И как! Неужели вам неприятно пить мое вино и есть мой шоколад? Или аппетит у вас – интимная тема?
– Вы – глупенький. Тело мое меня не делает рабыней, а вот ваше вино или деньги или подарки – сделают. Попаду в петлю!
Мы сидели в одном из тех мрачных кафе, где мысли приходят в голову, окутанные прозрачным крепом и ароматом осеннего разложения, где желания и воспоминания о прошлом галлюцинируют. Были поздние, холодные сумерки. За темными окнами два лиловых силуэта то сливались, то разбегались. Где-то кричал пароходик. И его короткий, подавленный крик был похож на крик больного ребенка.
Она тихо, точно молясь, рассказывала:
– Он был богат. Немного добр, немного умен, немного романтичен, но больше всего хитер. Одевался со вкусом, с тем вкусом, который при обретается, чтобы привлекать легкомысленных, быстро запоминающихся женщин. Это было полное рабство портного, шляпочника и сапожника. Любил яркие, сильно пахнущие цветы. И, кажется, усердно читал новых поэтов. Все.
Как-то находясь в его вычурной комнате, украшенной гравюрами и офортами новейших художников и японской лакированной мебелью, он, нежно обняв меня, торжественно произнес: «Дорогая, я тебя никогда не оставлю. Я сделаю все для тебя. Только позови».
Я тогда загадочно улыбнулась и в честь такого живописного восклицания предложила съездить в Версаль и там пышно поужинать.
Он красиво согласился.
Пять месяцев спустя я вспомнила об этой романтичной фразе. Женщины великолепно помнят подобные фразы. К тому же я была больна. Лежала в скучной и одинокой комнатке, которая на меня действовала как нищета. Я встала, подошла к окну. Крыши, покрытые ярким, изумрудным мхом, бытовые трубы, похожие на забытые памятники, развешанное кем-то пестрое белье на сильно натянутой веревке – все мне показалось безнадежным и мертвым. Невероятная усталость, а главное, бессилие заставили меня опять лечь.
Вечером я ему позвонила. Его голос словно изменился. Мне показалось, что говорил не он, а его брат, двойник.
Голос сказал мне: «Милая, сегодня не могу. Завтра буду. Что с тобой?»
На следующий день он явился. Причесанный, выутюженный. Поцеловал с достоинством, похожим на приговор, мою побелевшую руку. Долго глядел на мое бледно-кремовое одеяло, на котором лежал носовой платок. И сказал: «Милая, что с тобой? Фи, как это нехорошо».
Я искусала губы до крови. Потом, сделав отчаянное усилие над своей волей, я прошептала: «У меня нет денег».
Он по-княжески всунул в жилетный карман два выхоленных пальца и вытащил новенькую двухфранковую монету.
Мои губы были влажны от крови, и я чувствовала, как отдельные капли стекали на дрожавший подбородок. Он заметил это и спросил, почему на губах моих столько крови. Я его быстро успокоила, заметив, что у меня лихорадка.
«Пустяки», – сказала я.
Я лежала как бы в беспамятстве и думала, как быть с новенькой монетой. Ах, Боже мой, как мне было тяжело! Я никогда не забуду этого дня. Я сразу постарела на несколько лет. Спрятать монету – подумает, что я из нужды взяла. Бросить на пол и расхохотаться – получится слишком драматично. Швырнуть в его мерзкое лицо и вдобавок плюнуть в его темно-зеленоватые глаза – скандал и черт знает что. Я спрятала.
Через две недели я получила небольшой белый конвертик. Мы встретились в Люксембургском саду. Был пасмурный день. Мы остановились возле театра марионеток для детей. Он мягко, как-то неприятно заговорил. Я небрежно отвечала, избегая его взгляда. Вдруг он решительно повернул ко мне лицо. Я не выдержала.
Быстро вырвала из моего ридикюля новую монету, обжигавшую мне душу, и со всего размаху швырнула прямо в его лицо. Бросилась бежать. Когда я, усталая и разбитая, вернулась к себе – силы совершенно меня оставили. И я заснула. В кровати я пролежала после этого ровно два месяца.
Вот почему я не принимаю никаких угощений. Не ем и не пью с мужчинами. Ну, а тело – тело для меня ничего особенного не представляет. Я его не чувствую.
Пароходик еще кричал. Два силуэта погасли и слились с ночной синевой.
Знакомство с импрессионистами
Было около десяти часов утра, когда мы вышли из кафе «Египет» на улицу, где свирепствовала парижская зима.
Холодный, сырой ветер стегнул по глазам. Над крышами приунывших домов быстро неслись тяжелые темно-серые тучи. Пахло снегом.
Мы надвинули шляпы на лоб, подняли воротники и, сгибаясь от ветра, скорым шагом направились в Люксембургский музей.
– Какая непоэтичная зима в вашем Париже, – сказал я.
– Да, – отвечал Федер. – Не русская романтичная зима! Но в парижской есть свои прелести. Разве движение людей и мокрых фиакров по заснеженной улице – плохой мотив? Моне и Писсарро зимний Париж передавали с суровой красотой. Возьми Нотр-Дам, когда он покрыт снегом! Поживешь несколько лет и поймешь красоту серого колорита. Поэт Волошин сказал, что символом Парижа является серая роза.
Когда мы подошли к Люксембургскому музею, Париж побелел. Тяжелыми влажными хлопьями падал снег.
– Через час-два его уже не будет, – с грустью сказал Мещанинов. – Останутся тучи и лужи.
Поглядев на моих милых гидов, я вспомнил сценку из елисаветградского свадебного быта – проводы сватами жениха и невесты. Я – жених, очаровательная «Олимпия» – невеста, мои добрейшие друзья Мещанинов и Федер – сваты.
Мы в музее.
Счистили с себя мокрый снег. Пальто и шляпы сдали сонному гардеробщику.
– И охота вам в такую погоду шляться по музеям! Сидели бы в кафе, – проворчал он.
Мигнув в мою сторону, Федер ему сухо ответил:
– Завтра этот молодой американец уезжает в Нью-Йорк.
– Понятно, – сказал гардеробщик.
Мы в залах импрессионистов.
Заговорил наш прославленный гид, искусствовед и оратор – Мещанинов.
– Ты, Амшей, обрати внимание на Мане, Дега, Ренуара и Сезанна. Если их изучишь, ты будешь знать импрессионистскую живопись. Франция ими гордится. И справедливо. Все – великие, и все – разные. У каждого своя композиция, свой колорит и свой рисунок.
Он меня подвел к картине Ренуара «Девушка, читающая книгу». Искусствоведы и художники считают эту работу шедевром.
Я прилип к Ренуару – лучшему колористу современной французской живописи. Впечатление от «Девушки, читающей книгу» было такое, будто это не живопись, а музыка в красках.
Долго я восхищался ренуаровским творчеством.
Потом мой милый гид потащил меня к Сезанну.
– Сезанн, – сказал он с большим жаром, – это великий новатор. Он открыл новый путь для художника, и нет ни одного нового течения в живописи, которое не пользовалось бы его принципами. Я – скульптор, – добавил он, – но многое взял у этого великого мастера.
Потом мой гид повел меня к Мане. У меня пульс повысился. Наконец я увижу великого Мане!
– Этот мастер, – сказал Мещанинов, – сумел взять у Гойи, Веласкеса, Рембрандта и Гальса все лучшее и соединить это с творчеством Моне, Сезанна и Ренуара.
Я долго любовался его портретами: «Флейтистом», «Золя», «Женой Мане за роялем».
И вдруг я почувствовал, что Мане на всю жизнь мой кумир. Мой учитель. Он, как никто из импрессионистов, сумел показать современного человека. Историки Франции будут изучать нашу эпоху по его портретам.
Почувствовав усталость, Мещанинов предложил сделать перерыв. Сходить в кафе, а потом направиться к «Олимпии». В Лувр.
Федер и я согласились. Так и сделали. Мы опять на улице. Опять спешащие на юг тяжелые мрачные тучи и запах снега. Мокрый асфальт. Фиакры с характерными, добродушными парижскими лошадками.
Мы в Лувре. В зале импрессионистов. С волнением подошли к «Олимпии». Здесь выступал уже мой второй гид – Юзя Федер.
– 97– Хорошо, – улыбаясь сказал он, – что мы после холодной улицы пришли к этой «девушке». Она нас вдохновит и согреет. Бонжур, ма шери! – Приветствовал он ее.
– 98– Говорят, – прибавил Федер, – что это не богиня и не классическая красавица, а девушка с центрального рынка, продавщица устриц и мулей (мидий). Пусть! Я готов всю жизнь стоять перед ней и любоваться ее внешностью.
– Смотри, дружок, – сказал он, обращаясь ко мне, – перед тобой шедевр из шедевров! Смотри внимательно! Это лучшее произведение импрессионистской школы. Постарайся вобрать в себя новую, современную, демократическую красоту!
Я старался вобрать в себя красоту. Но это за одно посещение зала импрессионистов было невозможно. Сюда надо раз десять приходить с альбомом и, елико возможно, копировать «Олимпию». Копировать отдельные части ее непередаваемой фигуры: голову, руки, ноги. Потом – негритянку. И даже букет. Он тоже написан в стиле Мане.
После «Олимпии» мы пошли поглядеть «Завтрак на траве». Эта работа находилась в декоративном отделе Лувра.
Большая картина. Написана она была, когда мастеру было тридцать один год. Как большинство работ Мане, она была навеяна музейной классикой – рисунком Рафаэля.
Полотно с большим душевным накалом, тактом и умом.
Уже темнело, и холст казался покрытым темной вуалью. Надо было свой поход к импрессионистам закончить. Я обнял моих двух гидов, расцеловал их, поблагодарил за внимание, доброту и любовь. Пожал им руки и ушел в отель.
– Какое огромное значение, – подумал я, – в Париже иметь культурных и душевных друзей! Можно ли здесь без них жить и творчески расти?
Письмо из Франции (1911 год)
В Осеннем салоне выставляются художники, имена которых у молодых художников вызывают большое уважение. Здесь наиболее яркие и тонкие колористы. Затем существует еще Зимний салон. Это наиболее старомодный, консервативный.
Он обслуживает финансовую буржуазию. Картины здесь в богатейших рамах и с салонными сюжетами. Больших, ярких имен сейчас в Салонах нет. Старожилы говорят, что сегодняшний год скучный. В Осеннем нам понравились работы Аминжана и Симона.
Из Парижа мы часто получаем письма с подробным описанием художественной и бытовой жизни великого города. Это нам пишут наши старейшие друзья, окончившие в 1908 году Одесское художественное училище, – Фраерман, Мещанинов и Матинский. Мы знаем, какие в этом году в Париже открылись салоны, как они называются и что в них выдающегося. Самый обширный и интересный из них называется Салоном «независимых». В нем около трех тысяч работ всех школ и стилей. Вносишь 25 франков и получаешь место – квадратный метр. Жюри нет, выставляешь, что хочешь. Потом идет Осенний салон, где выставляются более новаторские, влияющие на молодежь силы.
Мы в курсе того, о чем говорят в знаменитом кафе «Ротонда». Знаем, какие там вкусные кофе и сэндвичи (бутерброды). Мы знаем, где можно и вкусно, и сытно пообедать за один франк. Недавно узнали, где находится милейшая обжорка «Мать с очками».
В «Парижском вестнике»
1911 год. «Ротонда» – это не только кафе на Монпарнасе, где художники встречаются с друзьями и знакомыми и пьют кофе.
«Ротонда» – это своеобразная биржа, где художники находят маршанов[1]1
Marchand – торговец (франц.).
[Закрыть], которым продают свои произведения, находят критиков, согласных о них писать. Но особенно «Ротонда» замечательна тем, что там можно встретить людей из стран всего мира.
Какие интересные, порой головокружительные знакомства бывали у меня в этом кафе! В «Ротонду» приходили люди из Северной Америки, Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии и других стран. Они приезжали в Париж, чтобы узнать о новых тенденциях в живописи, скульптуре. И, конечно, о новых, разрекламированных прессой талантах. Эти люди с удивительной настойчивостью обходили музеи и мастерские, а потом отдыхали в «Ротонде».
В этом кафе я познакомился с редактором русской газеты «Парижский вестник» – эмигрантом Белым. Человеком с бледным, усталым лицом и мягкими движениями.
Внимательно разглядывая меня, Белой сказал:
– Ваш друг Федер рекомендовал вас как молодого, но опытного художественного критика. Я обрадовался. Мне нужен такой сотрудник. Согласитесь ли вы работать в моей газете?
– Соглашусь.
– Скажите, месье, ваша основная профессия?
– Художник. Художественная критика – мой отхожий промысел.
Продолжая внимательно меня разглядывать, он сказал:
– Я вам сейчас сделаю пробный заказ. Хорошо напишите – будете у меня работать.
И, погодя, добавил:
– Три дня тому назад открылся «Салон независимых», в котором участвуют нашумевшие художники – кубисты. Сходите в салон, посмотрите их и напишите статью. Строк двести. Хватит.
Потом он быстро добавил:
– Сегодня вторник… В пятницу, в десять часов утра, я вас жду со статьей. Адрес редакции – ул. Риволи, 24, пятый этаж. Запишите, забудете.
Я записал.
– Желаю вам успеха! – и, мягко пожав мне руку, ушел.
На другой день утром я понесся на Сен-Мишель. Купил бутылку чернил, большой блокнот, плитку сыра «бри» и, для поднятия вдохновения, бутылку пива.
Позавтракав, я отправился поглядеть творчество нашумевших кубистов.
«Салон Независимых» – это длиннейший, дощатый, с полотняной крышей сарай. Свыше пятидесяти залов, густо увешанных картинами.
Чтобы не рассеивать зря свое внимание, я решил сразу направиться к кубистам.
Охранявший порядок в салоне полицейский сказал мне, что кубисты висят в конце салона. Я туда направился,
В первый раз я обегал кубистов, стараясь получить о них общее впечатление. Во второй раз медленно разглядывал каждое полотно. И в третий раз я уже с записной книжкой долго стоял перед каждым полотном, стараясь понять его внутреннюю сущность и технику. Особенно меня интересовала работа изобретателя кубизма – большого, талантливого художника Брака. И тут я вспомнил замечательную фразу великого философа Баруха Спинозы: «Я не огорчаюсь, не радуюсь – я стараюсь понять поступки людей».
Я мог, конечно, о кубистах юмористично написать или резко раскритиковать их, но что это дало бы читателю? Ничего. Читатель хочет понять мотивы кубистов. Узнать, какими идеями они руководствовались, когда работали?
И я должен помочь ему.
Я вынул записную книжку и записал все пришедшие мне в голову мысли. Записал также фамилии всех кубистов: Брак, Пикассо, Делоне, Глез, Метценже, Леже и Лефоконье.
Меня интересовало, как парижские зрители относятся к творчеству кубистов. Я знал, что французы народ эмоциональный, быстро и живо реагирующий, и потому не отходил от кубистов, стараясь подслушать, что о них думают и говорят.
Большинство зрителей, постояв несколько минут около полотен, с иронической улыбкой шло дальше вглубь салона. Но были и такие, которые громко реагировали. Слышны были ругательства, насыщенные веселым цинизмом. Скандальных явлений, как во времена первых выставок импрессионистов, я не наблюдал.
Парижская публика, очевидно, уже привыкла к любым шумным выступлениям «левых» художников и равнодушно поглядывала на их творчество.
Когда я почувствовал, что голова моя устала и отказывается работать, я попрощался с кубистами и вернулся в отель.
Опорожнив бутылку, я взялся за литературу. Когда брал в руку перо, я всегда вспоминал Эдмона Гонкура. Он хорошо знал творческие страдания литератора. Вот, что он писал:
«Какой счастливый талант художника по сравнению с талантом писателя. У первого приятная деятельность руки и глаза, у второго – пытка мозга. Для одного работа – наслаждение. Для другого – мука».
Итак, передо мной пытка мозга.
* * *
Положив на стол новенький блокнот, я задумчиво поглядел на висевшую над столом большую фотографию. Это была знаменитая греческая скульптура – богиня победы Ника.
– Моя любимая Ника, дорогая богиня, – прошептал я, – помоги осилить эту тяжелую статью…
Я смело взял ручку и начал писать. Я заглядывал в записную книжку и выуживал из нее удачные мысли, записанные мною, когда я изучал кубистов. Я отогнал налетевшую усталость и внушил себе мужество. Я не сдавался. Под утро, окончив статью, я встал и подошел к открытому окну подышать ночным свежим воздухом. И отдохнуть.
Улица еще спала. Над синевшими крышами погруженных в глубокую дрему домов висело тревожное бледно-желтое облачко – отсветы парижских огней.
Подышав ночной свежестью, я вернулся к столу, собрал нервно написанные блокнотные листы и пронумеровал их. Было девять страниц! Что же, неплохо… Статья написана. Понравится ли она редактору? Читателям?
Мне кажется, что главное схвачено. Есть тема, характеристика, композиция и неплохой язык. Но это мое мнение… Оно не решает судьбу статьи!
Разглядываю ночную улицу Сен-Жак и думаю о ее мрачной истории. Порой усталый мозг рисует мне толпы черных теней. Они приближаются к отелю и тают. «Кто они? Зачем они приближаются к отелю?» Недавно мой приятель-эмигрант, директор русской Тургеневской библиотеки, знаток истории Парижа, рассказывал мне, что на нашей улице было расстреляно тысячи коммунаров и среди них известный прокурор Рауль, которого называли совестью Коммуны… Никогда не думал, что такая тихая, беспечная улица и такая кровавая история… Оказывается, что камни, по которым я хожу, в крови… Надо отсюда удрать…
В пятницу, в десять часов утра, я уже был в редакции «Парижского вестника». Редактор меня принял с подчеркнутой любезностью. Он взял у меня статью и голосом, полным дружеского тепла, сказал:
– Вы аккуратный месье. В газетной работе это немаловажное достоинство.
Потом он увлекся статьей. Читал он быстро. Я подумал: «При таком чтении не все у него останется в памяти». Выражение его лица казалось доброжелательным. Жесты были спокойны.
– Ну, что же, – сказал он врастяжку. – Неплохо. Она пойдет. Вы у меня будете работать.
Немного спустя, добавил:
– Ваш литературный псевдоним?
– А. Курганный.
– Хорошо, месье Курганный. Несколько слов об оплате вашего труда.
Я насторожился.
– За большие статьи будете получать семь франков, за малые – пять.
– Маловато, месье Белой.
– Да-а-а, – протянул он. – Деньги небольшие, но учтите, месье Курганный, газета существует на средства эмигрантов.
И, помолчав, добавил:
– Могу вам предложить еще одну работу – корректуру в нашей типографии. Это еще пять франков. Вас, месье, устраивает?
– Как вам сказать, месье редактор? Не очень…
– Это все, что я могу для вас сделать.
Я сухо поблагодарил его, сказав, что он принадлежит к редкой категории добрых людей. Получив в кассе семь франков, я ушел. Белой догнал меня и на ходу сказал:
– Делаю вам второй заказ… Напишите статью о тротуарных художниках, об «Орде».
– Хорошо.
– Тоже в пятницу, к десяти часам. Договорились? Желаю вам успеха.
– Благодарю вас.
И разошлись.
* * *
Вот что я написал о кубистах.
Отцом кубистов следует считать не Брака, а Сезанна. Брак только развил известную формальную идею Сезанна: «Трактуйте природу посредством цилиндра или шара и конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана была направлена к центральной точке». Брак довел эту идею до логического предела, придав ей объективный характер.
Название «кубизм» это течение получило совершенно случайно, как случайно получил свое название импрессионизм. На том же основании открытие Брака можно было назвать «цилиндризмом» или «шаризмом».
В основном, кубизм является реакцией против импрессионизма.
Импрессионизм – школа, существующая уже около ста лет. Школа, выросшая на открытиях ряда великих художников Ватто, Тернера, Бонингтона, Делакруа и Моне, знаменитых спектральных открытиях французских физиков. Школа, научившая художника чувствовать и выражать современность.
Импрессионисты развили и расширили палитру, дав новое звучание слову «цвет». Художники начал писать красками всего спектра. Стали использовать желтые, оранжевые, красные, зеленые, лиловые и особенно синие краски (передающие глубину воздуха).
Кубисты упростили палитру, оставив только землянистые охры, умбру и черную краску. Краски, нужные для характеристики формы. Сезанн не был таким кубистом. Его палитра – одна из богатейших в истории живописи. В своих выступлениях кубисты заявляют, что они стремятся создать искусство, где основой будет поэзия формы. Они говорят: «Импрессионисты показали поэзию цвета, мы покажем поэзию формы». Красивые слова. Я глядел на полотна Глеза, Метценже и Лефоконье и искал в них хоть слабые следы поэзии, но их не нашел. Это только технические опыты, которыми кубисты человека с его страстями, радостями и страданиями никогда не передадут. Кубисты помышляют писать портреты. Но это им противопоказано. Они отказались от линии и разрушили контур. Их тематика очень бедна. Тематика отца кубизма Сезанна велика и богата.
Заслугой кубистов являлось их постоянное стремление придать фактуре живописное значение, но и тут они показали себя бессильными. Часто, когда не хватало живописных средств, они прибегали к помощи реальных предметов и вещей, наклеивая их на холст. Таким образом, живопись была как бы дискредитирована.
* * *
В воскресенье рано утром я поспешил к ближайшему газетному киоску. Продавщица в черной пелеринке и темно-коричневом чепчике старательно раскладывала на щитах свежие газеты.
– Скажите мне, пожалуйста, мадам, – обратился я к ней, – русская газета «Парижский вестник» у вас имеется?
– Имеется, месье.
– Сколько номеров их у вас?
– Три, месье.
– Дайте мне, пожалуйста, все три номера.
Она на меня добродушно поглядела, улыбнулась и сказала:
– Вероятно, в газете о вас пишут?
– Вы, мадам, не ошиблись.
Газеты я крепко держал в руке, точно кто-то пытался их у меня вырвать. Выйдя на бульвар Араго, я сел на скамью, развернул одну из газет и с усиленным пульсом прочел свою статью. Никаких редакционных поправок. Как это приятно! У меня было такое ощущение, точно счастье в моем боковом кармане. Я поглядывал на плывущие надо мной утренние облака, и мне почудилось, что они окрашены в необыкновенные, праздничные тона.
Вечером в «Ротонде» меня уже нетерпеливо ждали друзья. Увидев меня, Федер весело бросил:
– Амшей, мы тебя и вина ждем!
– Рад вас угостить, – сказал я, – только к вам просьба. Пощадите! Не разоряйте меня! Я еще не богат.
Федер встал и, высоко подняв стакан красного вина, вдохновенно сказал:
– Я пью за молодого и пока еще скромного и честного критика… Верю, что он не изменится!
После выпивки я им подробно рассказал, как писал статью.
Друзья дружно смеялись.
В тот же исторический вечер в «Ротонде» Федер меня познакомил с известным художником, старым парижанином – Александром Альтманом.
Узнав, что я автор статьи, помещенной в «Парижском вестнике», он подсел ко мне и, внимательно вглядываясь в мое лицо, сказал:
– Хочу вас пригласить в мастерскую и показать свои работы. На деюсь, что вы придете. Вот вам, – добавил он, – моя визитная карточка. Жду вас завтра в четыре часа. Когда еще светло.
Я обещал прийти.
* * *
В среду, в три часа я направился к Альтману. По дороге встретил Федера.
– Куда, дружок, торопишься?
– К Альтману.
– Не ходи.
– Почему?
– Пожалеешь. Он тебя утомит и замучает рассказами о себе. Больной человек. Он может целый день говорить о творчестве Александра Альтмана. Эгоцентризм в редкой форме. Все мы его боимся. Избегаем. Как только к нашему столу подсаживается – удираем.
Я Федера поблагодарил за информацию.
В четыре часа я был у Альтмана. У него была большая, великолепная, со стеклянным потолком мастерская. На стенах висели старинные ковры и в золотых рамах его работы. Посредине мастерской стояли два больших винтовых мольберта. В углу стоял небольшой стол с двумя креслами. На столе красовались две с пестрыми наклейками бутылки и в дорогих блюдах закуски. Альтман взял меня дружески под руку и с преувеличенной любезностью сказал:
– Дорогой месье Курганный, посмотрим мои работы и поговорим о них.
Посадив меня перед мольбертами, он показал большую серию пейзажей и натюрмортов.
– Я своей жизнью доволен, – сказал он, дав понять, что Фортуна не покидала его. – Я не знал пинков, которыми Париж щедро угощает молодых художников. Обо мне всегда писали. И хорошо писали.
И, указывая на книжный шкаф, наполненный газетами и журналами, гордо добавил:
– Все это отзывы о моем творчестве. Художники мне завидуют… Обо мне даже ходит слух, что в моей мастерской стоят шкафы, наполненные отзывами о моих работах. Меня хвалили. Безмерно. Я уже захваленный художник.
Он закурил трубку.
Я хмуро улыбнулся и подумал, неужели он меня пригласил только для того, чтобы похвастаться изобилием отзывов о своей живописи?
– Я вас пригласил, – сказал Альтман, – и показал свои работы не для того, чтобы вы написали обо мне еще один хвалебный отзыв.
И, погодя, добавил:
– Французы, как женщины, страдают одним неизлечимым недостатком: они забывчивы. И поэтому им нужно каждый год напоминать о себе. Я – глубокоуважаемый художник. В городке под Парижем, где я живу летом, мэрия за мои долгие и честные труды одну улочку назвала рю Альтман. Как видите, я высоко оценен. И любим.
И, докурив трубку, стал выколачивать ее и вновь набивать янтарным табаком. Потом продолжал:
– К вам одна просьба: написать обо мне книжку, чтобы ее читали, как интересный рассказ или роман.
Сдвинув брови, он, молча пыхтя дымком, внимательно разглядывал меня.
– Пойдемте, месье Курганный, к столу, – сказал он. – Вы любите устрицы и старое, выдержанное красное вино? – спросил он.
– Люблю.
– Сядем за стол.
Сели.
Он налил мне и себе вина. Потом поднял бокал и весело, торжественно сказал:
– Я пью за дружбу между художником и критиком. Без этой дружбы искусство развивалось бы очень медленно. Вы согласны со мной? – спросил он меня.
– Не совсем, – ответил я. – Вы, месье Альтман, роль и значение критика слишком преувеличиваете.
Потом, допив бокал и улыбаясь, я добавил:
– Не следует думать, что без утреннего пения петуха солнце не взойдет.
Альтман рассмеялся.
– Вы в Париже новый художник, – продолжал он, – и меня мало знали. Кто я? Какой школы живописец? Реалист или формалист? Какого стиля я придерживаюсь? Ничего не знали, но теперь, после знакомства с моими работами, вы, конечно, будете меня знать.
И, помолчав, четко и медленно добавил:
– Я импрессионист. Ученик Моне, Писсаро, Сислея. Они мне дали знания, технику, методы. И любовь, и искренность.
Он увлеченно рассказывал о своем творческом пути и ранних увлечениях, а я делал вид, что внимательно слушаю его, благодушно улыбался и изредка кивал головой.
В это время вспоминал, что о нем рассказывал Федер.
…Альтман – несомненно, талантливый художник, но ему не хватает чувства современности. То, что он делает, принадлежит не сегодняшнему, а позавчерашнему дню. В его живописи есть что-то старомодное. Трудно сказать, в чем оно. Но оно чувствуется. Может быть, в его приукрашенном и приутюженном импрессионизме. Ну, что еще тебе о нем сказать? С нуждой не дружит. Бедных не уважает…
– Пейте, месье Курганный, – слышу я ласковый голос Альтмана.
Я решил ответить дружеским тостом:
– Пью, – сказал я, – за ваше удивительное трудолюбие, – и, подумав, добавил, – и за то, что всю жизнь вы отдали живописи.
Он был доволен и тронут моим тостом.
Лицо его выражало желание сказать мне что-нибудь приятное, и он любезно сказал:
– Заходите, когда вам захочется.
Так началась моя литературная жизнь – отхожий промысел.









































