Текст книги "Одесса-Париж-Москва"
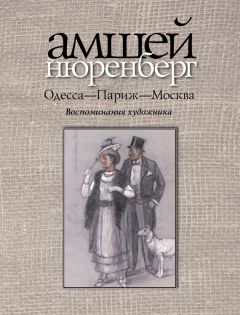
Автор книги: Амшей Нюренберг
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Доктор Островский
1912 год. Наступили последние сентябрьские дни. Ночью льют холодные дожди, а по утрам Париж кажется притихшим и тусклым. Днем на набережных Сены и в парках празднично горят желтые и оранжевые краски засыпающих деревьев. Появились бойкие пейзажисты, которые зарабатывают на парижской осени. Их много, всюду видны их маленькие стульчики и мольберты.
* * *
Простудился. Лежу в мастерской Мещанинова на улице Санте 32, рядом с известной тюрьмой «Санте». Над ее воротами знаменитая историческая надпись: «Свобода, Равенство и Братство». В глубине улицы – женский монастырь. Улица тихая, угрюмая.
Позавтракав со мной, Жак отправлялся на работу. В какое-то кафе, красить стену. Он уставал от этой неблагодарной работы, но выполнял он ее весьма добросовестно, ухитряясь даже находить в ней творческое удовлетворение. Живописью, разумеется, ему некогда было заниматься. Когда заводились деньги, что бывало очень редко, он на рынке накупал старых красок и холстов и писал набережную Парижа. Любимыми его художниками были реалисты-романтики Симон и Коте.
После ухода Малика я начинал рисовать. Придвигал постель к окну и с увлечением писал расцветшие во дворе два дерева – клен и каштан. Я уже хорошо изучил их, знал, сколько веток на каждом дереве. Потом я брался за плывшие над двориком облака. Какие фантастические образы! Сегодня я видел голову огромного льва с открытой пастью, из которой медленно выползала стилизованная черепаха. Потом я зарисовал бычью голову с огромной вьющейся бородой. Порой, мне казалось, я наблюдал шагаловские мотивы.
В час приходил Федер. Федер обладал чудесным даром утешать и успокаивать людей, попавших в беду. Делал он это просто и великодушно. Он мне внушал любовь к труду.
– Ты, – говорил он, – работай в любых условиях. В хороших условиях каждый сможет заниматься живописью, а вот ты научись кисть держать в дни нужды.
Перед уходом он угощал меня юмором:
– Ты, Амшей, должен быть благодарен судьбе. Ты живешь в прекрасном районе: с одной стороны у тебя знаменитая тюрьма «Санте», с другой стороны женский монастырь – символ душевного и телесного покоя, а позади знаменитая венерологическая больница.
* * *
На дворе весна. Веселая, хмельная. Мне очень мало нужно, чтобы участвовать в этой весне. Но благоухающему Парижу нет дела до моих скромных желаний. Он даже не замечет, что я уже несколько дней не обедал.
* * *
Чувствую себя больным. Слабость и апатия мешают мне заниматься живописью и любоваться Парижем – городом моей светлой мечты. Городом с волнующим романтизмом и покоряющей красотой. Дни уходят, не оставляя в памяти ничего яркого, дорогого. Полюбившая меня неодолимая нужда заставляет ежедневно работать маляром в отелях и изредка писать для «Парижского вестника» бесстрастные статьи о салонах и выставках. В «Ротонде» бываю раз в неделю. Публика там однообразная и скучная. Охота пропала.

1918. Облака. Бумага, сангина, 25×40
Недавно мой друг Мещанинов, поглядев на меня, с искренней грустью сказал:
– Не нравишься ты мне, дружок. Придется с тобой сходить к толстяку Островскому, специалисту по легочным болезням.
И погодя, мягко улыбнувшись, добавил:
– Он лечит всех больных художников даром. Дашь ему этюдик. И все. В ближайшие дни сходим.
Я согласился.
Доктор жил в центре города, на старой улице Кемкампуа. Дверь нам открыла румяная бретонка. «Неплохая реклама для врача-туберкулезника», – шепнул я Мещанинову.
– Да, – улыбаясь, ответил он.
Полутемная передняя с потускневшим круглым зеркалом и горкой разной формы чемоданов. Из передней мы прошли в большую высокую комнату. На всех стенах в старых золоченых рамах висели картины. Пахло табаком и скипидаром. За большим столом в углу сидел доктор Островский. Круглая голова и смуглое лицо. Мы поздоровались. Отрекомендовав меня, Мещанинов сразу же приступил к делу. Он говорил обо мне вдохновенно. С душевной искренностью. Закончил он свою яркую речь взволновавшей меня фразой:
– Вам, дорогой доктор, надо обязательно спасти этого молодого, талантливого художника от наступающего на него безжалостного туберкулеза!..
– Хорошо, – сказал доктор. – Ну-ка, – обратился он ко мне, – покажитесь.
Я начал раздеваться. Вежливо с нами попрощавшись, Мещанинов ушел.
Внимательно осмотрев меня, доктор задумался и, погодя, сказал:
– Здорово, молодой человек, вас потрепал Париж… Вам придется срочно уехать.
– Дорогой доктор, – ответил я, – это невозможно. Нужны большие деньги, а их у меня нет.
– Глупости, – поморщился доктор. – Надо во что бы то ни стало уехать. Не откладывая.
И, глядя мне в лицо, с покоряющей страстностью добавил:
– Вы, молодые художники, знаете только фасадный Париж: замечательные музеи, блестящие вернисажи, шумные веселые кафе, а мы, врачи, знаем другую сторону Парижа – унылые туберкулезные диспансеры, больницы и мрачные городские кладбища.
И, прервав себя, он спросил меня:
– Где вы родились?
– На Украине.
– Чудесно! Поживите с годик на Украине, и вы расцветете, как куст сирени весной.
Он замолк. Встал, прошелся по комнате. Затем, подойдя ко мне, понизив голос, продолжал:
– Поглядите! Он указал на висевшие на стенах картины. Все это работы сгоревших в Париже молодых жизней… Погибшие мечты и умершие иллюзии…
Я разглядел несколько полотен. Поразил их общий дух и стиль. Безграничная тоска, печаль. Чтобы немного отвлечься от толстяка и его невеселой коллекции, я подошел к окну. За окном ярко расцветала вечерняя уличная жизнь. В кафе зажигались газовые рожки. Таяли и опять вырастали группки беззаботных людей. Мне захотелось бежать туда – к молодым, веселящимся людям и смешаться с ними.
Поблагодарив доктора за добрые слова, я направился к двери.
– Куда вы? – улыбнулся он, – я вас так не отпущу. Пока что – вас полечу. Сделаю вам противотуберкулезную прививку и дам вам флакон с мясным экстрактом. Вы окрепнете и поедете в Россию с розовым лицом.
Подумав, я решил отдаться во власть доктора.
Результат прививки я почувствовал на улице через несколько часов. Пульс усилился. Небывалое возбуждение гнало меня по вечернему Парижу.
Я заходил в незнакомые кафе, выпивал холодную кружку пива и опять несся по улицам и паркам. Над городом ярко пылал удивительный закат. Будто колоссальный театральный занавес, написанный в дни великого вдохновения Ван Гогом. Такие закаты бывают только во сне.
Вернулся я в свой унылый отель только поздно ночью. Усталость валила с ног. Не раздеваясь, плюхнулся в постель и вмиг уснул. Рано утром меня разбудил кто-то, игравший на свирели. Нежные, душу согревающие звуки. Я встал, подошел к окну и был очень удивлен необыкновенной для моей скромной улицы картиной. Лениво подвигающееся стадо очаровательных коз и за ними в деревенской одежде медленно шедший и увлеченно игравший пастух. Он, видно, знал, что его игра нравится жителям Сен-Жака, и старался играть с большим чувством.
Какие поэтические контрасты живут в Париже! Только подумать: стадо коз с пастухом невдалеке от величественного Пантеона, в котором покоятся знаменитые французские философы, ученые и писатели.
Через неделю, прожитую в отупении, рано утром выйдя из своего отеля, я у дверей знакомого ночного кафе увидел усталого продрогшего человека в изношенном рабочем костюме. Он горестно стоял у фонарной колонки. Одной рукой он держался за колонку, другой за грудь. Он стоял и кашлял. Никогда мне не забыть этого кашля! Казалось, что он раздирал утреннюю тишину Парижа и что улица и небо отвечали ему звучным эхом. Я подошел к человеку. После каждого приступа кашля он высоко поднимал худые плечи и беспомощно опускал угловатую голову. Выделявшуюся розовую мокроту он старательно вытирал ладонью. Заметив меня, он сделал рукой знак: уйди. Я отошел в сторону.
Сцена эта потрясла меня. Я вспомнил о невеселой беседе с Островским, о туберкулезных диспансерах и о коллекции картин рано ушедших художников.
На другой день, наспех побрившись и не позавтракав, я бросился к толстяку. Я стал привыкать к Островскому. К его грустным, романтическим рассказам и печальной коллекции. Мещанинов был прав, говоря о нем как о человеке, свихнувшемся на художниках и их живописи.
Доктор Островский был человек со щедрым сердцем. Добрый и отзывчивый меценат. Он душевно любил одаренных художников. Помогал им бороться с болезнями, мудро жить и творчески работать. Внушал им веру в грядущее счастье, которое он делил на два вида: большое и малое.
– Большое, – говорил он, – обычно славится своим высокомерием и неверностью, малое – вдохновляет и согревает.
– Бороться, – добавлял он, – нужно за малое. Оно доступнее и легче переносится.
Художники хорошо знали доктора и его грустную коллекцию и тепло о нем отзывались. Несомненно, что во врачебной и моральной помощи, которую доктор оказывал больным художникам, он находил смысл своей жизни.
Толстяк трогательно оживал, когда говорил о своей редкостной коллекции. Я всегда охотно слушал его, хотя знал уже все печальные истории, связанные с именами рано умерших художников.
– Вы внимательно поглядите, – говорил он, – на эти чудесные пейзажи. Их написал человек со светлой и чистой душой. Русский художник Матинский.
Он подошел к группе красивых по цвету полотен. Лицо его выражало глубокую грусть.
– Вспоминаю, – сказал он строго и отрывисто, – я долго не отдавал его смерти, но в этой неравной борьбе врач не всегда побеждает.
Он снял со стены голубой дымчатый пейзаж, долго и любовно в него вглядывался. Глаза его увлажнились. Потом, обратившись ко мне, сказал:
– Подержите его. Не бойтесь. Близко поглядите, как написаны небо и клены.
Я взял этюд и внимательно разглядел его. В нем было что-то от Коро и Левитана.
– Да, – сказал я, – удивительно тонко и поэтично!
Несколько минут он молчал. Потом рассказал, как жил, работал и умер автор этого прекрасного пейзажа. Доктор часто замолкал, подбирая точно передающие его мысли слова.
– Это был, – начал он свой печальный рассказ, – худой, чуть сутулый, с горящими карими глазами молодой человек. Работал он, как одержимый, забывая о еде. Знаменитый Альберт Боннар, увидев на выставке этюды Матинского, влюбился в них. Он даже мечтал купить один из них. Матинский был счастлив. Но смерть помешала этой покупке.
– Матинский, – продолжал доктор, – умер за работой и, когда я приехал в знаменитый грязный «Ля Рюш», я нашел Матинского уже мертвым. Он лежал на диванчике в халате с распростертыми руками. Точно он боролся со смертью. В руке его была кисть. Вся палитра была залита кровью. Незабываемая картина!
Около окна висело несколько этюдов. Чем-то они напоминали Ван Гога. Смело положенные нервные мазки и яркие несмешанные краски: желто-голубые, оранжево-лиловые. Неровные, темпераментные контуры вокруг лица, одежды и предметов. Какой-то жар струился от этих работ.
Он глубоко вздохнул.
– Теперь поговорим о Тихонове, – продолжал доктор.
– Это другого стиля художник. Он любил бродить по Парижу и часами простаивать у магазинных витрин. У него были ненасытные, жадные до зрелищ глаза. «Все, что меня окружает, – говорил он, – мой мир». Его мысли об искусстве были насыщены богатой философией. Я очень жалею, что не записывал их. Тихонов ухитрялся много работать и весело жить. Его «ами» с малиновыми щеками и могучей грудью работала в ресторане и нередко, в дни нужды, подкармливала его. Тихонов называл ее «Бретонской Венерой». Он часто писал ее. Пил он зверски. Напившись, уходил в свой любимый Люксембургский сад подышать. Взбирался на памятники и пел русские песни: «Дубинушку», «Солнце всходит и заходит», «Славное море, священный Байкал». У него был неплохой бас. Часто вокруг пьяного иностранца собиралась привыкшая к резвящейся богеме толпа парижан. Полиция его уже хорошо знала и, глядя на него, только вежливо улыбалась. Тихонов любил устраивать и такие номера: наберет в мешок мелкую монету. Заберется на подоконник своей мастерской и давай швырять эту мелочь на улицу, весело припевая: «Эх, раз, еще раз». Под окном собиралась ватага детишек, весело собиравшая медяки и кричавшая: «Анкор!» (Еще!)
Доктор замолк. Закурил. Сделав несколько затяжек, он вполголоса сказал:
– Широкая, необъятная душа была у этого художника.
Островский любил вспоминать еще об одном рано умершем художнике, тонком мастере, певце Сены – Лакшине. Этот художник писал Сену в любое время, в любую погоду: утром, днем, вечером. Работал с величайшим энтузиазмом. Не отдавал себе отчета, каким светлым талантом он обладал. Когда он узнал, что ему осталось жить не больше месяца и что все его карты биты, он, наложив во все карманы камней, бросился в свою нежно любимую Сену.
Я глядел на небольшие пейзажи, написанные в импрессионистской манере, глубоко чувствуя, что все эти прибрежные дома, мосты, пароходики, баржи в яркой одежде писал вдохновенный и одинокий поэт. Часто мне казалось, что в грустном колорите и нервном движении небольших мазков я улавливал отблеск страданий прекрасного художника.
Кроме пейзажей у доктора висело несколько портретов художника Ржевского. На одном портрете был изображен клоун с бледно-желтыми глазами и тонкими губами. Неестественно тонкая шея была обвязана лимонным шарфом.
На другом портрете художник показал парижскую проститутку. Я поглядел.
В худых, усталых руках проститутка держала крупное янтарное ожерелье. На голове ее была синяя шляпа с большими розовыми перьями. Живопись темпераментная и волнующая. Фактура мне показалась богатейшей.
– Этот, – продолжал уставшим голосом доктор, – неспокойный человек имел интересную биографию. Родился он в России, где-то на юге, кажется, в Ростове. В молодости, когда ему было шестнадцать пет, – он познакомился и подружился с капитаном английского парохода, и тот увез его в Америку. Там он два года работал на фермах. Потом вернулся в Россию.
Доктор опять закурил. После глубокой затяжки продолжал:
– Так этот парень носился по свету, пока его неожиданно не охватила страсть к живописи. Тогда он помчался в Париж и прямо чуть ли не с вокзала ввалился в какую-то академию. И, представьте, живопись изменила его образ жизни и даже привычки. Он стал оседлым и спокойным. Но вино и быстро развивающийся туберкулез уже успели сделать свое печальное дело. Спасти его было нельзя.
Он замолк и потом продолжал:
– За неделю до смерти он у старьевщика накупил разных диких вещей: индусских масок, японских вееров и пестрых тряпок. Умер он после обильной выпивки. Мне он оставил записку: «Дорогой доктор, за сыворотку, мясные экстракты и сердечную дружбу вам завещаю все мои работы. Благодарный Ржевский».
Однажды, придя к доктору за мясным флаконом, я в кабинете застал пожилого человека в золотых очках. Лицо его мне показалось усталым.
Представляя его, толстяк с гордостью произнес:
– Знакомьтесь, месье Нюренберг. Это профессор Пастеровского института, бывший ассистент Мечникова, изобретатель «антитуберкулина», которым я вас лечу, всеми уважаемый Марморек.
И, после небольшого молчания, добавил:
– Должен еще сказать вам, любит искусство и художников. Я поклонился и сказал:
– Очень рад познакомиться.
– Хочу, – сказал доктор, – вас показать профессору.
– Пожалуйста, – сказал я тихим голосом.
Осмотрев меня, профессор сказал:
– Я согласен с моим другом. Вам надо на годик покинуть Париж. От дохните. Поправитесь, окрепнете и вернетесь в Париж. Вы, молодой человек, получили сигнал и должны хорошенько подумать о своем здоровье.
С минуту он молчал, потом добавил:
– Надеюсь, вы меня поняли?
Он встал и принялся ходить по комнате. Снял очки, потер их платком, сел, глянул на меня и с жаром продолжал:
– Недавно мне посчастливилось познакомиться с дожившим до нашего времени известным художником – Гарпиньи. Это глубокий старик. Но годы его пощадили и обошлись с ним весьма мягко. Его глаза, движения и, особенно, речь – меня удивили. Столько в них было молодости и жара! А знаете в чем секрет его устойчивой жизнеспособности? – спросил меня профессор, и, не дождавшись моего ответа, сказал: – Почти всю жизнь он жил и работал на чистом воздухе… В Барбизонском лесу. Так жили и работали его великие друзья – Руссо, Коро, Милле. Барбизонские художники не знали грудных болезней и умирали стариками. Прочтите внимательно их биографии, и вы меня поймете…
Помолчав, добавил:
– Я склоняю голову перед этими мудрецами.
Ушел я от моих врачей с отчаянием в душе. Хорошо им читать попавшему в беду молодому художнику «доброжелательные» лекции. Жизнь их хорошо налажена. Живут в деревне, работают в Париже. Каждый день завтракают, обедают, ужинают. В обжорку «Ла мер де Люнет» (Мать с очками) не ходят. А мне каково? Мещанинов советует не впадать в отчаяние и не доверяться во всем медицине. Но оптимизм Мещанинова объясняется тем, что он ежемесячно из Витебска от отца, старого портного, получает 64 франка…
Видимо, я слишком молод и беззащитен перед великим и равнодушным городом…
Чтобы оторваться от мрачных мыслей, я начал думать о России, о родных местах. О местах, где прошла моя юность, где родились мои первые надежды и мечты. О представших передо мной в поэтическом озарении близких людях, которые меня согревали и подкармливали.
Надо, разумеется, уехать в Елисаветград… Окрепнуть, порозоветь и потом сюда вернуться. Правда, в Елисаветграде нет Лувра, салонов, кафе и натурщиц, но зато есть замечательная степь, простодушные курганы с душистыми травами и высокое, чистое, успокаивающее небо… Разве в них мало аромата и красоты?! И потом – только на один год. И громко, с яростью, на всю улицу сказал себе: «Ничего, постою на ногах! Не сдамся! Надо только уменьшить обороты своей жизненной отдачи…»
Через шесть недель я почувствовал, что здоровье мое улучшилось. Может быть, мясные флаконы и уколы толстяка, ежедневные обеды из трех блюд (малярные заработки помогли) меня подкрепили. Вера, что я непременно выздоровею, все усиливалась. Опять начал печатать статьи о музеях и выставках и строить планы насчет будущих творческих побед. Но с мыслью о поездке в Россию, на Родину, я решил не расставаться. «Только на один год!» – повторял я себе. Но подумал: «В Елисаветграде живут преимущественно мануфактуристы, бакалейщики и военные портные. С кем же я буду делиться своими мыслями о Мане, Ренуаре, Ван Гоге и Сезанне?..»
И еще подумал: «Не слишком ли я раболепно следую за своей судьбой?»
Отъезд на Родину. План Мещанинова
Сентябрь. 10 часов утра. За большим окном «Ротонды» сияющее нежно-голубое небо и в последнем золотом наряде деревья.
Впечатление такое, точно этот пейзаж написан старым итальянским фрескистом.
За нашим столом близкие друзья: Мещанинов, Федер, Инденбаум и Малик.
На столе праздничный натюрморт. Большое фиолетовое блюдо с горкой золотистых горячих сандвичей, две бутылки красного вина и четыре больших апельсина.
За нами ухаживает знакомый смуглый гарсон. Во рту у него погасшая сигара, которую он лениво жует.
Заседание открыл наш неутомимый вожак и оратор Оскар Мещанинов.
– Друзья, – сказал он мягким баритоном. В крепкой руке скульптор держал бокал с вином. – Я хочу поговорить о моем плане отъезда нашего друга Амшея на Родину. План состоит из трех частей. Часть первая – это как добыть материальные средства для нашего друга. Я предлагаю для решения этого вопроса устроить уличную продажу его работ. Как это де лают «ордисты». И когда он продаст десяток пейзажей и натюрмортов, мы, окрыленные, отправимся на Блошиный рынок.
Он смолк. Потом, глотнув красного и немного понизив голос, продолжал:
– Вторую часть моего плана я назвал внешним оформлением. На рынке мы купим ему английский красивый модный костюм, элегантное демисезонное пальто, испанскую круглую шляпу и лаковые туфли Impossible (невероятные).
Погодя, он продолжал.
– За все эти вещи, я уверен, мы уплатим около семидесяти франков.
Не больше. На Родину он приедет хорошо одетым. Как настоящий парижанин, себя и нас – друзей – не посрамит. Родные должны его встретить с радостными лицами.
И, после большого глотка красного, он спросил нас:
– Правильно я говорю?
Все мы ответили: «Правильно!»
– Третья часть – это проводы и прощание на вокзале.
Потом мы съели и выпили все, что было на столе, пожали друг другу руки и разошлись по мастерским, чтобы в труде израсходовать свой энтузиазм.
В дактилоскопическом кабинете
Спустя два дня утром в мастерскую ввалился Мещанинов.
– На ходу побрейся, быстро оденься, кое-как позавтракай, – бросил он, – и пошли в полицейское управление. И, переведя дух, добавил:
– Мы там должны получить разрешение на уличную продажу твоих работ.
Я выполнил все его приказания. Помчались в полицейское управление. С трудом нашли его. Это было не внушавшее симпатии типично казенное здание.
Мы храбро открыли высокую дверь и вошли.
Нас встретил полицейский. Мещанинов рассказал ему о цели нашего прихода.
– Поднимитесь на пятый этаж, – сказал он, не глядя на нас, – и зайдите в комнату номер 72. Там отпечатают ваши пальцы, а потом отправитесь в комнату номер 42.
Мы его поблагодарили. Поднялись на пятый этаж и зашли в комнату номер 72. За огромным, тяжелым столом сидел мрачный человек. В черном костюме, с удлиненным лицом.
Мещанинов с преувеличенной вежливостью поклонился и в грустных тонах рассказал ему о цели нашего прихода. Я сложил руки и удрученно молчал.
Не дослушав грустной истории, мрачный человек встал и полушепотом сказал:
– Пойдемте, месье, в дактилоскопический кабинет.
Мы пошли за ним.
Там стоял ярко освещенный искусственным светом длинный стол, на котором лежали большие белые листы и стояли банки с черной, похожей на гуталин пастой. Стульев в кабинете не было.
Мрачный человек с удивительной ловкостью отпечатал наши пальцы, быстро записал наши фамилии, профессии, год приезда в Париж и адреса. И, с почти закрытым ртом, как чревовещатель сказал:
– Вы, художники, свободны. Идите в комнату номер 45.
Поблагодарив за внимание к художникам, мы забрали отпечатки наших пальцев и направились в комнату номер 45.
На лестнице я шепнул Осе:
– Теперь мы попали в компанию апашей и воров. Вот обрадуются наши родители, когда об этом узнают.
Мы в комнате номер 45. В высоком старомодном кожаном кресле за столом, заваленном бумагами, сидел окутанный табачным дымом пожилой человек. На его почти белом лице ярко выделялось зеленоватое пенсне.
Ося опять низко поклонился и передал ему отпечатки наших пальцев.
– А где вы думаете продавать свои картины? – спросил он.
– На Севастопольском бульваре.
– Только не мешайте уличному движению…
Он выдал нам разрешение на уличную продажу наших картин. Мы его поблагодарили, откланялись и ушли.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































