Текст книги "Преступление Сильвестра Бонара. Боги жаждут"
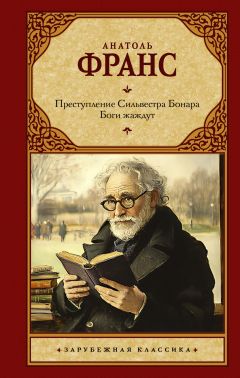
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал законченный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь на самом деле изумительная.
Я продолжал рассматривать предмет все с прежним, не слабевшим от раздумья удивлением, тем более что сам предмет давал возможность изучать себя в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются расстройства в действии желудка, а мой желудок, слава Богу, работает отлично. К тому же обманам зрения сопутствуют обстоятельства особого и анормального порядка, действуя на самих галлюцинирующих и внушая им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило, и предмет, какой я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О! Как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки.
В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною была фея – фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой царицы, гибкая и гордая фигура, на голове сверкала та же диадема, в руках была ореховая палочка; парчовый шлейф по-прежнему змеился вокруг ее малюток-ножек. То же лицо и тот же рост. Это действительно она; и, во избежание сомнений, она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с Нюрнбергской Хроникой. Ее недвижность ободрила меня только отчасти, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо.
Так я стоял с открытым ртом и опустивши руки, когда до слуха моего донесся голос г-жи де Габри.
– Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею? – сказала мне хозяйка. – Ну как? Похожа?
Разговор – короткий, но пока я слушал, я успел определить, что эта фея – статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как получила дама Хроники материальное бытие и благодаря кому? Вот это не терпелось мне узнать.
Обернувшись к г-же де Габри, я заметил, что с нею кто-то есть. Юная девица в черном стояла рядом. Глаза, нежно-серые, как небо Иль-де-Франса, выражали одновременно смышленость и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек. Затянутая в мериносовое платье, она вся напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о прямоте ее души. Не могу выразить, до какой степени этот ребенок понравился мне с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на подбородке и щеках смеялись, и при всей наивной угловатости ее манер в ней было что-то хорошее и честное.
Мой взор переходил от статуэтки к девочке, и я увидел, как зарделась она румянцем, откровенным, густым, нахлынувшим волной.
– Так что же? – вновь спросила хозяйка, уже привыкшая к тому, что я рассеян и что ей надо повторять свои вопросы. – Это в самом деле та особа, которая для свиданья с вами влезла в окно, оставленное вами незакрытым? Она была весьма нахальна, а вы весьма неосторожны. Словом, узнаете ли вы ее?
– Да, это она, – ответил я. – И на этом консоле я вижу ее вновь такою, какою видел на столе в библиотеке.
– Если это так, – ответила г-жа де Габри, – то в этом сходстве повинны прежде всего вы – человек, по вашим же словам, без всякого воображенья, но способный описывать сны живыми красками; потом я – тем, что удержала в памяти и сумела верно передать ваш сон; наконец, и в особенности, Жанна – тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку!
Говоря так, г-жа де Габри взяла девушку за руку. Но девушка высвободилась и побежала в парк.
Госпожа де Габри окликнула ее:
– Жанна! Можно ли быть такой дикаркой! Идите, я вас пожурю!
Но все напрасно – беглянка скрылась за листвою. Г-жа де Габри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной.
– Я была бы очень удивлена, – сказала мне она, – если бы мой муж уже не говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим, она замечательный ребенок. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку?
Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка и школы; впрочем, я крайне тронут тем, что юные персты сумели вышить по канве рассказа такого простака и так блестяще изобразили сновиденье старого говоруна.
– Я спрашиваю вашего мнения об этом, – сказала г-жа де Габри, – потому, что Жанна – бедная сирота. Как вы думаете, сможет ли она зарабатывать немного денег тем, что будет делать такие статуэтки?
– Нет! – ответил я. – Да тут и не о чем особенно жалеть. Эта девушка, вы говорите, любящая и нежная, – я верю вам и верю ее лицу. В жизни артиста бывают увлеченья, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание замешено из любвеобильной глины. Выдавайте ее замуж.
– Но у нее нет приданого, – возразила г-жа де Габри.
Затем, слегка понизив голос, сказала мне:
– Вам, господин Бонар, я могу сказать все. Отец этого ребенка был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком: обманывая других, он прежде всего обманывал себя. В этом, пожалуй, и заключалось наибольшее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях. Он заворожил нас всех: мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти и состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, да у нас и нет детей!.. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего, – вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам: Ноэль Александр. Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой, только любила покрасоваться. Но когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла она сама, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственного состояния, довольно хорошего, ей ничего не удалось спасти. Г-жа Ноэль Александр, в девицах Алье, – дочь Ахилла Алье из Невера.
– Дочь Клементины! – воскликнул я. – Умерла Клементина, умерла и дочь ее! Почти все человечество состоит из мертвецов: так незначительно количество живущих в сравнении со множеством отживших. Что это за жизнь – короче памяти людской!
И мысленно я сотворил молитву:
«Клементина! Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце, с годами охладевшее, но от любви к вам когда-то полное кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас? Проходит все, как были преходящи вы и ваша дочь; но жизнь бессмертна, – вот эту жизнь в ее все время обновляющихся образах и надлежит любить.
Роясь в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес и оправданье. Я – дедушка.
Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой кроме меня заботился о ней и наделил ее приданым».
Заметив, что я плачу, г-жа де Габри тихонько удалилась.
IV
Париж, 16 апреля
Святой Дроктовей и первые аббаты Сен-Жермен-де Пре уже лет сорок занимают мое внимание, но я не знаю, смогу ли написать историю их раньше, чем приобщусь к ним. Я стар давно. В прошлом году один собрат мой по Академии жаловался при мне на Мосту Искусств, как скучно стариться. «Но пока известно только это средство долго жить», – отвечал ему Сен-Бев. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все кругом тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей – эти божественные сокровища – природа и создает и разрушает с мрачным безразличием; в конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них! Если в жизнь мужчины когда-либо проскальзывало тенью живое существо, то это, конечно, юная девица – такая, какую я любил, когда и я был юношей (теперь это кажется невероятным). А все-таки воспоминанье об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни.
В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятье, и страшный его смысл я понял лишь со временем. Там говорится: «Если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких». Как археолог, я раскрывал гробницы, тревожил прах, чтобы собрать смешавшиеся с прахом обрывки тканей, металлические украшенья, геммы. Я делал это из любознательности ученого, далеко не чуждой благоговейного почтения. Да не постигнет никогда меня проклятье, начертанное на могиле мученика одним из первых апостольских учеников! Но каким образом оно могло бы поразить меня? Мне не приходится бояться пережить близких, пока здесь на земле есть люди, – ибо всегда найдутся среди них достойные любви.
Узы! Способность любить слабеет и теряется с годами, как и все другие силы человеческого духа. Так учит опыт – вот что меня приводит в ужас. Разве я уверен, что не понес такой великой утраты? Разумеется, я б и понес ее, когда б не эта счастливая встреча, омолодившая меня. Поэты воспевают источник юности: он существует, он бьет из-под земли на каждом шагу; а люди проходят мимо, но не вкушают из него!
Моя жизнь переставала быть полезной, но с той поры, как я нашел внучку Клементины, она приобрела вновь оправдание и смысл.
Сегодня я «набираюсь солнца», как говорят в Провансе, – набираюсь на террасе Люксембургского дворца, у статуи Маргариты Наваррской. Солнце весеннее, пьянящее, как молодое вино. Сижу и размышляю. Из головы моей бьют мысли, как пена из бутылки пива. Они легки и забавляют меня своею искрометностью. Я мечтаю, – думается, что это позволительно такому старичку, который издал тридцать томов старинных текстов и двадцать шесть лет сотрудничал в «Вестнике ученых». Я чувствую удовлетворение, выполнив свой жизненный урок настолько хорошо, насколько это было для меня возможно, и до конца использовав посредственные способности, отпущенные мне природой. Мои труды оказались не совсем напрасны, и в скромной доле я содействовал тому возрожденью исторических работ, какое пребудет славой этого неугомонного века. Я, несомненно, попаду в число десяти или двенадцати ученых, раскрывших Франции древние памятники ее литературы. Обнародование мной поэтических произведений Готье де Куэнси заложило основу здравой методологии и стало датой. Только в суровом старческом успокоении я присуждаю себе эту заслуженную награду, и Бог, Который видит мою душу, знает, причастны ли хоть в малой доле гордость и тщеславие той справедливой оценке, какую я даю себе.
Но я устал, глаза мои мутятся, рука дрожит, и свой прообраз я вижу в тех стариках Гомера, которые по слабости держались вдалеке от боя, сидя на валах, и стрекотали, подобно кузнечикам в траве.
Так протекали мои мысли, когда трое молодых людей шумно уселись по соседству от меня. Не знаю, приехал ли каждый из них в трех лодках, как обезьяна в басне Лафонтена, но верно то, что втроем они заняли двенадцать стульев. Я с удовольствием их наблюдал, – не потому, чтобы они собою представляли нечто выходящее из ряда вон, но в них я увидал то честное и жизнерадостное выраженье, какое присуще юности. То были студенты. В этом я убедился не столько по книгам в их руках, сколько по самому характеру их облика. Ибо все, кто занимается умственным трудом, узнают друг друга с первого же взгляда по какому-то признаку, общему им всем. Я очень люблю молодежь, и эти юноши мне нравились, несмотря на некоторые вызывающие и диковатые манеры, поразительно напоминавшие мне время моего ученья. Они, однако, не носили, как мы, длинных волос, ниспадавших на бархатные куртки; не разгуливали, как мы, с изображеньем черепа; не восклицали, как мы: «Проклятие и ад!» Прилично одетые, они не делали заимствований в Средних веках ни для костюма, ни для речи. Следует добавить, что они не оставляли без внимания проходивших по террасе женщин и некоторым из них давали оценку в довольно ярких выражениях. Однако их суждения на эту тему не заходили так далеко, чтобы я был вынужден покинуть свое место. Впрочем, когда молодежь прилежна к занятиям, я не сержусь на ее шалости.
Один из них отпустил какую-то вольную шутку.
– Что это значит? – воскликнул с легким гасконским выговором самый низенький и самый черный из троих. – Это нам, физиологам, пристало заниматься живой материей. А вы, Жели, как все ваши собратья, архивисты-палеографы, живете только в прошлом, ну и занимайтесь вашими современницами – вот этими каменными женщинами!
И он указал пальцем на статуи женщин старой Франции, во всей своей белизне стоявшие полукругом под деревьями террасы. Эта шутка, сама по себе пустячная, все же довела до моего сведения, что тот, кого звали Жели, был студентом Архивной школы. Из последующего разговора я узнал, что сосед его, блондин, бледный как тень, неговорливый и саркастичный, был его товарищем по школе и звался Бульмье. Жели и будущий врач (желаю ему быть им) разглагольствовали с большой фантазией и жаром. Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям; иными словами – глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изволили высказывать лишь самые чудовищные парадоксы. И в добрый час! Не люблю я молодых людей, чрезмерно рассудительных.
Студент-медик, посмотрев заглавие книги, бывшей в руках у Бульмье, сказал:
– Вот как! Ты читаешь Мишле?
– Да, я люблю романы, – серьезно ответил Бульмье.
Жели, выделявшийся своей красивой стройной фигурой, властной манерой и бойкой речью, взял книгу и, перелистав, сказал:
– Это Мишле в его последней манере, лучший Мишле. Нет больше повествований. Есть гнев, обмороки, эпилептический припадок из-за фактов, которые он не удостаивает излагать. Детские выкрики, капризы беременной женщины! Воздыхания и ни одной обычной фразы! Поразительно! – И он вернул книгу товарищу.
«Это дурачество занятно, – сказал себе я, – и не так уж лишено смысла, как может показаться. В последних писаниях нашего великого Мишле действительно есть некоторая взволнованность, я даже бы сказал – потрясенность».
Но студент-провансалец начал утверждать, что история – упражнение в риторике, достойное всяческого презрения. По его мнению, единственной и настоящей историей является естественная история человека. Мишле был на правильном пути, когда рассказывал о фистуле Людовика XIV, но тут же опять поехал старой колеей.
Высказав эту основательную мысль, юный физиолог присоединился к группе проходивших мимо друзей. Оба архивиста, редкие гости в этом саду, чересчур отдаленном от улицы Паради-о-Маре, остались с глазу на глаз и повели беседу о своих занятиях. Жели, кончивший третий курс, готовил диссертацию и тут же с юношеским восторгом изложил тему. По правде говоря, предмет его показался мне хорош, тем более что я и сам подумывал разработать в ближайшее же время его существенную часть. Дело шло о Monasticon gallicanum[9]9
Галльские монастыри (лат.).
[Закрыть]. Юный ученый (именую его так в качестве предсказания) хотел дать объяснение ко всем доскам, гравированным в 1690 году для сочинения, которое Дом Жермен отпечатал бы и сам, когда бы не помеха, неустранимая, непредвидимая и неизбежная для всех. Умирая, Дом Жермен все же успел оставить свою рукопись законченной, в полном порядке. Доведется ли мне сделать то же со своей? Но не в этом дело. Как я понял, г-н Жели намеревался посвятить археологическую заметку каждому аббатству, изображенному скромными граверами для Дом Жермена.
Друг этого Жели спросил, все ли рукописные и печатные источники по этому предмету ему известны? Тут я насторожился. Они сначала обсуждали подлинные документы и, должен признаться, делали это с достаточною методичностью, несмотря на множество нескладных каламбуров. Затем они дошли до современных критических работ.
– Читал ли ты заметку Куражо? – спросил Бульмье.
«Хорошо», – сказал себе я.
– Да, – отвечал Жели, – работа добросовестная.
– А ты читал в «Историческом обозрении» статью Тамизе де Лярока? – спросил Бульмье.
«Хорошо», – сказал я себе вторично.
– Да, – отвечал Жели, – и я нашел там ряд полезных указаний.
– А ты прочел «Обзор бенедиктинских аббатств в тысяча шестисотом году» Сильвестра Бонара?
«Хорошо», – сказал себе я в третий раз.
– Ей-богу, нет! – ответил Жели. – Да и не знаю, стану ли читать. Сильвестр Бонар – дурень.
Обернувшись, я заметил, что тень уже дошла до того места, где я сидел. Становилось свежо, и я почел нелепым оставаться и получить ревматизм, слушая безрассудства двух самонадеянных юнцов.
«Ну, ну! – сказал себе я, поднимаясь. – Пусть этот болтливый птенчик напишет диссертацию и защитит ее. Он попадет к коллеге моему Кишра или другому профессору, которые ему покажут, что он еще не оперился. Считаю его просто сквернословом. И на самом деле все сказанное им о Мишле, как думаю сейчас об этом, несносно и переходит всякие границы. Так говорить о старом даровитом учителе! Это гадко!»
17 апреля
– Тереза, дайте мне новую шляпу, лучший сюртук и палку с серебряным набалдашником!
Но Тереза глуха, как куль с углем, и медлительна, как правосудие. Тому причиной ее годы. Хуже всего то, что она воображает, будто хорошо слышит и легка на ногу, и, гордясь шестидесятилетней честной службой в доме, обслуживает старика хозяина с самым бдительным деспотизмом.
Что я вам говорил?.. Вот и теперь она не хочет дать мне палку с серебряным набалдашником, опасаясь, как бы я ее не потерял. Это правда, я довольно часто забываю зонты и трости в омнибусах и книжных лавках. Но сегодня я имею полное основание взять мою старинную трость, где серебряный чеканный набалдашник изображает Дон Кихота в тот момент, когда он, держа копье наперевес, стремится в бой с ветряными мельницами, а Санчо Панса, воздевая руки к небу, тщетно заклинает его остановиться. Эта палка – все, что получил я из наследства дяди, капитана Виктора, который при своей жизни больше походил на Дон Кихота, чем на Санчо Панса, и любил драки так же естественно, как другие их боятся.
Уже тридцать лет ношу я эту палку при каждом знаменательном или торжественном выходе своем из дому, и две фигурки – господина и оруженосца – вдохновляют меня и подают советы. Мне чудится, я слышу их, и Дон Кихот мне говорит:
– Крепко мысли о вещах великих и знай, что единственная реальность в мире – это мысль. Возвышай природу до себя, и да будет тебе вселенная лишь отблеском твоей героической души. Бейся за честь – только это достойно мужчины; а если тебе случится получать раны, лей свою кровь, как благодатную росу, и улыбайся.
А Санчо Панса говорит мне от себя:
– Оставайся, приятель, тем, чем создало тебя небо. Предпочитай сухую корку хлеба в твоей суме жареным овсянкам на кухне господина. Повинуйся хозяину, умному и безумному, и не забивай свои мозги вещами бесполезными. Бойся драк: искать опасности – значит, искушать Бога.
Но если несравненный рыцарь и бесподобный оруженосец пребывают, как образ, на моей палке, – они существуют как действительность в глубинах моей души. Во всех нас есть и Дон Кихот и Санчо Панса, и мы прислушиваемся к ним; но если даже нас убеждает Санчо Панса, то любоваться должно только Дон Кихотом. Однако довольно болтовни… идемте к г-же де Габри по делу, выходящему из круга обычной жизни.
Тот же день
Я застал г-жу де Габри уже одетой в черное и надевающей перчатки.
– Я готова, – сказала она.
«Готова», – такой я находил ее всегда для добрых дел.
Мы сошли с лестницы и сели в карету.
Не знаю, какое тайное наитье боялся я рассеять, прервав молчание, но вдоль широких пустых бульваров мы ехали, не проронив ни слова, только глядя на кресты, надгробья и венки, ждущие у продавца своих могильных потребителей.
Фиакр остановился у последних пределов земли живых – перед воротами, где начертаны слова надежды.
Мы шли по кипарисовой аллее, затем свернули на узкую дорожку, проложенную среди могил.
– Здесь, – сказала г-жа де Габри.
На фризе, украшенном опрокинутыми факелами, была вырезана надпись:
СЕМЬЯ АЛЬЕ И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДР
Решетка замыкала вход к памятнику. В глубине, над алтарем, покрытым розами, высилась мраморная доска с именами, среди которых я прочел имя Клементины и дочери ее.
То, что я почувствовал при этом, было нечто глубокое и смутное, выразимое лишь звуками прекрасной музыки. В старой душе моей я услыхал игру небесно-нежных инструментов. С величавой гармонией похоронного гимна мешались приглушенные ноты песнопения любви, ибо душа моя сливала в одно чувство и мрачную серьезность этого момента и милые сердцу прелести былого.
Покидая могилу, благоухающую розами, принесенными г-жой де Габри, мы прошли по кладбищу, ни слова не сказав друг другу. Когда мы снова очутились среди живых, язык мой развязался.
– Пока мы с вами шли по этим немым аллеям, – сказал я г-же де Габри, – я думал о тех легендарных ангелах, с которыми встречаются на таинственном рубеже жизни и смерти. Вы привели меня к могиле, неведомой мне, как почти все, что относилось к покоящейся там, среди своих родных; и вот ее могила вновь вызвала переживанья, единственные в моей жизни, а в этой тусклой жизни они – как одинокий свет среди дороги ночью: свет отдаляется тем больше, чем дальше от него уводит путь. На склоне жизни я нахожусь почти у конца спуска, и все же, обернувшись, каждый раз я вижу этот свет таким же ярким… Воспоминания теснятся в душе моей. Я – словно старый, мшистый и корявый дуб, что будит стайки певчих птиц, колебля свои ветви. К сожалению, песня моих птиц стара, как мир, и занимательна лишь для меня.
– Эта песня меня пленит, – сказала мне она. – Поделитесь же со мной вашими воспоминаниями и рассказывайте мне как старой женщине: причесываясь сегодня утром, я нашла у себя три белых волоса.
– Смотрите на появленье их без грусти, – ответил я, – время ласково лишь к тем, кто принимает его с лаской. И через много лет, когда ваши черные бандо подернутся налетом серебра, вы облечетесь новою красой, не такой яркой, но более трогательной, чем первая, и вы увидите, что муж ваш станет так же любоваться этой сединой, как черным локоном, который он получил от вас в день свадьбы и носит в медальоне на груди своей, точно святыню. Эти бульвары широки и малолюдны. Здесь мы можем говорить спокойно, продолжая путь. Сначала расскажу лишь о своем знакомстве с отцом Клементины. Но не ждите ничего замечательного, ничего особенного, иначе вас постигнет большое разочарование.
Господин де Лесе жил на проспекте Обсерватории, в третьем этаже старинного дома, оштукатуренный фасад которого с античными бюстами и большой заросший сад были первыми образами, запечатлевшимися в моих ребяческих глазах; и когда пробьет неизбежный час, то, несомненно, они последними мелькнут под отяжелевшими моими веками, – ибо в этом доме я родился, а в этом саду, играя, научился чувствовать и познавать какие-то частицы нашей древней вселенной. Часы чарующие, часы святые, когда душа со всей своею свежестью обнаруживает мир, ради нее облекшийся ласкающим сияньем и таинственным очарованьем. Ведь и на самом деле вселенная – лишь отблеск нашей души.
Матушка моя была созданием весьма счастливо одаренным. Как птицы, пробуждалась вместе с солнцем и походила на них своею домовитостью, родительским инстинктом, всегдашнею потребностью петь и какой-то необъяснимой прелестью, которую я очень чувствовал, хотя и был совсем дитя. Она являлась душою дома, наполняя его своей хозяйскою и радостною хлопотливостью. Если моя мать отличалась большой живостью, то отец мой страдал большой вялостью. Я вспоминаю безмятежное его лицо, где временами мелькала ироническая улыбка. Человек он был усталый и любил свою усталость. Сидя в большом кресле у окна, он читал с утра до вечера, и это от него передалась мне любовь к книгам. У меня в библиотеке есть экземпляры Реналя и Мабли с пометками его рукой от первой страницы до последней. Было совершенно безнадежным, чтобы он занялся чем-нибудь серьезно. Когда же матушка моя пыталась милыми уловками вывести его из состояния покоя, он качал головою с непреклонной кротостью, составляющей силу у бесхарактерных людей. Он приводил в отчаянье бедную жену, неспособную проникнуться такою созерцательною мудростью и в жизни понимавшую лишь повседневные заботы и радость повсечасного труда. Она считала его больным и опасалась усиления болезни. Но причина его апатии была другая.
В 1801 году отец мой, поступив в Морское управление при Декре, выказал настоящий администраторский талант. В то время морской департамент проявлял большую деятельность, и мой отец с 1805 года стал начальником второго административного отдела. В этом году император, осведомленный министром об отце, потребовал от него доклад относительно организации английских морских сил. Эта работа, проникнутая, неведомо для министерского редактора, глубоко либеральным и философским духом, была закончена только в 1807 году, приблизительно через полтора года после разгрома адмирала Вильнева при Трафальгаре. Наполеон со времени этого злосчастного дня и слышать не хотел о кораблях; он гневно перелистал докладную записку и бросил ее в огонь, крикнув: «Фразы! Фразы! Фразы!» Отцу передавали, будто император в тот момент был так разгневан, что топтал сапогом рукопись в пылающем камине. Впрочем, это было его привычкой: в раздражении мешать ногами жар, пока не опалит себе подошвы.
Отец мой так и не мог оправиться от этой немилости, а бесполезность всех его усилий сделать хорошее дело, конечно, и была причиной той апатии, в какую впал он позже. Наполеон, однако, по возвращении с острова Эльбы призвал его и поручил ему составление бюллетеней и прокламаций к флоту в патриотическом и либеральном духе. После Ватерлоо отец мой, скорее опечаленный, чем изумленный, остался в стороне, и его не беспокоили. Но общий приговор гласил, что он якобинец, кровопийца, один из тех людей, с которыми не знаются. Старший брат моей матери, Виктор Мальден, пехотный капитан, переведенный на половинную пенсию в 1814 году, а в 1815-м получивший чистую отставку, своим задорным поведением усугублял те неприятности, какие причинило отцу падение империи. Капитан Виктор кричал в кафе и на общественных балах, что Бурбоны продали Францию казакам, первому встречному показывал трехцветную кокарду, спрятанную в шляпе за подкладкой, хвастливо ходил с палкой, точеный набалдашник которой отбрасывал тень в виде силуэта императора.
Если вы не видели некоторых литографий Шарле, то не можете вообразить себе наружность дяди Виктора, когда он, стянутый по талии сюртуком, расшитым брандебурами, с фиалками и воинским крестом на груди, прогуливался нелюдимым франтом по саду Тюильри.
Праздность и нетерпимость сообщили дурной тон политическим его пристрастиям. Он оскорблял людей, которых заставал за чтением «Котидьен» или «Драпо блан», и вынуждал их драться с ним на дуэли. Таким путем он ранил, себе на горе и бесчестье, шестнадцатилетнего мальчика. Словом, мой дядя Виктор – полная противоположность человеку здравомыслящему, а поскольку он каждый божий день являлся к нам завтракать и обедать, то его дурная слава переходила и на наш дом. Мой бедный отец страдал жестоко от выходок своего гостя, но, как человек добрый, не закрывал своих дверей для капитана, презиравшего его всем сердцем.
То, что я рассказываю вам, мне стало ясным много позже. Но тогда мой дядя-капитан вызывал во мне самый искренний восторг, и я давал себе слово походить на него в будущем возможно больше. Одним прекрасным утром я, для начала сходства, подбоченился и стал ругаться, точно басурман. Моя чудесная мать дала мне оплеуху так проворно, что, прежде чем заплакать, я некоторое время стоял ошеломленный. Вижу до сих пор старое, обитое желтым трипом кресло, за которым я лил в тот день бесчисленные слезы.
Я тогда был человечком совсем маленьким. Однажды утром мой отец, по своему обычаю взяв меня на руки, улыбнулся мне с особым ироническим оттенком, придававшим какую-то пленительность вечной его кротости. Пока я, сидя у него на коленях, играл его седыми волосами, он говорил мне о вещах, не очень мне понятных, но сильно занимавших меня именно своей таинственностью. Мне помнится, но, впрочем, без большой уверенности, что в это утро он мне рассказывал о короле в Ивето, как о нем поется в песне. Вдруг мы услышали громкий треск, и наши окна задребезжали. Отец спустил меня с колен; его дрожащие протянутые руки болтались в воздухе, лицо застыло, стало белым, глаза – огромны. Он попытался говорить, но зубы стучали друг о друга. Наконец он смог пробормотать: «Они его расстреляли!» Я не знал, о чем шла речь, и чувствовал какой-то смутный ужас. Позже я узнал, что говорил он о маршале Нее, который пал седьмого декабря тысяча восемьсот пятнадцатого года у стены, окружавшей пустырь, смежный с нашим домом.
Около того же времени я часто встречал на лестнице старика (возможно, что он был не очень стар); его маленькие черные глазки сверкали необычайно живо на смуглом неподвижном лице. Мне он казался неживым, или по крайней мере живущим иначе, нежели другие. У господина Денона, куда водил меня отец, я видел мумию, привезенную из Египта; и я искренно воображал, что мумия Денона пробуждалась, когда была одна, выходила из своего золоченого ящика, надевала фрак орехового цвета, пудреный парик и становилась господином де Лесе. Даже и теперь, отвергнув это мнение как неосновательное, должен признаться, что господин де Лесе сильно походил на мумию Денона, – этим и объяснялся тот фантастический ужас, какой он мне внушал.
На самом деле господин де Лесе был мелкий дворянин и большой философ. Этот ученик Мабли и Руссо кичился отсутствием предубеждений, а такое притязание уже само по себе являлось большим предубеждением. Я говорю о современнике минувшего века. Боюсь, что не умею быть понятным вам, и уверен, что не могу вас заинтересовать. Все это так от вас далеко! Но по возможности я буду краток. Впрочем, ничего интересного для вас я не обещал, а ожидать великих приключений в жизни Сильвестра Бонара вы и не могли.
Госпожа де Габри побудила меня продолжать, что я и сделал в следующих выражениях:
– Господин де Лесе был резок с мужчинами и учтив с дамами. Он целовал руку у моей матери, не приученной нравами республики и времен империи к такой любезности. Через него соприкоснулся я с эпохой Людовика Шестнадцатого. Господин де Лесе был географ, и, думаю, никто так не гордился тем, что занимается обликом нашей планеты. При старом режиме он принялся за земледелие по-философски и растратил на это свои поля – все до единого арпана. Не имея больше ни клочка земли, он завладел всем земным шаром и, по сообщениям путешественников, составлял карты в количестве необычайном. Вскормленный чистейшим разумом «Энциклопедии», он не ограничивался тем, что размещал людей на таком-то градусе, минутах и секундах широты и долготы. Он занялся – увы! – их счастьем. Следует заметить, что люди, занимавшиеся счастьем народов, делали своих ближних весьма несчастными. Господин де Лесе был роялист-вольтерьянец, порода довольно распространенная в те времена среди «бывших». Он был геометром больше д'Аламбера, философом больше Жан-Жака и роялистом больше Людовика Восемнадцатого. Но любовь его к королю была ничто в сравнении с его ненавистью к императору. Он участвовал в заговоре Жоржа, угрожавшего жизни первого консула; следствие или не знало о нем, или пренебрегло им, но его не было в числе виновных. Этой обиды он никогда не мог простить Наполеону, звал его корсиканским людоедом и говорил, что никогда бы не доверил ему и одного полка, – настолько жалким считал его воякой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































