Текст книги "Халатов и Лилька"
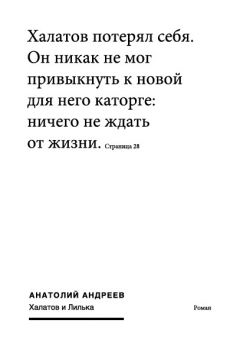
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Митька отчего-то обрадовался. Даже просьба выручить с деньгами не смутила его. Ждет его новых романов. Чудак, какие романы, когда жизнь покоя не дает. Не до романов, не до романов. Не те романы на уме. А те – пока в чернильнице. Как дела, в общем и целом, Дмитрий Палыч? Поднялся на детективах? Издали серию некоего Зайцева? Нет, не читал. Недосуг. Но никогда не сомневался в огромных возможностях жанра. Не подведет. Что наша жизнь? Детектив. Ну, ладно. Подробности при встрече. Пока. Да, Марине привет. Как она там? Ну, и прелестно. Чудно. Рад за вас.
Тамара Божо вошла в кафе вовсе не поступью судьбы, не роковой вершительницей биографий, как можно было ожидать. Она была покладиста и тиха. Она, признаться, мучилась, испытывала чувство вины за ту дикую сцену ревности, что закатила тогда сгоряча. Себя не помнила. Ее как женщину можно понять: Обольцова отбирает у нее второго возлюбленного. Возлюбленного? Полно, Тамара. Все в прошлом. Ты проглотила меня, как паучиха.
– Хочешь меня оскорбить? – сказала Тамара, доставая платок с нежнейшими розовыми разводами, пропитанный тонким загадочным ароматом, в котором угадывались пряные вкрапления Востока. Запах взволновал добрую половину ранних посетителей, почему-то сплошь мужчин.
– Нет, я хочу найти Обольцову.
– Скажи мне, Володя, я нравилась тебе хоть немного? Ты воспринимал меня как свою женщину?
– Сейчас не время говорить об этом…
– Сейчас самое время. Я вложила в тебя душу. Я и до сих пор… Да что там…
– Лучше скажи, какими пилюлями ты меня опоила? Я чуть не сдвинулся.
– А ты думаешь, с таблеток все началось? Не смеши меня, Халатов. Это было безобидное психотропное. Что-то связанное с психотворчеством. Подвижник мешками глотал эти порошки. Не надо путать мои чары с действием этого поганого зелья.
Она махнула рукой, встала и с достоинством удалилась, не проронив ни слезинки. Немногие из сидящих в кафе мужчин удержались от того, чтобы не проводить ее глазами. Лезвия взглядов, которыми они потрошили Халатова, были холодными и укоризненными. Ему же было все равно. Он понял, что Тамара не имеет к исчезновению Обольцовой никакого отношения.
Месяц судорожных поисков не дал никаких результатов. Лилька как в воду канула. Халатов мрачно и исступленно держался на горьком энтузиазме, отгоняя от себя мысли о том, что самое худшее в его жизни уже случилось.
И все же он не хотел предавать любовь. Может быть, поэтому судьба сжалилась над ним и подарила ему что-то вроде надежды.
А может быть, это была только злая ирония фортуны.
Кто знает?
10. Пианистка Аня
Все началось пронзительным ноябрьским днем, который быстро перешел в темный холодный вечер. Выпал первый снег, пугающе выла легкомысленная городская метель. Ветер то разгонял тучи, то играючи сбивал их в жидковатую и рыхлую пелену, насквозь просвеченную солнцем, с иронической скукой взиравшим на предзимнюю возню стихий. Голубыми прорехами кое-где сияло безучастное к земным делам небо.
Такой день мог бы и добавить настроения, однако Халатов был стабильно угрюм. Еще вчера он решил, что не стоит больше в жизни унижаться до счастья; но уже сегодня он словно бы засомневался. Так или иначе его потянуло на улицу.
Он шел куда глаза глядят, а ноги, как обычно, вели его в направлении Троицкого предместья, а может, к дому на набережной. Он увидел Анну возле кафе-бара с вызывающе судьбоносным названием «Тройка, семерка, туз», расположенного прямо напротив холодно блиставшего кафедрального собора. Читатель помнит это место, от которого Халатов так много ожидал, но которое не сыграло никакой особой роли в его жизни.
Разумеется, он не знал еще, что зовут ее Анна. Просто его поразила беззащитность девушки в распахнутой дубленке. Халатов остановился и стал рассматривать ее молодое свежее лицо с широко посаженными необычного выреза глазами. Девушка подошла к нему с улыбкой, как к старому знакомому, вздохнула и припала к его губам долгим поцелуем. Целовалась она очень трогательно, мешая себе и ему большим влажным языком. Ее пухловатые губы отдавали мятой и карамелькой. Девушка начала постанывать, но не от избытка нежности и страсти, а, скорее всего, из соображений приличия.
– Как же так, – искренне удивился Халатов, – вы же меня совсем не знаете… А мы с вами уже крадем у мира нежность. Это очень интимное дело.
– Меня зовут Аня, – все так же улыбаясь пропела девушка, тряхнув светлыми волосами и поправив их нелепым движением длинных тонких пальцев. Она была банально пьяна. Вдрызг. В стельку. – Я победила на конкурсе в Германии. Первая премия. Тысяча долларов.
– Пианистка?
– Правильно, пианистка.
– Мои поздравления, леди.
– Анька, блин, ты уже кого-то подцепила, – кричала темноволосая с короткой стрижкой худая невысокая барышня, высунувшись в дверь из бара. – Так ты едешь или нет?
– И куда вы едете? – тоном пастора поинтересовался Халатов.
– На дискотеку, – улыбалась Анна.
– Вы же едва на ногах держитесь. Вам нельзя.
Темноволосая смуглянка смерила Халатова оценивающим взглядом.
– Вот вы бы и помогли даме, – решила она и бросила в снег окурок. – Тряхните стариной. Да смотрите, чтобы ничего не отвалилось.
– Я не могу, у меня другие планы…
– Анька, ты едешь или нет? – снимая с себя всякую ответственность, поставила вопрос ребром подруга, демонстративно перестав интересоваться нерешительным кавалером.
– Ей нельзя в таком состоянии. – Халатов уже начинал нервничать.
Из дверей бара вывалилась толпа подгулявшей молодежи.
– О-о-о! – сказал какой-то козлобородый очкарик, подлетел к Ане и поцеловал ее взасос.
– О-о-о! – сказали все остальные, ржанули и растворились во тьме за углом.
Халатов остался один с улыбающейся девушкой на руках.
– Где вы живете, принцесса?
Девушка назвала грустно известный в Минске район злачной окраины. Название, впрочем, было изысканно поэтическое: Серебрянка.
– Это не мой район. Ладно. Я довезу вас на такси. Не оставлять же вас здесь в сугробе…
– Шарф, – сказала Аня, глупо и беззащитно улыбаясь.
– В каком смысле шарф? Вы же не Айседора Дункан. Вы играете, а не пляшете, позвольте вам напомнить. Да и я вовсе не Есенин.
– Шарф забыла в баре. Меня маман прибьет. – В глазах и голосе лауреатки уже пробивались нотки трезвости.
– Пойдем за шарфом, – Халатов вынужденно входил в роль покровителя.
Они спустились в подвальчик, и в нос Халатову ударил кисловато-едкий чад табачного дыма.
– Где мы сидели? – галантно вопросил он.
– Там, – небрежно бросила дама.
– Понятно, – сказал Халатов, решая, куда ему вначале податься, направо или налево.
– А-а, королева, – крякнул крепкий мужской голос у него над ухом. Аня улыбалась так, словно увидела перед собой спасителя Моисея.
– Мы за шарфом, – прокомментировал ее улыбку Халатов.
– Ступай, юноша. Дверь на выход – туда. Тебе на улицу, – лениво процедил инструкцию крепкошеий бугай, даже не поворачивая головы в сторону Халатова.
Самое убедительное, что мог сделать в этой ситуации Халатов, – это размозжить башку бугаю из кольта какого-нибудь очень крупного калибра или, на худой конец, подвернувшейся дубовой скамьей. Лучше всего, конечно, заставить бычка внимательно слушать свой очень тихий голос. Любое другое действие в этой ситуации было бы откровенной слабостью.
Халатов еще только робко шевельнул губами, как бугай чутко упредил его:
– Возражений не принимаем.
Халатов развернулся, схватил Анну за руку, однако бугай, сделав змеиный выпад, встряхнул его, как дурачка Пьеро, и вознес по каменным ступеням к выходу. Спокойно вывел за угол и кратко ткнул, не ударил, а именно сделал тычок кистью. Халатова отбросило на добрых три метра, и он позорно завалился в сугробик.
– Иди, – мирно сказал бугай, бережно укрывая пламя золотой зажигалки. – Понял?
И вразвалку направился к бару. Потом медленно вернулся, молниеносно врезал широким носом полуботинка в челюсть и опять доходчиво и внятно спросил:
– Понял?
Молчание было единственно доступной формой сопротивления, но бугая отчего-то уже перестал интересовать некрупный и ненакачанный мужик, который не умеет блокировать удары.
Халатов встал, несколько раз отер снегом разбитое лицо, сплюнул кровью и спокойно пошел в бар вслед за бугаем.
Анна сидела за стойкой бара, бугай веско делал заказ, обращаясь к белобрысой мурене с агрессивно подрезанной челкой, из-под которой неподвижно блистали остановившиеся глаза навыкате. Халатов не меняя ритма спустился, взял Анну за руку и потащил ее к выходу.
– Слышь, клоун, – ласково сказал бугай, не поворачивая головы, – я сейчас тебе хребет сломаю, и ты будешь долго и мучительно умирать…
Халатов выскочил с Анной из бара и метнулся к мигавшей оранжевыми поворотниками машине. Перед ним солидно замер огромный, блистающий фарами джип, в свете которых, как в лучах славы, возникла, из воздуха воплотилась фигура восточного, темного лицом человека. То был Тигран, тот самый повелитель, которого Халатов видел на похоронах Подвижника.
– Твоя дэвушка? – расслабленно спросил незнакомец.
– Нет.
– Пусть уходыт. Садысь.
– Ты в состоянии добраться домой? – спросил Халатов у Анны. Девушка быстро закивала головой и неровно побежала куда-то в темень.
– Где Лилия? – спросил Халатов, сплевывая кровь.
– Садысь, – был ответ.
Джип взревел и дал полный задний ход, потом плавно затормозил и мощно набрал скорость.
– Знаешь, кто я?
– В общих чертах.
– Правильно. Много знать не обязательно. – Тигран говорил с сильным армянским акцентом. – А ты что за птица?
– В общих чертах…
И Халатов в двух словах изложил необходимую информацию, из которой следовало, что он обладает всеми правами на Лильку.
– Ты ищешь ее, я знаю. Много слышал об этом. Я обещал ей, что убью тебя, если встречу вас вдвоем. Поэтому она убежала. Понял? Ты ее не найдешь. А если найдешь, то сразу убегай от нее. Она где-то в Западной Европе. Я ее найду. Если ты мне захочешь помешать, то, как вы говорите, я вас обоих в порошок сотру. И прах где-нибудь развею. Понял?
Ответа не последовало.
– Ты понял?
Халатов мрачно смотрел на мелькавшие в темноте деревья. Они выехали куда-то за город. Тигран гортанно вскрикнул, и джип застыл на обочине.
– Уходи, – сказал Тигран, не глядя на него и тут же оживленно заговорил на армянском с водителем. Халатов еще не коснулся ногой земли, как джип рванул с места.
Дорога, на которую он упал лицом вниз, была мокрой и грязной. Халатов оглянулся и с удивлением обнаружил, что он находится на повороте, ведущем к коттеджу Тамарки Божо. Халатов еще раз сплюнул кровью и зашагал в противоположном направлении по неосвещенному шоссе.
Снег бил и бил в лицо, ветер усиливался.
Что стояло за решительной походкой Владимира Андреевича? Отчаяние? Готовность к борьбе? Утаиваемое от самого себя желание сдаться?
Кто знает.
11. Как вам были к лицу искусственные цветы, месье!
– Не горюй. Материал-то какой богатый накопал! На три романа станет! – не скупился на комплименты Митька.
– Дурень ты патентованный, Долгодедов. Стоеросовый пень. Мне даже по роже тебе дать не хочется – так я презираю твои слова.
– Я не дурак, Володя. Мне просто хочется поддержать тебя. Я хочу сказать, нет худа без добра.
– Материал! Ужас какой, – сказал Халатов и замолчал.
Они сидели в квартире Халатова и мирно распивали ледяную водку, чего не делали уже несколько лет. Многое меняется в мире, хотим мы того или нет. Халатов уже не слишком сопротивлялся переменам.
– А пианистку эту ты встречал потом?
– Встречал. В том же баре. Поздоровался, но она меня даже не узнала.
– Да, люди неблагодарны. Женщины тем более.
Друзей сближало теперь то обстоятельство, которое ранее их разъединяло, а именно: Марина ушла от Долгодедова к его шустрому боссу. Произошло практически то же самое, что раньше случилось в семье Халатовых. Если рядом с мужем появлялся кто-нибудь более трудолюбивый, удачливый и положительный, Марина, как самка сайгака, тут же перебегала на брачную территорию более перспективного самца. Она не жила, а с чувством исполняла гимн теории естественного отбора. Ее, красивую, всегда заслуживал кто-то более сильный.
– Но меня она любила, – сказал Халатов. – За меня она выходила бескорыстно, по любви.
– Так ведь и меня любила. А бобра этого, Гущина, думаешь не любит? По-своему любит. Там кошелек – во, как ряха. Не любить такого – надо быть идиоткой.
– По-своему, по-моему… А ты ее любишь, Дед? Как ты пережил ее уход?
– Как тебе сказать… Не вижу тут особой проблемы. Ну, не сошлись характерами, разошлись. Бывает. Слушай, камрад, познакомь-ка меня со своей пианисткой. Мне нравятся такие, которые сразу целоваться лезут. Да еще к прекрасному неравнодушна. Мы сойдемся.
– Я даже не помню, как она выглядит. Без дубленки не узнаю. Помню только пальцы: длинные, тонкие.
– Это уже особые приметы. И зовут, говоришь, Аня?
– Аня.
– И целоваться не умеет? Отыщем, век воли не видать.
После ухода Митьки на Халатова навалилось мрачноватое настроение.
Именно сегодня, 15 июля, минул ровно год с того незабываемого дня, когда он на кладбище впервые увидел Лильку. Странное дело: Лилька исчезла, а в сердце самые сладкие воспоминания отдавали болью. Это была его женщина. Он любил ее и не лукавил перед собой.
Сразу после ее исчезновения он день и ночь ждал от нее звонка, а потом, где-то через полгода, понял, что она права: нельзя любить, как любили они, и при этом не помышлять о совместной жизни. А если быть вместе невозможно – уж лучше сразу отсечь иллюзии раз и навсегда.
Так легче. Так должно быть легче.
Но легче не становилось.
Первое время Халатов не находил себе места. Он пытался работать, пробовал лениться, придумывал себе полезные и бесполезные занятия. Без Лильки все как-то теряло смысл, тускнело, все было неинтересно. Он физически ощущал ее отсутствие. Все то, что он делал, оказывается, предполагало ее восприятие. А ее не было. И пропадал кураж, азарт, заставляющий с удовольствием двигаться, есть, говорить. Он просыпался и засыпал с одним ощущением: рядом нет Лильки.
Особенно мучительно было отдыхать, то есть насильно отрывать себя от скучной работы. Халатов быстро сообразил, что бездействие, мгновенно переходящее в тупое созерцание, его окончательно добьет, потому что образ улыбающейся Лильки с васильковыми глазами стоял перед ним как наяву, и через два дня отдыха он впадал в тоску. Жизнь для него превратилась в процесс непрерывного отвлечения, примитивного и нудного самообмана. Он просто тянул лямку и, наверно, на что-то надеялся.
Клин клином вышибают: Халатов прекрасно знал этот закон жизни. Чтобы вытеснить старые впечатления, необходимы новые. Он стремился избавиться от наваждения, которое принято называть высокой болезнью, любовью. Он честно пытался забыть Лильку. По-другому выжить было невозможно. Что уж тут, не он первый, не он последний. Звонила Тамарка, навещали старые подружки. С новыми дело как-то не клеилось. И ни с кем не хотелось говорить о своей ране. Халатов ощущал отсутствие Лильки и наличие горькой любви к ней именно как саднящую рану.
Постепенно Халатов притерпелся к боли, она была уже не такой острой, хотя никуда не желала уходить. Новое чувство стало мучить Халатова: ему становилось нестерпимо жалко влачить день за днем, месяц за месяцем одному, и даже не иметь надежды на то, что завтра или через год что-нибудь поменяется. Это было похоже на чувство обиды. Рок обходился с Халатовым бесцеремонно и в высшей степени несправедливо.
Временами он почти ненавидел свое чувство к Лильке, которое безжалостно его изматывало, но изменить ничего не мог. Это был родной и близкий кошмар, своего рода болезнь, в которой он не находил ничего высокого. Халатов и не пытался ничего поэтизировать или идеализировать. Литературное представление о любви бесило его. Он просто изо всех сил старался держаться на плаву, втайне немало удивляясь тому, что с мужиком может происходить такое. И по-прежнему ни с кем не хотелось делиться своей душевной болью. Чувство к исчезнувшей Лильке обрекало его на одиночество.
Вот в каком удивительном настроении пребывал Халатов все эти дни и месяцы. Годовщина их отношений, мягко говоря, не прибавила ему настроения. Он и рад был бы забыть эту скорбную дату, но память была сильнее и хитрее. О Лильке нельзя было забыть даже тогда, когда он о ней и не помнил.
Хуже всего было то, что ничего стоящего не лезло в голову писателя. Он не мог выдавить из себя ни одной путной строчки. Те отсеки, которые заведовали творчеством, просто-напросто отказывались функционировать. Они вымерли, сгорели. На душе было пусто и бесплодно. Скверно. Даже Тамаркины таблетки действовали угнетающе. Под их воздействием из глубин души всплывали будто кем-то продиктованные мрачные афоризмы: чтобы быть верным кому-то, надо научиться предавать себя; счастливая жизнь – это искусство компенсировать тем, что есть, недостаток того, что тебе действительно необходимо; как же трудно быть человеком – а все потому, что скотиной, что ни говори, быть приятно; задуши скота в себе – и ты получишь монстра; самое смешное то, что никто не смеется в мире последним…
О том, чтобы в таком состоянии садиться за роман, и речи идти не могло.
Тамара с большим почтением смотрела на муки Халатова и стала бесконечно уважать его, но почему-то перестала любить.
Халатов уже начал уставать имитировать интерес к событиям, корчить из себя жизнелюба. Самое страшное было в том, что это даже не пугало его.
И вот вечером 15 июля в квартире Халатова раздался звонок. Владимир Андреевич даже похолодел изнутри, провел рукой по седому ежику волос.
– Ало-о, – сказал он ровным голосом.
– Добрый вечер, коллега, – донесся до него жутко знакомый баритон.
Халатов был потрясен. В данном случае в это затасканное в новейшей литературе слово я вкладываю следующий смысл: он не побледнел и не затрясся, его даже не бросило ни в жар, ни в холод; просто ему показалось, что звонят из преисподней и любезно приглашают нанести туда визит. Делают обычный деловой звонок. Перепутали жизнь со смертью.
– Доброго здравия, Вольдемар Подвижник.
Он и сам удивился тому, что произнес. «Чертовщина какая-то!»
– Вы опять даже не изволите удивиться?
– Незадолго до твоей нелепой смерти мы, если мне не изменяет память, перешли на ты.
– Память тебе не изменяет. Я вижу, ты в форме, старина. В полном порядке. Или не совсем так?
– Не дождешься. Именно так. Я в полном ажуре. Ну, как ты устроился там, в душной преисподней? Не жарко?
– Ты так уверен, что я не в раю?
– Уверен. Если там еще, не в пример нашему свету, сохранились границы между раем и адом, то ты точно не в раю.
– Что есть рай, старина? Да я прохожу мимо этой конторы с расстегнутым гульфиком! А если ты определяешь различия между этими условными полюсами разницей температур, то в Париже сейчас даже прохладнее, чем в Минске. Большой вопрос, где сейчас ад. Он постоянно смещается, расширяя свою немалую территорию.
– Я удивлен, Подвижник. Я чрезвычайно удивлен. Не знаю, рад ли, но удивлен – это точно.
– Мне приятно это слышать. Я ведь так старался. И потом ты же знаешь: я предпочитаю живые эмоции: любовь, ненависть, изумление. Терпеть не могу скуку и равнодушие. Потому я и отказался от рая.
– В таком случае ты простишь мне мое неумеренное любопытство: как тебе удалось воскреснуть из мертвых? Бальзамчик, что ли, нашел какой? Али воду живую? Или все же промахнулся ненароком?
– Элементарно, Ватсон. Документы при трупе были, натурально, мои, оригинальные. А дальше – заплатил кому надо, поговорил кое с кем. Дело техники. Скучно.
– А трупом был не ты?
– А трупом был не я. Трупом был один мой не в меру любопытный друг.
– Понимаю.
– Шутка. Трупом оказался злосчастный бродяга. Мне повезло: я первый его обнаружил. И я решил устроить мистификацию. В этом мире нет чудес. Разгадки самых невероятных загадок банально просты.
– Допустим. У тебя, конечно же, опять ко мне предложение?
– Предложение – это громко сказано. Впрочем, если угодно, предложение, от которого ты вряд ли сможешь отказаться.
– Ты же знаешь, я способен бросить трубку…
– Ты на многое способен. Но я знаю пределы твоих возможностей. Слушай же Халатов.
– Володя, милый, – сказали в трубку и разрыдались.
Странно: он почувствовал, что из сердца вынули занозу, стало легко и свободно. Будто только вчера они расстались с Лилькой по недоразумению или по ничтожному поводу. Подвижник же, явившийся с того света, представлялся теперь Халатову лучшим другом.
– Лилька, не плачь, не надо. Ты по-прежнему нежная блондинка?
– Боюсь, я уже седая шатенка.
– И тебе идет этот модный в Европе цвет?
– Не знаю. Некому оценить, – говорила она, по-детски всхлипывая. – Одни уроды вокруг.
– И фамилия у тебя прежняя – Обольцова?
– Да, да, у меня все по-прежнему. Только я устала без тебя Халатов. У меня больше нет сил, – почти шептала она осевшим голосом, едва сдерживая слезы.
– Лилька, милая, ты где?
– Я далеко, – плакала она в трубку.
– Где далеко?
– Не спрашивай, я не могу сказать.
– Помнишь тот день, когда я тебя первый раз обнял, поцеловал и, собственно, все у нас тогда было в первый раз?
– Помню, конечно, помню. Тогда оркестр играл. Очень громко.
– Давай встретимся в тот же день на том же месте.
– Нет, нет, не могу, не могу.
– Почему?
– Не спрашивай. Как ты живешь? Ты не женился?
– Я жду тебя, ты же мне слово дала. Или ты забыла?
– Я ничего не забыла.
– Тогда возвращайся, Лилька.
– Я постараюсь. Ты не женись там ни на ком, пока я жива, слышишь, Халатов? Я люблю тебя…
И она исчезла из эфира так же внезапно, как и появилась в нем.
– Ты еще не бросил трубку, писатель? – вновь овладевал сознанием Халатова властный баритон.
– Чего ты хочешь, дух зла?
– Наконец-то ты заговорил человеческим, то есть слабым голосом. У меня к тебе деловое предложение. Ты ведь не откажешься взглянуть на свою удивительно похорошевшую подругу и встретиться с ней около памятника Пушкину? Не откажешься, я полагаю. И это вполне возможно, вполне.
– Чего ты от меня хочешь?
– Ты ведь не Фауст, а всего лишь Халатов, да и я не Мефистофель. Давай поговорим о деле и деловым тоном. Твое ворчание меня раздражает.
– В чем суть твоего предложения?
– Так намного лучше… Суть моего предложения, как вы изволили выразиться, проста, как и все в этой жизни, если, конечно, не усложнять все по неведению. И люди просты; сложны только проявления их простоты. Я отдам тебе твою Лильку. Не спеши с благодарностью. Взамен ты ликвидируешь Гектора Соломку.
– Гектора Аристарховича?..
– Подполковника Соломку. Зачем столько эмоций по поводу одной никчемной жизни.
– Что значит ликвидируешь?
– Убьешь. Размозжишь ему башку, отрежешь что-нибудь. Как придется. На что фантазии хватит.
– Но зачем тебе Гектор Соломка?
– Этот принципиальный негодяй о многом догадался. Он почти раскрыл дело Левона Бабаяна. И мое дело. Он мне надоел. И Тамару донимает, змей. Вот Тамаре, кстати, ты и позвонишь. Она тебе плохого не посоветует. Два раза повторять не буду. Согласен?
– Согласен…
– А ты мне понравился, Халатов. В тебе есть что-то настоящее. Ты очаровательно беспомощен. Может, когда-нибудь и поговорим по душам. Да, если ты не устранишь Соломку, мне придется организовать целых три трупа. К Гектору плюсуй Обольцову, а также подающего надежды писателя, ее возлюбленного. Простая арифметика. Так что будь гуманистом, Халатов. Оревуар, как здесь выражаются местные пижоны. Бросать трубки отныне буду только я. И звонить буду я.
Халатов сидел на диване, не выпуская из похолодевших рук трубки, и протяжные гудки отзывались острой болью в сердце.
А может, это пульсирующая боль отдавалась нудными гудками?
Кто знает!?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































