Текст книги "Халатов и Лилька"
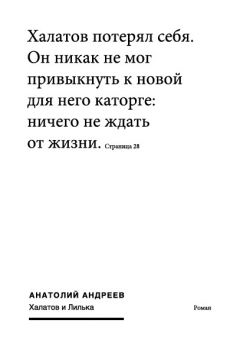
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Но уж если по божественному счету – была, была еще одна теоретическая возможность… Если для нее нашлось бы в жизни место, то я мгновенно превращался в аутсайдера. В пыль и прах. В вероятность такого прорыва не хотелось верить. Меня бросало в холодный пот при мысли о том, что я, вместе со всеми моими потрохами и запредельным уровнем понимания, мог быть банально счастлив. Это был бы какой-то королевский гамбит, по-настоящему уникальный. Мне сразу же хотелось убить кого-нибудь или написать очередной детектив. Я со страхом оглядывался вокруг, боясь увидеть человека, вырвавшегося из лабиринта, ставшего моей могилой, моей золотой усыпальницей.
Именно тогда я встретил Обольцову.
(…)
4. Мое самоубийство
Она сидела на той самой скамейке, на которой, бывало, сиживал мой разочарованный дед, ела мороженое пломбир в стаканчике и плакала.
– Зачем же плакать? – спросил я. – Радоваться надо. Все вокруг цветет, все пронизано весной, как бы. Жизнь бурлит. Разве что-нибудь на свете стоит ваших слез?
Девушка уверенно кивнула головой, продолжая жадно поглощать белое мороженое.
– Вас кто-нибудь обидел?
– Угу, – просто ответила красавица с васильковыми глазами.
– Кто этот негодяй?
– Левон, мой муж.
– Левон? – изумился я.
– Да, Левон.
– И чего же он хочет, этот гадкий абрек Левон?
– А черт его знает. И сам не живет, и другим не дает, – сказала девушка, облизывая палец.
Ответ несколько озадачил меня.
– А вы умеете радоваться жизни?
– Конечно, умею. Мы в Греции живем. Вот приехала домой, сижу и радуюсь до слез.
– Так это у вас трогательное свидание с родиной?
– Да вроде того. Краткосрочный отпуск. Увольнительная.
– А давайте я вас выкуплю у Левона…
Девушка звонко рассмеялась, и на сей раз веселые слезы заблестели в ее глазах.
– Тогда украду.
– Поберегите себя, молодой человек для барышни более достойной. А в Минске, как я погляжу, не соскучишься. Ах, это мой город!
– Возьмите, пожалуйста, мою визитку. Позвоните, если захочется.
– Почему бы и нет? – сказала она, изображая кокетство. И томно добавила:
– Меня зовут Лиля.
И опять рассмеялась.
Странно: как только я начинал думать о Лиле, мои проблемы отодвигались на второй план, иногда мне даже казалось, что их просто не существует или они существуют в моем воображении.
И я решил, что я влюбился в Лилю, и эта новость обрадовала меня не на шутку. Умственных привязок к жизни почти не оставалось, да и душевных было – кот наплакал. И тут такой роскошный сюрприз от постылой жизни!
Но тут же меня поджидал и второй сюрприз. Тамара чутко отреагировала на изменение моего состояния и не стала скрывать тревоги.
– У тебя появилась другая женщина?
– Да, – ответил я, пожав плечом.
Заедать чужой век – не самое приятное из известных мне удовольствий. К тому же перспектива временного оживления увлекала меня. Я был радостно возбужден проснувшейся во мне человеческой слабостью, и потому обошелся с Тамарой бесчеловечно.
– Если ты уйдешь от меня, я убью себя, – заявила Тамара, обнаружив волю и характер, которых я в ней не предполагал.
– Это шантаж? – уныло вопросил я.
– Да какой там шантаж… Из окна вывалюсь, только мозги брызнут в разные стороны. Вот и весь шантаж. Ты как вампир: полакомился моей юностью, высосал всю до морщин, а теперь отпускаешь на волю. Великодушие какое! Эгоист проклятый. Ничего вокруг не замечает. Да я ради тебя все эти годы жила, тобой дышала и тебя же выхаживала. Ты посмотри на себя, тень отца Гамлета. Я уйду – и ты рухнешь, растаешь, рассеешься. Рассосешься. И черт с тобой, иди. А я просто дура была, так мне и надо. Иди, не дождешься, я выживу.
– Как вам будет угодно, мадам.
Некоторое оживление в личной жизни пошло мне на пользу. Лиля, которой я все больше симпатизировал, похоже, не рассматривала меня как избавителя, а Тамара, которая любила меня, была мне в тягость. Это уже что-то, это смахивало на узелок, это напоминало слабый импульс жизни.
Но у Лили проблемы были не чета моим. Один из братьев, бывший ее законным мужем, собирался отдать Лилю в публичный дом за то, что она посмела уехать в Минск вопреки его воле, а второй, Тигран, не прочь был на ней жениться, что только укрепляло решимость неукротимого Левона сделать свою жену путаной.
Тамара молча угасала, отказываясь принимать ищу и разговаривать со мной. Лиля уже и думать боялась о возвращении в солнечную Грецию, скрываясь на квартире, которую я снял для нее. Я решил для начала спасти ее – а там будь что будет. Мне хотелось хоть раз в жизни испытать взаимную любовь. Мои чувства до сих пор были сугубо эгоистическими. С другой стороны, источником «добрых чувств» и на сей раз выступал все тот же мерзкий эгоизм…
С Лилей мы пока не были близки, но у меня на этот счет была своя тактика и метода. Загадочное женское сердце, думал я, вовремя созреет и во всей своей румяной красе подкатится к подошвам моих сандалий. Я испытывал странную потребность не только любить, но и быть любимым.
Но Лиля разрушила все мои планы. Она заявила буквально следующее, реагируя на мою неловкую, но пылкую попытку обозначить предел своих желаний:
– Ты мне напоминаешь доброго вампира: руку помощи протягиваешь только своей потенциально жертве. Ты какой-то… перекошенный. Извини, но ты, Вольдемар, чем-то похож на Левона: животный, тупой эгоизм – вот что руководит тобой. Ум? Где тут ум?
От любви – к «перекошенному эгоизму»: вот в кого превратился думающий советский пионэр. И это была правда, которую я не скрывал от себя. Я уже был почти скотиной – при всем том, что сознательно никогда не делал зла. Я стал ловить себя на мысли, что мне все чаще, как и отцу моему, хотелось заскулить:
– Я профукал свою жизнь, что-то сделал не так. Зря звездное небо коптил.
Обратите внимание: в неудавшейся жизни я считал виноватым себя. Не судьбу, не Тамару, не Лильку – себя. Одно дело объективная невозможность грамотно прожить жизнь, и совсем другое – твое, персонально твое неумение выбраться из тупика. Исчезает сознание собственной правоты, уходит ощущение силы. От слабости начинаешь рычать и бросаться на первого попавшего. Слабак! Вот что слегка лишало меня душевного равновесия.
Обратите внимание: если бы я был уверен, что выхода нет, что дело не во мне, а в невозможности умным людям жить в этом балагане – я бы считал свою жизнь вполне состоявшейся, я мог бы честно смотреть в глаза звездам. Я бы плевал на вечность.
При всем при том я не видел вокруг себя образца, на который мне хотелось бы хоть как-то равняться; точнее, интересовал меня не образец, а рецепт спасения. Я искал рецепт не только здесь и сейчас, у себя под носом, неустанно оборачиваясь по сторонам. По мере сил я перелопатил всю мировую культуру. Пусто. Близко к этой черте подошел Фауст, есть еще два-три романа, в которых отразился век, и природа жалкого человека изображена довольно верно. Такой уровень меня устраивал, он льстил моему самолюбию. Я был уже почти уверен, что всеобщий тупик нельзя считать личной проблемой. Пустота – свойство универсума. При чем здесь я?
Именно в этот момент судьба подбросила мне встречу с Владимиром Андреевичем Халатовым. Кстати, сейчас я далеко не так, как раньше, уверен в том, что никакой судьбы нет. Узор моей жизни, не мною плетенный, настолько впечатляет сам по себе, что поневоле начинает казаться, будто над прихотливой линией твоей судьбы усердно поработал хитроумный мастер. Узор завораживает. Если я чья-то игрушка в чьих-то руках – претензии, опять же, не ко мне. Свою задачу я вижу только в том, чтобы в свой смертный час мои губы бессознательно бормотали не «я профукал жизнь», а «я сделал все, что мог»…
Халатов, вроде бы, нормальный мужик, обычный, каких немало было и до него, будет и после. Но я давно предчувствовал эту обманчивую простоту и мгновенно насторожился. В сердце что-то екнуло: этот – по мою душу! Я внимательно перечитал все его романы (Тамара, кстати, тоже с удовольствием подключилась к этому обычному занятию). Я мрачнел от страницы к странице. Он писал, как жил. Так, как сегодня никто не делает. А ему было наплевать, словно он живет не сегодня, вне эпохи, словно он приятель Фауста. Я понял, почему его не издавали так, как меня: он был по-настоящему талантлив. Он не кичился своей силой, но был по-настоящему силен. Его книги я читал как приговор себе.
Именно тогда меня осенило нечто вроде творческого вдохновения. Это были отнюдь не те хорошо знакомые мне детективные потуги ремесленнического толка, необходимые для технического исполнения дешевой трехходовой загадки типа «кто же убил на самом деле, если подозреваемых трое (четверо, пятеро, семеро и т. д.)» – а настоящее вдохновение, кураж, бьющая через край энергетика. (Полезное замечание в назидание тем, кто кормится детективами. Маленький мастер-класс. Экспромт. Одну секундочку! Казалось бы, должно быть лучше, если подозреваемых не пять, не семь, а восемнадцать. Чем больше – тем лучше. Но – внимание! – это уже будет интеллектуальный детектив. Публика начинает нервничать, если подозреваемых больше трех. Начиная со сказок и кончая Библией, мы блудим в трех соснах. На троечку, на троих – эта магия сидит в печенках. Считайте в унисон с народом. Раз, два, три! До трех. Только тогда тиражи увеличиваются в восемнадцать раз. Если вы начинаете специализироваться на интеллектуальном детективе – тиражи падают в три раза. Мистика какая-то.) Именно тогда в моем воображении завистливо сложился роман, не детектив, которых я намастерил десятки, а подлинное духовное и эстетическое чудо. В моем воображении синей ломаной молнией сверкнул какой-то сюжет, связанный с моей судьбой, но он был богаче моей судьбы, и таил в себе решение всех моих загадок. У меня даже руки затряслись, я перестал спать. Я понял, что роман мой и будет искуплением. После такого романа я уже не смогу сказать «я не угадал своей звезды; а видно, была она, сиротливая». Пара принятых мною творческих пилюль позволили мне оценить степень сложности замысла. Столь богатого и необыкновенно пропитанного сложнейшими смыслами произведения, иронически и неиронически пересекающихся, мир еще не видел. Наброски этого романа живо волнуют меня до сих пор. Пятичастная форма родилась мгновенно. Вот названия частей, если угодно:
1. Тамара.
2. Владимир Андреич.
3. Минск.
4. Княжна Лилька.
5. Оптимист.
Какой-то смутный узор моей жизни был растворен в дымке романной перспективы. Я обдумывал столь быстро явившуюся пред моим мысленным взором форму плана. И меня очень радовало то, что я предсказывал себе оптимистический финал. В названии же романа сквозило что-то японское. Я же говорю, меня удивляло все: план, форма, сюжет, название… Хороший роман – это сплошной туман, из пелены которого время от времени высовываются остовы каких-то жизнерадостных персонажей и отдельные фрагменты, находящиеся между собой в какой-то тайной связи. Роман набрасывает абрисы, контуры – но не дает ясной и четкой картины. Ясная и полная картина – это забота читателя. Я уверен, Халатов именно так писал свои романы, и мой роман потряс бы его.
Было это немногим менее года тому назад. Я был вынужден симулировать свое самоубийство – в надежде возродиться из пепла для новой жизни новым, неожиданным персонажем. Я уже даже не жил; я писал роман! Моя жизнь превратилась в роман. Ощущения непередаваемые. Такое мог испытывать только Бог-отец. Слабо?
А потом… Что же произошло потом? Увы, гены товарища Синедымова и пассивного авантюриста Мишки Зайцева, очевидно, стали брать свое. Роман перестал писаться. Все развалилось, форма и план. Сюжет перестал пахнуть жизнью. Для того, чтобы написать такой роман, надо было жить такую жизнь, а не выдумывать ее. Мой роман добил меня. Я профукал свою жизнь. Я серьезно устал и стал сдавать.
(…)
Сказать ли? Мне показалось, меня крупно обманули. Я бережно распутал сложнейший клубок идей – и внутри оказалась пустота. Роман – это пустота! Игрушка, полая внутри, но ярко раскрашенная снаружи. Какой дьявольский трюк. И романы Халатова – тоже пустота. Все искусство – пустота…
(…)
Я выкрал Лильку из хижины беспечного Халатова, и сделал это прямо под носом у Тиграна. И она вполне оценила мой подвиг; но было уже слишком поздно. Она по уши влюбилась в этого баловня судьбы Халатова, который развалил мою жизнь, как карточный домик, возможно, не желая того, и даже не замечая. Нет, судьбу не переиграть, хотя это единственный серьезный игрок, повстречавшийся мне в золотом храме жизни. И Халатов – туз в колоде судьбы. Поставим и мы на него.
(…)
Я вынужден был выйти на контакт с представителями власти, и в частности, со следователем по особо важным делам Соломкой Г.А. Забавный господин. Вот кто не сомневается в том, что такое плохо, и что такое – хорошо. Может, даже знает, чего хочет. Завидую и презираю. Халатову же я завидую, и потому презираю себя. Есть нюанс.
(…)
Теперь нам с Лилькой открыт путь на родину. Спрашивается: зачем? Нет, съезжу, пожалуй. Карету мне! В Персию, в Персию! Хочу кое о чем поговорить с Халатовым с глазу на глаз. Может, еще и поживу в доме на набережной. Или раздраконить свой золотой храм? (Соломка трижды прочитал последнее слово; несомненно, было написано «срам», но по контексту подходило и «храм». «Нет, – решил Соломка, – храм все-таки лучше. Лепота как-никак.»)
Как карта ляжет. Играть так играть. По крупному.
(…)
Кто знает?
17. Finita la comedia?
– Я прочитал исповедь нашего героя. Стыд и срам, – начал Гектор Соломка на следующий день за поминальным столом. Близкие люди, собственно, хорошо знакомые нам персонажи, как то: Соломка, Халатов и соломенная вдова Божо вспоминали добрым словом некоего Подвижника, хотя на свежеустановленной урне, помещенной в углу колумбария хорошо известного нам крематория, была выбита надпись:
Григорио Л. Пещерски. 1954–2002.
На противоположном конце колумбария в соседнем ряду чернела другая урна, на которой прошлогодние, слегка поблекшие письмена гласили:
Подвижник Вольдемар Михайлович. 1954–2001. Мир праху твоему. Ты будешь вечно в моем сердце.
– Ужас, ужас, – восклицала Тамара Георгиевна Божо. – Я так и не разобралась, кто же он на самом деле был: Подвижник, Пещерский…
– На самом деле, – вступил в беседу Халатов, – на самом деле, как следует из его собственных воспоминаний, он был Владимир Михайлович… Синедымов. Почему Владимир? В честь Ленина, Владимира Ильича, вождя мирового пролетариата. Почему Вольдемар? Каприз сумасшедшей матери. Или протест. Все-таки мать его матери десять лет прохлаждалась в лагерях Сибири. Хотя, вы знаете… В биографии деда и бабушки Подвижника есть такой любопытный штрих: они специально поехали жить и работать в Ульяновск, бывший Симбирск, на родину великого Ленина. Прикоснуться к истокам. Из песни слова не выкинешь. За что боролись, на то и напоролись… А почему Синедымов? Ну, не Заяц же, в конце концов…
– Ужас! Настоящей могилы-то, выходит, и нет. Если он на этот раз не воскреснет, – молча отирала слезы душистым платком Тамара, – то это будет похоже на «Золотые купола смерти».
– Настоящая могила, то есть урна, где лежит подлинный прах З…, то есть Синедымова-Подвижника, – это урна Григорио Пещерски. Кажется, все просто.
– Я со временем разберусь… Но для меня он навсегда останется Вольдемаром Подвижником. Мир его праху.
Они молча выпили.
– Я прочитал исповедь Подвижника, – вновь настойчиво поднял тему Гектор Соломка, откладывая в сторону нож с вилкой. – Прочитал эту проповедь. Ничто не указывало на серьезность его намерений относительно, гм-гм, скоропостижного ухода в мир иной. Правда, он там пишет «пора в Персию, в Персию!» Но Персия вон где, а он подался совсем в другую сторону… Не на восток, а вниз, то бишь вверх. В пустоту.
– Серьезность намерений обсуждать нет смысла. Мы имеем прах как веское доказательство. Что касается моей Персии, тьфу, черт, моей версии, то… Дамы и господа! Умирает тот, кто не хочет жить. Вот и все.
– Не хочет или не умеет, – добавила Тамара Григорьевна, подкладывая Соломке маринованных грибочков. – Ведь с лучком? – с тревогой спросила она и замерла, ожидая знака одобрения. Гектор едва заметно кивнул, Тамара облегченно вздохнула.
– У меня другая версия, – отреагировал Соломка. – Мир его праху, конечно. Спору нет. О мертвом – ничего или что-нибудь хорошее, на худой конец. Но он был глуп. Он не ценил того, что незаслуженно имел.
Тамара Георгиевна неизвестно отчего заалела и потупила очи, просто копируя известную позу Соломки.
Беспечальная, но искренняя тризна затянулась еще на добрых два часа. После этого Халатов откланялся и засобирался домой. Уже прощаясь, Гектор Аристархович обронил:
– Да, в бумагах Подвижника, тьфу, дьявол, этого… Григорио, в юридически, а не духовно важных бумагах, весьма кругленькая сумма завещана Обольцовой. Так что примите мои поздравления. Вы понимаете, на что я намекаю?
– Примите и вы мои поздравления, Гектор Аристархович. Этот некруглый особняк, знаете ли, тоже стоит кругленько…
– Спасибо, гм-гм. Да, чуть не забыл. Вот та самая игрушка, которую нашли в кармане благодетеля.
Халатов схватил мягкую игрушку, то ли дулю, то ли скорбящий размалеванный лик шута, и сразу сжал ее. После этого, ни слова ни говоря, разодрал с хвоста улику под выпученным взглядом детектива и достал записку, которую быстро пробежал глазами. В записке было написано кровью (при этом – замечательной старинной славянской вязью): «Меня распяли все те же фарисеи, коллега, не последним из которых был я сам».
– Скотина, шут, – сказал Халатов остолбеневшему Соломке, швырнул записку и вышел вон.
Потом вернулся и пнул носком туфли упругую игрушку. Размалеванный шут весело отскочил в угол.
– Благодетель какой, – царапали серые кошки сердце Халатова. Он шел и переживал свой позавчерашний разговор с Подвижником.
Странные мысли терзали Халатова. Он думал о том, что тоже не может без презрения относиться к писателям. «Коллега, – мысленно обращался он к себе голосом Подвижника. – Ты научился жонглировать версиями, вероятностями и возможностями, и с виртуозностью паука плетешь из них свой, другой, ажурный мир, отличный от мира настоящего. Ты творишь ложный мир, ибо реальная действительность не подчиняется законам красоты. Реальность – выше и богаче красоты, и назначение твоего мира – отвлекать от реальности. Ты имитируешь реальность, создаешь ложную, красивую «сверхреальность». Зачем тебе это, вития? Почему ты это делаешь? Не потому ли, что беспомощен перед жизнью?
Ты не умеешь жить, и тебе не остается ничего другого, как только отгораживаться миражами от жизни. Искусство писать – это искусство прятаться от жизни, коллега. Получается, что культурные ценности создаются людьми, склонными к красивой лжи. Врунами. Слабаками.»
– Пардон, писатель, – менял маску Халатов, возражая теперь уже своим голосом, – но я и сам не верю в свои комбинации версий и возможностей, и не призываю верить других. Я честно играю. Тку ажур. Меня занимает только красота, ибо она лучшее, что есть в этом «богатом» и «высоком» мире.
– Но если ты, коллега, не веришь в свои фантазии и химеры, значит, ты циник. Чистая красота – удел циников. Твоя красота разрушительна и губительна, ибо выражает неверие в исправление мира. А если ты веришь в свои миражи и воздушные комбинации – ты вольно или невольно лжешь. Вот и выбирай: лжец или циник. Одно стоит другого. Ха-ха-ха! Пус-то-та!
«Конечно, все художники, а также все те, кто способен убедительной версией подменить реальность, – все это больные или ненормальные люди. Вот почему Подвижник называл меня «коллегой». Вот сволочь. Однако и он ошибался! Это была всего лишь очередная версия, за которую он готов был поплатиться жизнью. И поплатился. И поделом: он дерзнул поставить версию выше реальности. Паршивый художник, и больше ничего. Все культурные ценности творятся такими, как Подвижник. Подвижниками. И грош цена такой культуре – если ты в нее не веришь. А если веришь настолько, что ставишь выше реальности – тоже грош цена. Где-то прокалываются «подвижники». И, кажется, я даже знаю, где.
Они талантливые имитаторы и изобретательнейшие комбинаторы, чуткие к красоте. Они научились стирать грань между миром тем и этим, своим и всеобщим, выдуманным и объективным. Стоп! Стоять! А грань-то существует, она является самым главным свойством этого мира. Чего коллегам не хватает?
Этим умным и талантливым людям не хватает здравого смысла. Когда они перестанут смешивать божий дар с яичницей, а творчество с жизнью – они обретут мудрость. А мудрые люди не стреляются. Понял, коллега? Не понял? Настоящее, живое искусство питается жизнью, но не перестает быть искусством. Пустая красота, не связанная с жизнью, и искусство, становящееся самой жизнью, – два полюса лжи. Ты видел эти полюса, отражающие жизнь, но саму жизнь ты изволил не замечать. Потому что тебе не хватало здравого смысла. Тебя погубил избыток ума (или, что то же самое, недостаток здравого смысла), ты отравился культурой. Ты стал выше жизни. Ты стал выше людей. Ты потерял глубину и утонул в мелководье миражей. Это единственное, что тебе оставалось как человеку умному, чтобы не чувствовать себя ничтожеством. Ты увидел во мне альтернативу, но тебя смутило, что и я оказался «писателем», творцом, коллегой. А Лилька тебя не подводила. Она просто не любила тебя. Опять не понял?
Шутовство иногда бывает оборотной стороной мудрости; но трудно представить себе мудрость оборотной стороной шутовства. Слишком поздно я тебе все это разъясняю…»
Вечером Халатов ощутил прилив того самого творческого вдохновения, которое он испытал тогда, у Тамары. На сей раз все произошло само собой, безо всяких таблеток. Скопившаяся творческая злость била через край, все отложенные культурные сюжеты, созданные жизнью («материал, материал!»), требовали душевных сил без остатка. Но полновесно плескавшийся замысел романа постепенно стал вытеснять все. Халатов не сомневался, что ему удастся написать приличный роман – такой, за который ему не будет стыдно. Черный человек, который рвался в герои романа, гудел баритоном Подвижника; контрапунктом ему в тумане раздавался мелодичный колокольчик; неожиданно выплывали рожи мурен, ноздри щекотал какой-то терпкий сандаловый аромат, мучительно не передаваемый словами; на языке ощущался приторный вкус психотропной таблетки; солнце, окутанное сизой мглой, превращалось в дыру, сквозь которую пробивался пучок лазерных лучей: сама собой возникала и разворачивалась картина монтажных работ – Кто-то кропотливо трудился над обликом мира… Душа горела, голова пылала. Сине-золотые языки пламени со зловещим всхлипом вырывались наружу и молниеносно прятались за плотно затворенными окнами – и тогда уже огромный воображаемый дом, казалось, светился изнутри веселым и уютным синим светом, словно все смотрели один большой телевизор, по которому добрые волшебники показывали «Спокойной ночи, малыши». Картина то ли пожара, то ли голубой гармонии не давала покоя. Материал жил, шевелился и требовал огранки. Халатов плюнул на все, сел за стол и дал волю своей фантазии.
Через неделю в Минск из Парижа прибывала Обольцова. Ей теперь ничто не угрожало, и Халатов открыто встречал ее на перроне с букетом, чем-то напоминающим роскошную охапку Соломки и одновременно тот букет, который он так и не успел преподнести ей год назад. Начнем с того места, где нас прервали. Продолжим, назло недругам.
Поезд, которым она должна была прибыть из Варшавы, давно уже стоял на пятом пути третьей платформы. Халатов уже перебрал взглядом всех стройных светловолосых женщин, хотя бы отдаленно напоминающих Лильку, как вдруг возле него остановилась милая кругленькая особа, судя по всему, прилично беременная, с короткой стрижкой цвета густого каштана.
– Халатов, ты меня не узнаешь? – пропел мелодичный голос, и лицо Владимира Андреевича искренне отразило все те чувства, которые он испытывал в это мгновение, глядя на цветущую будущую мать.
– Лилька… Как это понимать?
– У меня будет ребенок, разве не видишь? Если ты захочешь – это будет наш ребенок.
– Наш-то наш, но чей он? Кто его отец?
– У мальчика пока нет отца. Разве Подвижник мог претендовать на отцовство?
– Так это эмбрион покойного Вольдемара?
– Да, Халатов. Здравствуй.
– Здравствуй, Лиля, – сказал Халатов и протянул ей букет, как бы отстраняя ее от себя. Это было предосторожностью излишней, потому что друг от друга их отделял ее большой живот.
– Мерси, – сделала книксен очаровательная молодая женщина, встряхнула волосами и, не оглядываясь, направилась на стоянку такси. – Поднеси мои вещи, пожалуйста.
– Это жизнь, Халатов. Бывает и так. Бывает и хуже, – говорила она, осторожно усаживаясь в машину. – Что мне перед тобой оправдываться… Эти таблетки, ты знаешь, как они действуют… Надумаешь – позвони. Дом на набережной, – сказала она таксисту. – Золотая Горка, восемь. Надоело жить в пещере, хочу поближе к звездам.
И она подмигнула Владимиру Андреевичу.
Становилось зябко: уже потягивало настоящей осенней прохладой. Халатов шел по холодному городу и не понимал, то ли он хоронит свою любовь, то ли обретает взамен утраченного нечто большее.
Стояли дни, характерные только для ранней осени. Воздух был чист, свеж и прозрачен до невероятности. Голубое небо, золотое солнце. С беспощадной ясностью перед Халатовым раскинулась панорама, обычно окутанная дымкой или многозначительно укрытая туманом. Горстка домиков, сжавшаяся в Троицкое предместье, краснела лоскутами черепиц. Беленые храмы трогали простотой очертаний. Русло Свислочи, словно подернутое рябью изогнутое зеркало, отражало еще зеленые и пышные кроны, кое-где поверху смазанные желтизной. Строгость и скупость пейзажа особенно поражала после летнего очарования какой-то честностью и искренностью. Знакомые объекты и линии хотелось заново узнавать. Как на все осеннее, на Минск в этой лирической наготе невозможно было насмотреться. Этим пейзажем можно любоваться весь год, но именно сейчас он находился в точке золотого сечения. Это был пик честности, момент истины. Белые покровы зимы сошли, весенние мглистые туманы рассеялись, летняя дымка растаяла…
Наступила полная ясность – эстетическая и духовная кульминация: ясно, что осталось позади, и четко просматривается хрупкое грядущее.
Вечерело. Пугающе пустое небо начало постепенно оживать. Полная луна на этот раз была окутана радужным дымчатым сиянием, придававшим бесстрастному космическому телу пикантную лукавость. «Каждый вечер – ты разная», – то ли с легким раздражением, то ли с восхищением отметил про себя Халатов.
В доме на набережной на восьмом этаже тепло засветилось окно.
Он опустил голову, вздохнул и неторопливо зашагал вверх по набережной, к истокам обмелевшей от древности Свислочи, в мутных водах которой, как и сотни лет назад, зыбко дрожало и переливалось отражение хрустальной звезды любви.
август 2002
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































