Текст книги "Халатов и Лилька"
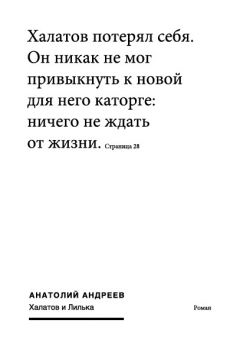
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
14. Очевидное, но невероятное, совершенно невероятное…
Спустя неделю едва оправившееся общественное мнение города Минска было вновь грубо взбудоражено какими-то нелепыми слухами. Говорили, будто возле памятника Пушкину, расположенному на берегу Свислочи, на скамье, на которой год назад было обнаружено тело несчастного самоубийцы, вновь было обнаружено тело, как бы это выразиться, того же самого самоубийцы.
«Чепуха, нелепость! – скажете вы. – Что же он, год сидел на скамье?»
«Вот именно, – поддержал бы вас я. – В природе так не бывает. Если уж человек убивает себя один раз – как же он может сделать то же самое во второй раз? Да еще с перерывом на год… За кого вы нас принимаете? Что же покойник, по-вашему, делал целый год? Он уже успел превратиться в веселый скелет, по древнему христианскому обычаю. Истлел. Скелет обнажает оптимистическую суть человека; человек, оказывается, оптимист до мозга костей, что выясняется только после смерти. Скелет улыбается так, словно увидел, наконец, перспективу бессмертия. И потому скелеты не стреляются. Им не положено, да и смысла особого нет. К тому же первого, годичной давности, самоубийцу сожгли. Не мог же он возродиться из пепла! Здесь что-то не так, знаете ли. Концы с концами не сходятся. Скорее всего, самоубийцы были два разных человека. Возможно, похожи друг на друга. Возможно, как две капли воды. Простое совпадение. И не толкуйте мне о загробной мистике, о переселении душ… Слышать не хочу. У нас, христиан, другая вера. В нашем городе этого не может быть».
Но по городу уже поползли черные слухи, нелепее которых бывают разве что детективы. Мы не станем пересказывать читателю всех сплетен, которыми питался в ту недобрую пору добропорядочный обыватель. Это было бы длинно, смешно и неправдоподобно. Честно говоря – и утомительно. Мы поделимся с вами эксклюзивной информацией, добытой, так сказать, из первоисточника.
Прежде всего, мы должны подтвердить небезосновательность дурацких черных слухов. Видимо, и в самом деле, дыма без огня не бывает. Сначала огонь – потом дым; сначала факты – потом домыслы; сначала покойники – потом кое-что о них, хорошо или ничего. Действительно, ровно через один год и один месяц после того, как обнаружен был труп Вольдемара Подвижника, на том же самом месте, в той же отдыхающей позе был обнаружен труп неизвестного мужчины, чрезвычайно похожего на Подвижника. Как две капли воды похожего. Более того, если бы Подвижник не свел счеты с жизнью тринадцать месяцев назад, никто и не сомневался бы, что перед нами – подлинный труп Подвижника, так сказать, оригинал. Но поскольку Подвижник уже отошел в мир иной, то перед нами был не Подвижник. Формально это подтверждалось тем, что при несчастном само-убийце (в руках зажат пистолет, из которого был произведен роковой выстрел в висок; чего ж вам больше?..) обнаружены были документы на имя Григорио Пещерски, гражданина Франции, эмигранта в третьем поколении.
Более всех внезапной гибелью гражданина Пещерски был потрясен некий офицер милиции, подозрительно напоминавший Гектора Соломку.
Еще бы: ведь это он и был. Те же глаза, та же характерная манера держаться. Что-то в его внешности изменилось, но это был он, несомненно, он.
Да, да, читатель: Гектор Соломка скорбел о скоропостижной кончине неизвестного ему ранее человека так, словно это был его ближайший родственник.
Итак, что же в действительности произошло в городе Минске в начале второй декады августа месяца 2002 года?
В действительности произошло следующее. Вольдемар Подвижник, скрывавшийся под вымышленным именем Григорио Пещерски, получив известие о трагической кончине Гектора Соломки, немедленно прибыл в г. Минск и потребовал у людей осведомленных и облеченных полномочиями встречи с невинно убиенным Гектором Аристарховичем. На руки Подвижника надели наручники, отвели его в кабинет следователя по особо важным делам и через час доставили к нему Гектора Соломку собственной персоной, живого и невредимого, временно окопавшегося в особняке гражданки Божо и исполнявшего там обязанности ее тайного охранника.
Спецзадание проходило весьма успешно. Гражданка Божо также была цела и невредима; более того, ее свежее лицо наконец-то ожило, в глазах появился неподражаемый блеск, отражавший высшую удовлетворенность перспективами бытия. Можно сказать, женщина расцвела и чертовски похорошела. Неизвестно, какое впечатление производило это на подполковника, только заметно было, что старший офицер так ревниво оберегал свою подопечную, что на нее боялись смотреть из-за забора даже те, кому это было положено по долгу службы.
В целях конспирации подполковник сбрил усы, и первое время являл собой жалкое зрелище. Его бравая выправка не производила и половины того впечатления, какого он достигал простым шевелением разящих стрел своих саблеподобных усов. Приходилось еще выше задирать голову. Правда, непосредственно возле гражданки Божо он стоял все больше потупленным. Злые языки утверждали, что к безбожному удалению фирменных усов с осиротевшего лица приложила руку сама хозяйка особняка. Но это, опять же, только слухи.
Не успел Гектор Соломка переступить порог собственного кабинета и снять наручники с Вольдемара Подвижника, как упреки подозреваемого буквально обрушились на голову следователя.
– Это что за недостойный спектакль, господин, не сомневаюсь, без пяти минут полковник? Это была пародия на мои похороны, я полагаю? Детективов начитались? Браво! Ничего остроумнее в своей жизни не припомню. Не тесно было в гробу-с?
– А вам в вашем, гм-гм, резервуаре? Чувствовали себя, наверно, как джин в просторной праховой урне?
– Я-то хоть шкуру свою спасал, меня бы эти тигровые львы тридцать три раза продырявили и на мелкие кусочки разодрали. А вам-то зачем комедь ломать, позвольте полюбопытствовать?
– Спокойно. Надо было усыпить бдительность преступного мира. Докладываю: нет, не тесно было. Совсем не тесно. И знаете почему? Это не я лежал в гробу-с. Это был снимок печального ритуала двухгодичной давности. Какая разница. Меня бы хоронили точно также. Да и вас похоронят точно так же, как и прошлый раз, когда вы умрете по-настоящему, дай вам Бог здоровья.
– Да, мои похороны были жалким зрелищем. Они просто выбили меня из колеи. Я долго не мог прийти в себя. Знаете, жить после этого расхотелось. Живешь, живешь – и слова доброго никто не скажет… А ваша идея со снимком двухгодичной давности отнюдь не нова. Я использовал этот сюжетный ход в своем детективе «Смертельная игра».
– Да, это неплохой детектив, не хуже Агаты Кристи.
– Не забудьте упомянуть об этом на моих вторых похоронах, подполковник. Это чрезвычайно оживит церемонию и придаст ей значимость.
– Не забуду. Переходите к делу.
– Перехожу. Тигран Бабаян, убийца своего брата, также титулованного убийцы Левона Бабаяна, вскоре объявится на своей исторической родине, а именно: в городе Минске, с небывало крупной партией наркотиков.
– Я уже это знаю. Что с Обольцовой?
– Она находится в известном вам месте. Я передаю ее вам на попечение – и умываю руки. Дальше ее судьбу устраивайте вы.
– У вас, гм-гм…
– У нас ничего хорошего не вышло, подполковник. Я вернусь к своей преданной, ха-ха, я хочу сказать, к преданной мною Тамаре. Вот и все. Finita la comedia, надеюсь.
– Боюсь, последнее невозможно. За время вашего вынужденного отсутствия произошли определенные перемены. Все течет, знаете ли, меняется… Гм-гм.
– Что же изменилось, Гектор Аристархович? Что же ново под луной? Порадуйте меня. Может, добро победило зло?
– Отныне и навсегда Тамара Георгиевна будет носить гордую фамилию Соломка. – Подполковник совершил непроизвольный молодцеватый жест в направлении несуществующих усов.
– Что я слышу?! Вот так сюрприз! Вот так страна! Какого ж я рожна! А вы зря времени не теряли, без пяти минут генерал. Родина встречает меня кровавым салютом. Женщин моих разобрали и увели, да и я сам, пожалуй, больше здесь не нужен…
– Дело в отношении вас прекращено за отсутствием состава преступления, с чем вас искренне поздравляю. Ваши смелые, инициативные действия очень помогли нам. Обольцова персонально вам обязана жизнью. Это я готов подтвердить перед кем угодно. Не держите на нас обиды за то, что вначале именно вас подозревали в совершении убийства гражданина Бабаяна. Уж больно улики были подкинуты неопровержимые: личные вещи Обольцовой и убитого… Знаете, это не пустяк. Весьма профессионально все сделали. Из посольства на нас давили так…
– Ладно, бывает.
– Между прочим, господин э-э…
– Неважно. Переходите к делу.
– Вы как-то странно намекнули Халатову, чтобы он меня убил.
– Это я пошутил. Смертельная игра.
– Так вы Гоголь, а? Бернард Шоу? Аристофан?
– Вовсе нет. Это Халатов у нас сплошной Булгаков. А я таким необычным образом предупредил вас о предстоящем покушении. С вашей-то проницательностью, господин детектив…
– Я-то, положим, понял все правильно. И то, знаете, был неприятно изумлен. А вот Владимир Андреевич…
– А Халатову полезно поближе узнать жизнь.
– Одну секундочку! А если бы он ненароком дрогнул и схватился за пистолет? А?
– Признаюсь, это было бы весело. Это полностью искупило бы мою жертву: я ведь отложил похороны на год, и за это время не случилось ни одного достойного внимания события. Но я слишком хорошо знаю людей, Гектор Аристархович. У вас практически все предсказуемо.
– Спасибо за своевременное, хоть и двусмысленное, предупреждение.
– И вам спасибо за все. Тронут и взволнован.
– Гм-гм…
Что означало многозначительное покашливание Соломки?
Кто знает…
15. Увы, все на круги своя
– Как же так? – разводил руками Соломка. – Ничего не понимаю.
Усы его, если бы они успели отрасти, непременно бы обвисли: настолько убитый был у него вид.
– Вы же вчера виделись с ним, Владимир Андреевич!
– Виделись.
– Что же произошло?
– Не знаю. Рана в височную область головы. Летальный исход. Кстати, пуля была из того пистолета?
– Да из того, из того. Сто раз проверяли.
– А записки в кармане точно не было?
– Да не было, не было. Была какая-то детская игрушка из папье-маше, похожая то ли на фигу, то ли на скорченную рожу…
– Клоун!
– Кто?
– Да этот… Григорий! Кстати, игрушку нельзя ли посмотреть?
– Можно, можно… Что за публика эти… правдоискатели. Даже умереть толком не могут. Ты объясни сначала, чего ты хочешь, а потом… Записку составь, опять же. Документ, который можно подшить к делу. «В моей смерти прошу никого не винить». И точка. Тогда – счастливого пути!
– Да он же все объяснил, Гектор Аристархович.
– Вот как? Садитесь. Рассказывайте. Я хочу докопаться до причин. Это не для протокола.
– Даже не знаю, с чего начать…
Замешательство Халатова можно понять. Он действительно встречался вчера с Подвижником и провел с ним несколько часов. Они действительно говорили по душам, и после этого, как оказалось, предсмертного рандеву на душе у Халатова остался неприятнейший осадок.
– Давайте так, Гектор Аристархович. Это долгий разговор. Для начала я вам дам несколько листков из его архива, мне завещанного устно (Тамара Георгиевна свидетель). Прочитайте. Это занятно, хотя мемуары и не подошьешь к материалам следствия. А потом я выскажу свои соображения. Право, так будет лучше.
Вечером того же дня Гектор Аристархович, предварительно напившись чаю, удобно расположился на диване, укрыл ноги клетчатым пледом, надел маленькие модные очки (презент Тамары), спасение от близорукости, и приступил к чтению. Тамара Георгиевна, пожелав «доброй ночи», удалилась наверх, в спальню. В этот вечер ей хотелось побыть одной. Почему?
Кто знает.
16. Записки эгоиста
1. Мое босоногое детство
У меня не было босоногого детства. Сколько помню себя, я проходил в сандалиях на босу ногу, знаменитых «сандалях» советского производства, которые стали выпускать, наверно, сразу после революции по личному распоряжению товарища Дзержинского, защитника всех босоногих беспризорных, и прекратили только тогда, когда распался могучий и непобедимый Советский Союз. Причем модель, видимо из принципиальных соображений, ни разу не меняли и не модернизировали. Очевидно, сандали символизировали связь и преемственность поколений. Своей простотой и аскетичностью (сандали ностальгически напоминали лапти, только последние легко сгибались и пружинили, тогда как первые были, словно колодки, несгибаемы) эта обувь октябрят и пионерии особенно импонировала моему деду, революционеру до мозга костей, преданного идее до той степени беззаветности, которую нелегко отличить от фанатизма. «Подвижник» была его партийная кличка, которая стала фамилией. Настоящая же фамилия деда была Синедымов, а звали его Иван Тимофеевич.
Жили мы в том самом знаменитом в Минске доме, что ступеньками возвышался от Свислочи к главному зданию власти, Центральному Комитету Коммунистической партии Белоруссии. За свое искреннее презрение к буржуям мой дед имел все, чем располагали закрома родины. В общем, неплохо устроился, хотя, к его чести или глупости, вряд ли это замечал.
Меня водили гулять в знаменитый парк культуры и отдыха имени, разумеется, М. Горького, в известном смысле духовного соратника большевиков. Парк находился сразу за Свислочью, напротив нашего дома. Семейного тепла мне не хватало, зато меня окружала атмосфера трудового энтузиазма и созидания, а также бесконечной идеологической эйфории. Все вокруг жили завтрашним днем. Но стержневые идеи о жизни подспудно входили в мое сознание совсем с другой стороны.
В определенном смысле мне повезло с папашей, у которого был талант жить на всем готовом – и жить одним днем, сегодняшним. Он был слабой и темной личностью, и, что сегодня вызывает у меня немалое изумление, умудрялся нигде не работать, кося под свободного художника свободной страны советов. Как мой дед не убил ренегата – до их пор остается одной из наших самых неразгаданных семейных тайн. Приговор старого, но бодрого революционера в отношении папеньки был решителен и патриотичен: тунеядец, бездельник и, главное, «асоциальный элемент». Субъект без будущего.
Все это отдавало расстрельной статьей.
Мама остро переживала войну чуждых друг другу, инородных миров. Покойница с ума сходила восемь раз, пытаясь примирить непримиримое.
Учился я легко и непринужденно, как-нибудь. Меня удивляло, когда дед ежедневно, словно вечернюю молитву, вдалбливал мне, что хорошая учеба – это мой долг и тяжкий труд, но мне приятно было, что меня хвалили за мифические трудовые подвиги и несправедливо ставили кому-то в пример. С тех пор слово «подвиг» приобрело в моем сознании легковесный и лицемерный оттенок. Я стал подозревать, что все герои – большие халявщики.
К концу жизни дед стремительно погрустнел и на глазах стал сдавать. Главный симптом его угасания был, правду сказать, чрезвычайно приятен для меня: дед перестал чему бы то ни было учить меня. Он перестал лепить из меня что-то такое стальное и ярко красное, устремленное в светлое будущее. Именно в это время он впервые погладил меня по голове и тихо сказал: «А глазами-то в бабушку пошел… Ишь ты». Было мне тогда от роду лет десять.
Дед подолгу сидел на скамье, спиной к новому зданию ЦК, уставившись неподвижным взглядом на поблескивавшую сединой Свислочь. О чем думал старый ленинец с вечно молодой душой? Кто знает.
Он умер так, словно протестовал против чего-то: в поезде, мчащемся на Урал, туда, где он родился и где встретил бабушку, в то время как тучные и розовощекие соратники деда устремлялись на юг поправлять подорванное непосильными пятилетками здоровье.
Меня не столько поразила смерть уважаемого мною сурового деда, сколько блеклая кончина папаши, который элегически ныл, словно барышня, бубнил убивающий меня рефрен: «Это же надо было умудриться так профукать жизнь. Я ничего не совершил… Бездарно небо коптил… Зачем мне жизнь была дана?..»
Я-то ведь был убежден, что именно легкомысленный мой папаша и дружил с настоящим, неведомым деду счастьем, ибо хладно блиставшую звезду, хранившую моего деда, мне трудно было считать звездой пленительного счастья. У отца моего была фамилия, напоминавшая кличку: Заяц. Его так все и звали: Мишка Заяц. О том, что у него было отчество Юрьевич, никто никогда не вспоминал.
Вольдемар – это целиком и полностью на совести моей издерганной мамы. Почему я должен был быть Вольдемаром в стране Михаилов, Иванов, а также Иосифов? – мне неизвестно. Скорее всего, нарекли меня обычным Владимиром. Бабушки я совсем не помню. Помню что-то ласковое и нежное, какой-то журчащий ветхий тембр, сочувственно окутывавший меня. И немудрено: мне было полтора года, когда она вернулась из ссылки. Вскоре она умерла.
Да, еще об одной особенности моего относительно босоногого детства не могу умолчать: я терпеть не мог бабочек. Эта пленительно порхающая, завораживающая и не дающаяся в руки материя стала для меня символом вечно ускользающей мечты. Поэтому я с необычайным энтузиазмом грязными руками ловил этих червяков с осыпанными пудрой крыльями и обламывал им хрупкие опахала. Мечта становилась ручной и беспомощной. Так я постигал диалектику.
(…)
2. Моя утраченная свежесть
(…)
Судьба меня хранила, была благосклонна ко мне, считаю я, ибо уже на заре моей беспечной и, само собой, туманной юности я твердо знал: не ищи счастья вне себя; оно в самом тебе. Познай себя, стань себе и другом и врагом.
Особенно пример деда моего, жившего ради цели, насторожил меня. Пример отца, жившего без цели, без трудов, тоже заставил задуматься. В результате годам, эдак, к семнадцати я уже смутно догадывался, что цели зависят от человека, и не на цели надо ориентироваться, а на познание природы человека. Великие цели часто бывают выражением слабости, бессознательно поднятым знаменем, полотнище которого заслоняет человека от самого себя.
Главное знание о человеке пришло ко мне до безобразия легко; но оно-то, собственно, и лишило меня юности, украло у меня пору сладких мечтаний, не по годам резко отрезвило. Мне как-то просто открылось, что тайна человека – в соотношении раздирающих его начал: ума и души. Те, кто живет, главным образом, душой, – те лелеют мечты и устремляются к высоким целям. Счастливые – в основном из этой монолитной, массовой, но глупой и примитивной породы.
Живущие умом понимают, что на свете счастья нет, а покой и воля – это эквивалент каторги. Это великое прозрение или трудами добытое знание мешает им жить, делает лишними. Они забиваются в пещеру и чувствуют себя преступно виноватыми. Их преступление состоит в том, что они отказываются мечтать, отказываются приукрашивать человека и видеть то, чего в жизни нет. Короче говоря, они отказываются быть такими, как все. Как ты да я да целый свет. Они пытаются стать особенными.
Самое великое открытие, поразившее меня на исходе моей условной юности, заключалось в том, что живущих умом – единицы. И я, к несчастью, попал в эту опальную пульку.
Я был одинок не потому, что мне хотелось или нравилось быть одиноким, а потому, что мне просто не с кем было поделиться тем, что я считал самым важным в жизни. Если угодно, я был обречен судьбой на одиночество. Я оказался без вины виноват.
Это привело еще к двум открытиям. Во-первых, я стал писать сначала стихи, а потом художественную прозу, я стал придумывать такой мир, в котором подобные мне могли быть если не счастливы, то по крайней мере не трагически одиноки. Одну секундочку: я стал мечтать, то есть превратился в одного из тех червяков, которым крылья заслоняют свет истины (вот почему, кстати, бабочки летят на свечу: они не видят, куда летят, принимая желаемое за действительное; туда и дорога). Что бы я себе ни придумывал, а выжить, оказывается, можно было только одним способом: научиться спасаться от реальности. Путь для этого был один: не думать, отключить мозги.
Это меня убивало в буквальном смысле, и неизвестно, что бы со мной произошло, если бы не еще одно вовремя сделанное открытие: самый приятный, эффективный и универсальный способ бегства от себя, то есть от ума своего, это любовь. Моя юность закончилась, едва успев начаться: я влюбился.
(…)
3. Моя любовь
Всю ту пассионарную энергию, которую я не израсходовал в пустых, пардон, прекрасных мечтах, я выплеснул в любовь. (…)
Прежде всего, я страшно обрадовался тому обстоятельству, что мое кошмарное состояние, оказывается, в мгновение ока может быть переведено в реальное блаженство. Вновь безо всяких видимых усилий с моей стороны, без подвигов духовных на меня снизошло откровение вполне судьбоносное. Как это объяснить? Я не знаю. У меня есть только одно устраивающее меня объяснение: я не заметил, как я совершил подвиг. В чудеса я не верю. Дед мой вместе со своим Марксом были правы: все дается только через труд. Если ты не замечаешь труд, значит у тебя талант. Может, в этом все дело? Кто знает.
Сначала я просто отказывался верить в то, что все мои проблемы отныне сводились к вещам простейшим: когда я увижу любовь свою, что я при этом надену, куда мы при этом направимся, и что из интимного она мне позволит сегодня. Я тлел в истоме, я мечтал, я стал рисовать бабочек. Я был неизлечимо болен любовью. Я даже стал привыкать к своему новому состоянию, и ничто не указывало на то, что оно может когда-либо прекратиться или, боже упаси, превратиться с вою противоположность. Это состояние длилось несколько лет. И я отнюдь не считаю это время самым счастливым в моей жизни. Счастье, как мне кажется сегодня, это когда ты понимаешь. Тогда ты ни от кого не зависишь, то есть обретаешь желанную, якобы, для многих свободу (которые под свободой имеют в виду возможность вытворять, что душа пожелает, то есть прежде всего не думать, не понимать). У такого счастья есть только один минус: свободный ум презирает жизнь и свободу толпы. Жизнь человека, в том числе и твоя собственная, превращается в пустую и глупую шутку. Вот счастье, вот права!
Постепенно ум, моя слабость, стал просыпаться, и состояние мое самым кошмарным образом стало превращаться в свою противоположность. Точнее, ум всегда был при мне, но на время перестал приносить горе. Теперь же я стал замечать вещи, которые меня настораживали. Одно из самых неприятных открытий состояло в том, что красавица моя (для меня ее имя сегодня ассоциируется с ней в последнюю очередь: такова плата за высокую болезнь – желание начисто все забыть), скорее всего, не любила меня. Но когда я застал ее, разложенную в моей постели, с кособрюхим уродом, нашим однокурсником, во мне взыграли ревность и ненависть такого накала, что они меня испугались, и даже зауважали. Нет, моя красавица не была шлюхой. Более того (и это было следующим неприятным моим открытием), была она самой обыкновенной мещаночкой. В ней не было ничего исключительного, наоборот, сплошная заурядность. Она была разносчицей пошлости. Это изумило меня беспредельно, так как годами я видел в ней только особенное и уникальное. Ее это, почему-то, всегда раздражало. Она давно разглядела, что я слеп, и догадалась, что я принимаю ее не за ту, кем она является на самом деле. Прозрение с моей стороны рано или поздно было неизбежно. Ее чувства ко мне, если они и были, искажались и забивались страхом грядущего прозрения. Возможно, ей даже казалось, что она невольно обманывает меня, ибо все мои восторги на самом деле принадлежали не ей, а какой-то вымышленной королеве. Возможно, она страдала, что я общаюсь, по большому счету, не с ней. Но любовь эгоистична и слепа. Мне нужна была та, которую я выдумал. Я любил пустоту.
Кособрюхий же был под стать ей – реалистичен до безобразия. В конце концов они поженились. Только лет через пять я вполне отдал должное женской прозорливости: она превратилась в малоподвижную, заплывающую жиром самку отряда продвинутых млекопитающих, которая никому, кроме своего кособрюхого, была не нужна. Она напоминала мне деликатно присевшую на хвост буренку. Если предвидение подобных метаморфоз называть женской интуицией, то мне нечего возразить. Однако в отношении меня как личности хваленая женская интуиция всегда давала сбои: меня всегда принимали не за того, кто я есть.
А мне было горько, пока любовь была жива и питалась воображением. Когда я в очередной раз отпускал ее на свободу, мне казалось, что сердце мое не выдержит. Боль была такая, что слезы текли по горячим щекам. Смешно вспомнить…
Когда боль ушла, вернулись знакомые вопросы. На мир стало совсем тошно смотреть. Главным объектом ненависти (NB!: кто ненавидит, тот еще романтик) стала для меня культура с ее культом воздушных замков, а самым ненавистным человеческим даром стала способность не замечать очевидного, талант творить новую, не существующую реальность. Пустоту. Подумать только: все это пышное художественное вранье, перед которым принято благоговеть, веками лицемерно выдают за прекрасную суть человека. Я бы оставил только один памятник – господину Герострату. В действиях этого придурка сквозило хоть что-то осмысленное. Отправная точка культуры – благие пожелания – стала для меня красной тряпкой и верной мишенью. Мир стал позором и сплошным надругательством над истиной. А наиболее иезуитским вариантом такого надругательства стала мне казаться литература, самая умная красота из всех существующих.
Из презрения к людям и их прекрасному искусству я стал писать детективы под неброским псевдонимом Г. Зайцев. Детективная пошлость изнутри убивает культуру, и я с удовольствием всаживал дозы этой заразы в дряхлеющее тело изящной словесности. И я тоже внес свою лепту в разрушение культуры, предпринятое великими монголами династии Народ, живущими в наиболее ненавистную мне эпоху демократии. Напрасно я так переживал за вечную привлекательность миражей и химер. Эти варвары так долбанули своими глинобитными по Золотому Храму, выстроенному блаженными романтиками на песке, что от великого творения практически ничего не осталось. Сейчас любуются на руины, оберегая их как историческую ценность, приносящую немалый доход: Микеланджело Буонаротти, Сервантес, Малер… Дымящиеся развалины. А читают мои книги.
Заметили ли вы: детективы и Библия – самое популярное чтиво. Собственно, они одной примитивной природы: развлекательно-моралистической. Библия и есть первый и отнюдь не самый плохой детектив. Кроме того, их роднит еще одно обстоятельство: условная, литературная кровожадность. И непременно убийство, приманка для фарисеев. Если я, детективщик, выполнял богоугодное дело – тогда бога надо признать не творцом, а наставником разрушителей.
До перестройки моя желчь, переплавленная в занудные сюжетцы, не давала мне умереть с голоду, худо-бедно кормила меня, а в новое время, время монголов, когда вновь стал главенствовать отмененный было романтической революцией закон «миром правит брюхо», я начал зарабатывать очень прилично. Фарисеи с удовольствием переключались с Библии на детектив. Эти книги у них лежат рядом, на золотой полке. Положительные герои моих детективов непременно верят в Бога, и это их регулярно спасает от напастей. Даже в бане они, небрежно скинув ордена, не снимают самых дорогих для них знаков отличия: обручальных колец и золотых массивных крестов на подбритых жилистых шеях. Животики надорвешь. Я с удовольствием помогал фарисеям рубить сук, на котором эти бедолаги еще хоть как-то держались. Я разбогател, если угодно. Издательство «Престиж» издало несколько старых моих серий и заказало в неограниченном количестве новые. Рынок съедал все. Фарисеи пировали. Я с ненавистью сеял смерть – а эти ненормальные с удовольствием слушали меня. Просто цирк. Колесо обозрения. Чем хуже – тем лучше.
Воплощением лжи стала казаться мне красота, к которой я всегда, что ни говори, относился трепетно. В те годы я и встретил Тамару, выразительная, но не пошлая красота которой возбуждала во мне (кому сказать!) жгучее злорадство и презрение, смешанные с унизительным чувством собственной необъективности, с полновесным Пилатовским ощущением предательства истины. На выходе получалась обыкновенная пошлая боль. Словом, она меня здорово встряхнула. Настоящая красота всегда волнует. Я был не прав, и чувствовал это. Тамара показала мне, что такое настоящая женская преданность и любовь. Красота и бессмысленность этого чувства и поныне не оставляют меня равнодушным.
Я боялся привязаться к Тамаре и, разумеется, стал изменять ей с женщинами такими же красивыми, менее красивыми, и даже вовсе не симпатичными. Никаких преград нравственного, мировоззренческого или иного благородного свойства для меня не существовало. Жизнь пошла по какой-то занудной и абсурдной колее. Я видел, ощущал и понимал, что превращаюсь в пошлого зануду. Жизнь с красавицей-подругой, в достатке и добром здравии превращалась в пылающий ад: к сожалению, здесь нет ни одного преувеличения. Здесь вся полнота истины.
По большому счету, для меня все свелось к своего рода загадке: может ли жизнь для существ, подобных мне, быть не то чтобы удивительной, привлекательной, счастливой, но хотя бы просто сносной? Может или не может? Можно ли мой уровень понимания, которым наказал меня хозяин мира, надо полагать, большой шутник, совместить с обычной жизнью?
Если удавалось взглянуть на жизнь как на эксперимент, то в ней появлялось некое подобие интриги и крупица смысла. Высокую культуру, культуру высокого обмана, я по-прежнему презирал. Все, все творцы этой культуры особым умом не блистали: вот мое последнее роковое открытие, позволяющее мне с чистой совестью хоть сегодня, хоть сейчас, хоть завтра утром или вечером спокойно отправиться в мир иной. Собственно, в жизни меня держала только возможность свободного ухода. Было так плохо?
Вы знаете, с годами все сложнее выдерживать кошмар бессмысленности. Я же не вру, когда пишу эти строки. Если жизнь на самом деле не имеет смысла, она естественным образом превращается в смерть. Больше всего угнетало чувство, которое непросто зафиксировать и проанализировать. Оно тоже не позволяло хлопнуть дверью, хотя раздражение, рожденное этим чувством, заставляло бросать косые взгляды в сторону полуотворенной двери. Фиксирую. Даже самая большая моя оригинальность, шептал разум (и эхо отчетливо отдавалось в честных закоулках души), была заурядного, типичного, затасканного свойства. Я попал в лабиринт для избранных и затерялся в их толпе. Ничего нового. Зачем я жил? Зачем небо коптил?
Моя уникальность делала меня типичным. Шел в сторону севера – оказался на юге. Не торопись, а то успеешь. Банальное блуждание. Мне казалось, что судьба моя скроена по унизительно примитивному лекалу, и я не в состоянии ничего изменить. Фатализм мой тоже был явно деструктивного порядка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































