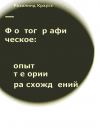Текст книги "Фотография. Между документом и современным искусством"

Автор книги: Андре Руйе
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
V
Режим фотографии-выражения
Безукоризненная эквивалентность изображений и вещей строилась на тройном отказе: отказе от субъективности фотографа, от социальных и субъективных отношений с моделями и вещами и от фотографического письма. Именно противоположность этих элементов точно характеризует фотографию-выражение. Красноречие формы, утверждение индивидуальности фотографа, диалогические отношения с моделями – таковы главные черты фотографии-выражения. Письмо, автор, Другой – такова манера, новая по сравнению с документом.
Фотография-выражение не отказывается вовсе от документальных целей, но предлагает другие, по видимости обходные, пути доступа к вещам, фактам и событиям. Это именно те пути, от которых отказывалась фотография-документ: письмо (следовательно, изображение); субъект (следовательно, автор); диалогизм (следовательно, Другой).
Изображение, письмоФотографическое изображение и письмо стали первыми жертвами мифа о документальной прозрачности – этой безумной иллюзии, утверждающей, что изображение и его (знаменитый) референт соединяет полная эквивалентность. «Какова бы ни была его манера, фото всегда невидимо, видят вовсе не его», – писал Ролан Барт еще в 1980 году, точно в тот момент, когда окольный путь изображения, опора на фотографическое письмо утверждались как наиболее надежный путь доступа к вещам. Тогда изобретались прежде всего новые способы видения пейзажа, тела и вещей, что проявилось в моде, рекламе и Фотографической миссии Datar.
В работе Фотографической миссии Datar, которая была начата в 1983 году для того, чтобы представить французский пейзаж, выражение открыто становится одним из условий документа. Пейзаж – механизм, разработанный для того, чтобы смотреть на природу, – появился в эпоху Ренессанса с изобретением перспективы. Будучи первым профанным и городским взглядом художников, обращенным на окружающее, он сразу был принят пионерами фотографии, затем завершен в фотографии-документе и через полтора века упразднен фотографией-выражением. Когда начинается Фотографическая миссия Datar (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, Делегация по улучшению территорий и региональной деятельности), цель состоит уже не в том, чтобы описывать или регистрировать, но в том, чтобы открыть новые ориентиры внутри современного пространства. Для Datar речь шла о том, чтобы ответить на новую ситуацию: там, где вчера был единый пейзаж, появилась разорванная, бессвязная, фрагментированная территория. Сегодня все здесь, но навалом, в беспорядке. Эта Миссия становится вызовом, брошенным фотографии с тем, чтобы она извлекла из этого хаоса единство – воображаемое единство, которое покрывает раздробление.
Изобрести новую визуальность, сделать видимым – на самом деле это означает освободиться от визуального автоматизма, от визуального порядка, управляющего фотографией-документом. Именно поэтому большинство из двадцати восьми фотографов Миссии были намеренно выбраны среди тех, чьи работы и поиски отличались от строгой документальной позиции. Это были или фотографы, вовлеченные в экспрессивное движение: Габриэле Базилико, Раймон Депардон, Йозеф Куделка, или художники: Льюис Балц, Том Драго, Хольгер Трюльч, или фотографы-художники: Пьер де Фенуаль, Ив Гийо, Вернер Ханаппел, Эрве Рабо, или же те, кто находился в начале художественной карьеры: Доминик Ауэрбахер, Жан-Луи Гарнел, Софи Ристелюбер[255]255
Предложенное здесь различение фотографа, фотографа-художника и художника будет уточнено ниже.
[Закрыть]. Расположенный в точке, где сходятся фотография и современное искусство, где традиционная документальная модель становится неустойчивой, заказ Datar равным образом находится в контексте глубоких перемен в самом объекте описания – территории. Кризис и переопределение фотографического документа здесь сопрягаются с теми же процессами в документируемом объекте.
Настоятельно напоминая, что регистрации, которая считается прямой, объективной и точной, недостаточно, да и, без сомнения, никогда не было достаточно для того, чтобы ввести новую визуальность, Миссия служит мощным показателем состояния фотографии в начале 1980‑х годов. Отвечая на запрос администрации, озабоченной скорее практической пользой (улучшением территорий), чем вопросами культуры и искусства, она на самом деле очерчивает границы фотографии-документа, показывает трудности, мешающие ей исполнить документальные задачи настоящего времени, ее неспособность привести в порядок хаос. Именно этот провал фотографии-документа предопределяет обдуманное решение построить работу Миссии на рубежах фотографии, там, где она граничит с искусством, – определенно в сфере выражения.
Изобрести новую визуальность, сделать видимым то, что мы не умеем видеть, хотя оно находится здесь, – такую задачу уже невозможно решить через обозначение, констатацию, схватывание, описание или регистрацию. Таким образом, программа фотографии-документа должна уступить место другой программе, более чувствительной к процессу, чем к запечатлению, к проблематике, чем к констатации, к событиям, чем к вещам. Это программа фотографии-выражения, согласно которой документ требует письма, создания формы, за что вполне отвечает автор. В соответствии с этой программой видимости не извлекаются прямо из вещей, но производятся непрямым образом в работе над формой, изображением, фотографическим письмом.
Различие между фотографией-документом и фотографией-выражением, быть может, сопоставимо с тем различием, которое Мартин Хайдеггер открывает в языке между «говорить о чем-то определенном» и «говорить просто для того, чтобы говорить». Уточнив, что «настоящий разговор, подлинный диалог – это чистая игра слов» и что «самое ошеломляющее простосердечие – это смешная ошибка людей, которые воображают, что говорят о самих вещах», Хайдеггер продолжает: «Когда кто-то говорит просто для того, чтобы говорить, как раз тогда он и выражает самые великолепные истины. Но когда он, напротив, хочет говорить о чем-то определенном, вот тут лукавый язык сразу заставляет его произносить наихудшую нелепицу, самое гротескное вранье»[256]256
Heidegger, Martin, «Le chemin vers la parole» (1959), in: Martin Heidegger, Œuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 1975, p. 86.
[Закрыть]. Фотографическая миссия Datar обратилась к людям, более склонным «просто» фотографировать, чем фотографировать «что-то определенное», более знакомым с «лукавым языком» изображений, чем с точностью отчета, увлеченным более «игрой» форм, чем задачей репрезентации вещей. Таким образом был открыт свободный путь выражению.
В этом отношении, без сомнения, наиболее показательна работа Тома Драго с ее радикальностью. Монохромные изображения порывают с цветовым реализмом, фотографии, собранные в форме таблицы, отменяют единую точку зрения и перспективу, а несвязный монтаж видов, нередко частично поврежденных, создает сильное впечатление хаоса. В противоположность документалистам, Драго не дает репрезентацию хаоса мира, разрушения единого пейзажа былых времен, – он его выражает. Он вписывает его в сами формы своей работы, в структуру своих изображений. Таким путем он смещает проблему объективности, состоящую теперь уже не в регистрации, как можно более верной, состояний мира, но в том, чтобы вписать эти состояния в значимую формальную структуру изображения, то есть в стиль[257]257
Deleuze G., Proust et les signes, p. 218.
[Закрыть]. Драго выражает хаос мира, раздробленность нашей вселенной, разнимая на куски то, что в документальном изображении служит арматурой визуального порядка: цветовой реализм, тематическое единство, единство точки зрения, полноту кадра, перспективу, прозрачность, четкость. В противоположность репортеру или документалисту, которые стремятся регистрировать и (верно) передавать то, что они сумели увидеть и чего другие никогда не видели, Драго не производит видимости, открывая нечто, но, напротив, работает с материалом уже виденного, дежа вю: снимки зачастую столь же банальны и бедны, как и то, что ежедневно наполняет наш взгляд. Вместо прямой репрезентации состояния вещей он выражает их непрямо через движение изображения, формы, письма, то есть через отказ от фотографии-документа. Его снимки, почти не содержащие изолированной информации, часто не представляющие ничего по-настоящему идентифицируемого, вписываются в формальные структуры, в которых они создают ощущение частичности, разорванности на куски, фрагментированности. Как и Миссия в целом, работа Тома Драго строится на современном сознании антилогоса. Она является выражением фрагментарного мира, лишенного логического единства и органической целостности; разорванного мира, который, кажется, уже ничто не может объединить в целое[258]258
Ibid., p. 158, 195.
[Закрыть].
Пожалуй, именно в рекламе и особенно в моде переход от документа к выражению развернулся с наибольшей широтой. Уже давно прошли те времена, когда реклама стремилась информировать о продукте, когда фотография моды описывала одежду. Разрыв между продуктом и тем, что в действительности представлено, становится все больше и больше. Конечно, еще многочисленны такие кампании, как та, что была устроена в 1997 году в Соединенных Штатах для сигарет «Lucky Strike Light»: в ней фигурировали одновременно человек, открыто показанный курящим, пачка сигарет как инкрустация и логотип марки, занимающий почти половину изображения. Но в то же самое время журналы[259]259
См., напр., ежемесячный журнал «Raygun», N 59, сент. 1998.
[Закрыть] предлагали рекламу сигарет «Winston», состоящую, напротив, в простом портрете мужчины с очаровательной улыбкой, без прямой аллюзии к курению, без всякого присутствия сигарет. Эта эллиптическая конструкция строилась именно на стратегии разделения рекламных задач между журналами и телевидением, которое принимало на свою ответственность функции денотации.
В моде важное изменение происходит в начале 1990‑х годов, с появлением нового поколения фотографов, которых в особенности поддерживал британский журнал «The Face» и Фил Бикер, его художественный директор с 1988 по 1991 год. Именно в это время на Западе: в Великобритании (фотографы Марк Бортвик, Коринн Дэй, Глен Лачфорд, Крэйг Мак-Дин, Найджел Шафран, Дэвид Симс), в Соединенных Штатах (Анетт Орелл, Терри Ричардсон, Марио Сорренти), в Германии (Юрген Теллер и Вольфганг Тильманс) – утверждается тенденция «trash» («трэш» – «мусор, отбросы»). Это радикальный разрыв с классической традицией Сесила Битона, Джорджа Хойнинген-Хена и даже Ричарда Аведона. У мастеров вчерашнего дня одежда была всегда выставлена на вид, на первый план: тщательно уложенные складки платьев спадали безукоризненно, элегантные модели прекрасно выделялись на темном фоне, все прославляло роскошь, мечту, безмятежную романтичность. В 1980‑е годы документ становится неустойчивым, но фотография моды продолжает прославлять красоту, ставить мечту на службу торговле в тесном сотрудничестве с топ-моделями – от Синди Кроуфорд до Клаудии Шиффер – совершенными и недоступными телами-предметами. Задуманные исключительно для того, чтобы прославлять одежду-фетиш и манекенщиц-звезд, эти изображения, часто весьма утонченные, больше внушают, чем обозначают и описывают. Это эпоха смелой размытости, снимков, снятых «по живому» в кулисах дефиле, видов, сделанных с передержкой и т. д.
В начале 1990‑х годов наиболее радикальные журналы идут еще дальше, порывая с обозначением (чистотой линий, форм, света, поз), а также с внушением (различными видами размытости) ради выражения. В журналах «The Face», «i-D», «Self Service» и «Purple Fashion» элегантность и утонченность, красота тел и совершенство изображений исчезают, уступая место «трэшевым» персонажам с осунувшимися лицами и нездоровой бледностью, апатичными позами, тщедушными телами, отмеченными печатью тревоги, боли и болезни. Что касается изображений, они имеют вид моментальных репортерских или любительских снимков. Кадрирование преднамеренно грубое, цвета «грязные», свет посредственный, декор какой придется, ниже среднего. Наконец, парадоксальным образом почти не видна одежда. Кажется, что изображение отбросило ее, чтобы лучше выразить нечто о поколении, пораженном злом своего времени: массовой безработицей, дефицитом надежды, угрозой СПИДа и т. д., в противоположность роскоши, гламуру и наслаждению. Тенденция «трэш» заимствует свою силу и свои формы из парадокса: кажется, что фотография поворачивается спиной к тому, для чего она была создана, – служению высококонкурентоспособной индустрии моды. На самом же деле она только адаптируется к визуальным привычкам определенного поколения: арт-директоров, которые часто вдохновляются современным искусством[260]260
См.: «Art de mode, attirance et divergence», Art Press, hors-série, N 18, 1997, p. 153–164.
[Закрыть], клиентов, сформированных музыкой в стиле рок, техно или рэп, приспосабливается к их образу жизни и формам культуры. Способ потребления, как и мода в одежде, изменился. В противоположность каталогам продаж, «продвинутые» журналы стремятся прежде всего вызвать желание признания, идентификации с какой-то группой, сообществом. Для клиентов, которые выросли в избытке знаков и вещей, сообщения больше не могут быть прямыми, продвижение товаров должно происходить более неявными путями. Привлекательность самих вещей (роскошной одежды, совершенного тела) уступает место заботам скорее экзистенциальным: эпоха, личность, переживаемое.
Функция фотографии «трэш» состоит как раз в том, чтобы заместить экзистенциальные ценности культом товара. Она переходит от прямого продвижения товаров к непрямой, более незаметной, форме продвижения, и это происходит с помощью перехода от обозначения к выражению. Эта программа, которая поддерживается самими изображениями, действует через объединенное изменение их письма (с одной стороны – рафинированная эстетика; с другой – бедная) и их содержания (с одной стороны – прекрасно видная одежда, выставленная для восхищения топ-модель; с другой – одежда, растворенная во всеприсутствующем окружении, и «антимодель», имеющая обыденный вид). Именно в форме изображений, в их письме, хоть и неотделимом от их содержания, выполняется эта программа.
В то время как фотография-документ выстраивалась вокруг стержня репрезентации, фотография-выражение (здесь в своей «трэшевой» версии) в меньшей мере репрезентирует или ссылается на что-то, чем вторгается в вещи. Фотографии моды и рекламы, представляя вещи, всегда воздействуют на них, в то время как вещи проявляются через изображения[261]261
Deleuze G., Guattari F., «Postulats de la linguistique», p. 110.
[Закрыть]. Если подойти со стороны выражения, наиболее радикальная часть фотографии моды разрушила традиционные отношения между изображениями и вещами. Вещь больше не предшествует изображению, как верила документальная ортодоксия, руководствуясь в этом пункте теоретическими положениями, переоценивавшими понятия запечатления, индекса и регистрации. Изображения не рисуют вещи, они рисуют на вещах, ими, действуя на них. Реклама и мода убедительно показывают, что изображение в такой же мере действует на «создание» вещи, как и на ее репрезентацию, что изображение одновременно рецептивно и очень активно или, говоря в терминах прагматики, что фотографировать – значит создавать[262]262
См. работу Джона Л. Остина «Слово как действие» (Austin, John L., How to Do Things with Words, франц. пер.: Austin, John L., Quand dire, c’est faire. Paris: Seuil, 1962).
[Закрыть]. Одним словом, фотографическое изображение – это не калька, но карта вещи: в нем больше действия, чем удвоения.
Эта означивающая и трансформирующая сила, этот потенциал фотографических форм – как раз то, что издавна отрицала фотография-документ, придерживаясь иллюзии прозрачности изображения, обесценивая формы ради возвышения вещей (референтов). Нынешний упадок документа, напротив, внес вклад в оправдание письма. Фотографическая миссия Datar, реклама, мода, гуманитарная фотография, а также, как мы увидим, некоторые новые виды репортажа – все эти секторы фотографии-выражения объединяет то, что они обладают высоким сознанием формы, используют ее бесконечные составляющие: кад рирование, точку зрения, свет, композицию, дистанцию, цвет, материал, четкость, время выдержки, режиссуру и т. д. Письмо (манера, стиль) производит смысл – такова логика фотографии-выражения, противоположная логике фотографии-документа, которая верит, что смысл присутствует в вещах и состояниях вещей, и ставит своей задачей собрать его из цепи видимостей. Производить или регистрировать? С одной стороны, смысл надо только выманить и зарегистрировать; с другой – он является продуктом формальной работы на пересечении изображения и реальности.
Даже по эту сторону искусства фотография-выражение заново утвердила силу форм и письма, в данном случае – силу фотографических форм и фотографического письма. Конечно, фотография-документ не отрицает форм, которыми многие операторы прекрасно владеют, но она отказывается от них ради референтов. Напротив, художественная фотография, как мы увидим, сознательно отдает предпочтение формам в ущерб вещам и состояниям вещей. Именно практики фотографии-выражения стремятся с максимальной чистотой создать смысл на границе изображений и вещей. Смысл, будучи не физическим качеством, а нетелесным атрибутом вещей и состояний вещей, не подлежит открытию, регистрации или реставрации. Напротив, он должен быть произведен, выражен, и это производство, это выражение смысла необходимым образом требует работы письма, изобретения форм. Именно потому, что нужно было произвести смысл и новую визуальность, а не для того, чтобы провести простую констатацию, Datar поручила свою миссию фотографам, вполне владеющим означивающей силой форм и письма.
Фотография-выражение, одной своей стороной обращенная к вещам, а другой – к изображениям, формально отличается от фотографии-документа и художественной фотографии. Она отличается от них и философски. В отличие от первой, фотография-выражение не смешивает смысл с изображаемыми вещами; в противоположность второй – не ограничивает смысл выражениями и их формами. Смысл одновременно нуждается в вещах и языке, в референте (который «соприкасается») и письме, позволяющем изображению перейти за рамки регистрации. Смысл обитает в вещах, но именно письмо улавливает его в свои сети[263]263
Deleuze G., Logique du sens, p. 34.
[Закрыть].
Так, гуманистические фотографии Робера Дуано, Рене-Жака, Брассая, Анри Картье-Брессона, а также Себастьяно Сальгадо отделены от гуманитарных снимков конца прошлого века не только различием ситуаций, мест или персонажей, но и противоположностью фотографического письма. «Лицо без определенного места жительства» в жизни не станет таковым в изображении, если человек не будет заключен в особую форму: крупный план, который делает плоской перспективу и изолирует индивида от его группы; банализация кадра и света, способствующая обесцениванию его человечности. Конечно, гуманистическая фотография обращалась к социальным ситуациям, далеким от тех, какие знает гуманитарная фотография, но их в равной мере разделяет радикальная несопоставимость избранной манеры письма. Вдохновленные сценографией точки зрения и контрастность, перспективы и глубина гуманистической фотографии умели сделать героев из обыденных персонажей и эпопею – из самых ординарных сцен.
Гуманистическая фотография собирала в значимое единство автора, персонажей и мир. Но это прекрасное единство исчезло из современной фотографии, как будто унесенное оползнем, обрушением почвы. Фрагментарность и раздробленность пришли на смену однородным и центрированным пространствам, замкнутым и целостным изображениям фотографии вчерашнего дня. Целостность и замкнутость изображений, как и контролирующий взгляд, разрушены. Единство внутреннего видения стерлось под натиском разнообразия и изменчивости непрямого свободного видения тогда, когда было разорвано единство человека и мира. Этот сейсмический удар, который потряс весь мир изображений, в фотографии соответствует переходу от документа к выражению. Этот процесс ускорился в ходе последних десятилетий. Потрясения вызвали уход многих фотографических форм и стилей письма, но вызвали также и приход субъекта и автора.
Автор, субъектБез сомнения, Роберт Франк лучше всех почувствовал и воспринял первые знаки таких трансформаций. Странствие по американским дорогам, которое он совершил в течение года – с 1955 по 1956, – ценно как симптом. Предпринятое им тогда при поддержке Фонда Гуггенхайма путешествие через все Соединенные Штаты завершило долгое фотографическое исследование Запада, начатое в XIX веке Тимоти О’Салливаном, Уильямом Джексоном, Мэтью Брэди и др. и продолженное Энселом Адамсом, Уинном Баллоком, Гарри Каллаганом и Майнором Уайтом. В действительности Франк утверждает исчезновение старого единства, объединявшего изображение и мир, он разрушает перспективную концепцию пространства, упорядоченного исходя из единственной точки, и ставит в центр своего предприятия субъективность. Одним словом, он уничтожает способы видения и манеры показа, до тех пор главенствовавшие в фотографии-документе.
Такая переориентация фотографии и определение ее эволюции на будущую половину столетия состояла в том, чтобы с помощью уникальной машины изобрести новую визуальность и выработать новый режим фотографических сообщений – сообщений, неотделимых от режимов так же, как и визуальность неотделима от машин[264]264
Deleuze G., Fo ucau lt, p. 65.
[Закрыть]. Эта машина, благодаря которой Франк извлекает свою визуальность, «раскалывает вещи» и открывает видение, очевидно рудиментарна, потому что она состоит только из аппарата «Лейка», стипендии Фонда Гуггенхайма и американской дороги 1950‑х годов. Будучи соединены, эти три элемента вкупе с самим Франком образуют механизм, который можно было бы назвать «машиной фотографии-выражения Роберта Франка».
Сначала о «Лейке». Этот легкий, прочный, малоформатный аппарат предпочитают фоторепортеры. Франк тоже выбирает его за предоставляемую им быстроту действия, но пользуется им со свободой, невообразимой в фотожурналистике того времени. Действительно, чтобы включить в дело случай, Франк доходит до того, что бросает свой аппарат в воздух с включенным автоспуском и таким образом позволяет ему самому сделать изображение. Затем – о Фонде Гуггенхайма. Годовая стипендия, выделенная Франку, принесла ему экономическую независимость, то есть свободу работать, как он сам считает должным, вне профессиональных рамок, путешествовать по своему вкусу и фотографировать без ограничений: за год он отснял несколько тысяч пленок[265]265
Frank, Robert, Robert Frank. Paris: CNP, Photo Poche, 1983, np.
[Закрыть]. Что касается американских дорог, по которым дрейфует Франк, это именно те дороги, что были пройдены поколением битников, в частности Джеком Керуаком. Это не пути больших экспедиций, предпринятых в XIX веке для открытия грандиозных пейзажей и легендарных пространств Запада, и не те места, где в 1930‑е годы прошли фотографы FSA, чтобы встретиться с крестьянами, пострадавшими от кризиса. Дороги, которыми следует Франк, никуда не ведут. Соединяя позицию битников и преимущества, предоставленные ему (временно) стипендией Гуггенхайма, Франк пускается в комфортабельное блуждание, совершенно свободное приключение. Его путь, не имеющий обязательного направления, цели и причины, не навязывает ему осмысленного маршрута. Это территория нонсенса, равно как и зона случайности, мимолетных и эфемерных встреч, внимания к пространству, вещам и мелким повседневным событиям. Это пространство пустоты. «Иду на почту в Вулворте, магазины по 10 центов, остановки, – отмечает Франк. – Сплю в маленьких недорогих гостиницах. К семи часам утра иду в бар на углу. Работаю все время. Говорю мало. Стараюсь оставаться невидимым»[266]266
Ibid.
[Закрыть]. Территория нонсенса или другая модальность смысла? Пространство пустоты или другая форма полноты?
Конечно, Роберт Франк – главная деталь этой особенной машины фотографии-выражения, задуманной как машина освобождения манеры видения и фотографирования. Именно поэтому он восстает против «того, что делает коммерческий журналист или иллюстратор», против их манеры быть не «на службе изображения, но в услужении у пожеланий или взглядов главного редактора». Действительно, он упрекает «фотографию и массовую фотожурналистику в том, что они становятся анонимным товаром без вдохновения и без души». Таким образом, Франк отказывается подчинять свои изображения какому бы то ни было контролирующему сообществу, не хочет, чтобы «зритель навязывал [свою] точку зрения»[267]267
Frank, Robert, «A Statement», US Camera Annual 1958, New York, 1957 (также в: Les Cahiers de la Photographie, N 11–12, 1983, p. 5–6).
[Закрыть], и даже остерегается поддерживать малейший тезис или декларацию. Его полная свобода передвижения, действия или бездействия, его твердое желание независимости от авторитетов и даже от ожиданий публики, его финансовая автономность (по крайней мере, временная) – словом, систематический отказ от малейших внешних ограничений приводит к утверждению суверенного «я» фотографа, к подчинению изображения исключительной власти его субъективности, его «вдохновения», его «души». Франк хочет освободиться от всех внешних ограничений: полезности, экономичности, большой и маленькой власти, чтобы подчиняться только себе самому. На место Истории, которая столь дорога «массовой фотожурналистике», он ставит свое личное приключение. «Испытывая врожденную настороженность по отношению к любой групповой деятельности»[268]268
Ibid.
[Закрыть], он является приверженцем выражения автономного «я». Это строго противоположно и коммерческой иллюстрации, «анонимному товару», и принципу реальности в фотографии-документе, но также и субъективизму, желающему, чтобы смысл сводился к воспринимающему его субъекту. «Я», которым объявляет себя Франк, – это сингулярность скорее фотографическая, чем психологическая.
Работа Роберта Франка, в особенности его книга «Американцы» (1958), стала открытием именно потому, что она радикально поместила фотографическое изображение в подчинение этому «я», этой сингулярности. Но субъект, отвергаемый фотографией-документом, невозможно реабилитировать, не изменяя места, занимаемого им в изображении. Прежде субъект был центральным обозревателем, техническим оператором, гарантом эстетической целостности изображения и его верности законам перспективной репрезентации – достаточно вспомнить Анри Картье-Брессона. У Роберта Франка «я» выигрывает в человечности и субъективности. Это фотографическое «я», с полной ответственностью укорененное в личном, чувственном, то есть интимном проживании. «Мне хотелось бы сделать фильм, – напишет Франк в 1983 году, – где смешивались бы моя жизнь, то, что в ней есть частного, и моя работа, публичная по определению, фильм, который показывал бы, как два полюса этой дихотомии соединяются, пересекаются, противоречат друг другу, борются один с другим, равно как и дополняют друг друга – в зависимости от момента»[269]269
Frank, Robert, «A Statement», US Camera Annual 1958, New York, 1957.
[Закрыть]. «Я» Франка напоминает идеальное состояние полной свободы, почти невесомости: он свободен в своих передвижениях и своих вдохновениях без всяких ограничений: экономических, социальных и, конечно же, эстетических. Эта свобода открывает изображению все его возможности, поскольку появляется новый режим фотографического высказывания, а именно режим фотографии-выражения. Но в то же время эта свобода лишает изображение его укорененности в реальности и его связи с репрезентацией, которая прежде гарантировала его единство и внутреннее единообразие. Франк не показывает – он показывается, показывает себя. Субъект, автор отныне главенствует над реальностью. Это неуместное наступление субъективности знаменует приход фотографии-выражения на развалины главных парадигм фотографии-документа.
Репортеры свидетельствовали, они находились в прямых и регулярных отношениях с реальностью; фотографы выражают, они связаны с ней непрямыми и свободными отношениями. Эти отношения актуализируются в новом фотографическом письме. На самом деле Роберт Франк столь же интенсивным, сколь эфемерным образом («Убираю мою “Лейку” в шкаф»[270]270
Frank R., Robert Frank, np.
[Закрыть], – решает он в 1960 году) взорвал режим фотографии-документа, который Анри Картье-Брессон привел к апогею. У него иллюзия господства над реальностью проявилась в отказе от рекадрирования снимков, в общей четкости и точности изображений, в равновесии ценностей, в практике решительного момента и особенно в той роли, какая у него отводится геометрии. Этому прекрасному, прочно структурированному и совершенно рациональному зданию Франк противопоставляет случайность: то он бросает свой аппарат в воздух вместо того, чтобы работать видоискателем, то отказывается ретушировать недостатки своих пленок, пятна и царапины, в надежде, что откроет в них выразительные богатства. Действительно, Франк разрушил то значимое единство, которое в фотографии-документе, в частности в гуманистической версии Картье-Брессона, Дуано и Рони, собирало автора, персонажей и мир. Под действием неуместных кадров совершенные аккорды классической эстетики уступают место диссонирующим аккордам или иррациональным разрывам: скрытые лица, раздробленные тела, ускользающие взгляды, опрокинутые сцены и т. д. Кажется, что Франк предается игре, где каждый удар обращен на правила, широко принятые в фотографии-документе. Когда Франк ставит в центр своего формального режима запрещенное – зернистость, деформации, сильные контрасты и особенно размытость, – он тем самым освобождает документальную фотографию от ее правил и красноречиво показывает, что они не являются ни обязательными, ни неизменными, но факультативными, постоянно изменяющимися.
Позиция Роберта Франка заставила по меньшей мере пошатнуться платоническую машину фотографии-документа. Поскольку Франк всегда показывает, показываясь, он вставляет между вещью (референтом) и изображением сильное «я». Отвержению индивидуальности оператора в фотографии-документе противопоставляется всеприсутствие субъекта в фотографии-выражении. Это иллюзия объективной репрезентации вещей или состояний вещей через презентацию событий: последние при этом сами рождаются между видимым и невидимым, во всегда уникальном контакте с субъектом, миром и машиной-фотографией. Если снимки Франка порывают с документальной эстетикой, это происходит потому, что они представляют собой не репрезентацию (чего-то, что было), а презентацию (чего-то, что произошло), что они отсылают не к вещам, а к событиям, они силой утверждения индивидуальности разрушают бинарную логику прямого соприкосновения с вещами. От четкого к размытому, от дистанции к близости, от нормального объектива к широкоугольному, от геометрии к случайности, от прозрачности к высказыванию – так противопоставлены два режима фотографического высказывания, две практики фотографии, две философские концепции. Вопреки документальной иллюзии, которая сводит мир к видимому, Роберт Франк, по словам Жана-Франсуа Лиотара, «делает видимым тот факт, что визуальное поле обязательно скрывает невидимое, что оно открывается не только глазу (князю), но и уму (бродяге)»[271]271
Lyotard J.-F., L’Inhumain, p. 137.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?