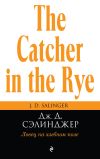Автор книги: Андрей Аствацатуров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Почему люди не слышат друг друга?
Реальность оказывается странной уверткой, не укладывающейся в прокрустово ложе одной-единственной истины. Мир, учит нас Джеймс, окончательно понять невозможно. Мы думаем, что живем или открываем истины, а на самом деле мы всего лишь создаем удобные для себя тексты, жанры, стили, способы описания и обозначения. Один сидит в кабинете и подчиняет свою жизнь логике научного текста. Другой обманывает доверчивого обывателя, превращая свою ситуацию в авантюрный роман. Обманутый берется во всем разобраться и оказывается в роли автора и героя детектива. Турист-песенник, отправившийся в дежурный поход, становится персонажем приключенческого романа, а слесарь-сантехник, положивший глаз на жену соседа, – романа любовного.
Каждый из нас не просто живет на свете – он (или она?) сидит в тюрьме жанра, в паутине заготовленных обозначений, отторгнутых от реальности. И поэтому никогда не услышит, не увидит, не разгадает другого. Он начинает набрасывать на другого правила своего жанра и будет недоумевать, почему тот (другой) действует как-то глупо и неумело. Именно так Генри Джеймс решает проблему фатальной разобщенности людей, над которой будет биться весь XX век. Просто и технически виртуозно. Его персонажи – филолог и мисс Тина – встречаются, разговаривают, но никогда не слышат и не видят друг друга. Просто потому, что родом они из разных жанров. Филолог принадлежит авантюрному роману, а мисс Тина – любовной мелодраме. И оба тщетно пытаются друг друга прочитать, применить к другому логику своего жанра. Филолог думает, что мисс Тина – из его авантюрной истории, и слегка раздражается, что она медлит и колеблется, словом, ведет себя не так, как полагается сообщнице.
А она считает, что перед ней – демонический соблазнитель, персонаж любовной истории, и удивляется его нерешительности и непоследовательности. Интересно, что здесь каждый открывает другому тайну своего жанрового происхождения, чтобы быть понятым (филолог признается мисс Тине, что он авантюрист, приехавший сюда ради писем, а мисс Тина дает ему понять, что влюблена). Но эти признания имеют лишь обратный эффект – они провоцируют еще более неверное прочтение “другого”.
Искусство, действительность и уроки старого мифа
Начинается увлекательная литературная игра, в которой Джеймс предлагает нам поучаствовать. Ее правила заключаются в том, чтобы научиться переобозначать литературный материал, пересказывать историю, предназначенную для одного жанра, языком другого. Попробуйте переписать советский производственный роман гомеровскими образами. Пусть у нас бригадир на партсобрании вдруг достанет заготовку, поднимет ее над головой как меч и гекзаметром поклянется именем Зевса. А Зевс, дозвонившись на коммутатор к Гермесу, попросит соединить его с Гефестом и суконным языком потребует у того ускорить темп производства щита и меча Ахилла.
Можно, конечно, сделать все это не так топорно, а как-нибудь поизящнее, хотя поизящнее получалось далеко не у многих. У Джеймса получилось. В “Письмах Асперна” события авантюрного романа разыгрываются приемами и стилистикой романа любовного. Рассказчик, сам того не замечая, совершает ошибку обозначения. Его размышления авантюриста густо разбавляются любовной риторикой. Письма Асперна превращаются в предмет вожделения, а попытки поближе сойтись с дамами Бордеро описываются как галантные любовные домогательства. Герой так сладострастно описывает, как он, вожделея, замирает возле дверей, где хранятся “сокровища”, что складывается впечатление, будто речь идет не о каких-то письмах, а о тех “сокровищах”, которые Дидро, извиняюсь, называл “нескромными”. Авантюрный текст, конечно, бунтует, прорывается своим собственным содержанием, но приемы любовного романа оказываются сильнее. Возникает неожиданный, невозможный диалог жанров. Становится даже интересно, кто кого переговорит: авантюрный роман – любовную мелодраму, или наоборот? Содержание в такой ситуации полностью теряет объективность. Истинность меняется в зависимости от выбранного жанра. Любовный роман в “Письмах Асперна” перестает быть обозначением, поднимается из плоскости, словно киногерой Вуди Аллена, вылезающий из экрана в кинозал, обретает трехмерность и становится как будто бы действительным событием. В свою очередь, авантюрный текст теряет объем, превращаясь в обозначение.
И в том и в другом случае мы имеем дело с иллюзией, с чистым, замкнутым на себе миром искусства. Просто иногда оно оказывается коварным, притворяясь реальностью. И мы, так же как и герои Джеймса, начинаем путаться, принимая искусство за жизнь, за объективную истину. Мы всерьез переживаем за судьбу киногероев и киногероинь, влюбляемся в них, ненавидим их врагов, словно все они – реальные люди. Я отчасти избежал этого всеобщего заболевания. Может, потому, что всегда был инфантильно эгоистичен. Или, скорее, потому, что меня с детства растили как филолога. А филологу не полагается принимать книги близко к сердцу. Он должен их толковать или токовать вокруг них, как тетерев на ветке. (Я, наверное, сейчас выгляжу именно так.) В общем, я никогда не терзался заботами героев и не мог оценить всей масштабности этой странной привычки. До тех пор пока не написал свою первую книгу. И тут выяснилось, что половина рецензентов принимает меня за моего героя. Один обвинял меня в трусости, другой – в зависти, третий – в злобе, четвертый – в немужском поведении, а пятый даже посоветовал мне перестать ныть и подыскать более высокооплачиваемую работу. Тогда я все понял. И позавидовал этим людям. Мне бы еще научиться завидовать героям Джеймса, но это невозможно. Не могу пересилить в себе филолога.
Персонажи “Писем Асперна” (филолог, Тина и мисс Бордеро) в самом деле принимают мир искусства, мир игры за реальность. Впрочем, до поры до времени. Джеймс жестко замыкает на этой идее свою повесть, создавая три параллельные линии по схеме “персонаж – читатель (зритель)”. Это линия отношений филолога (персонаж) и Тины (зритель), мисс Бордеро (персонаж стихов Асперна) и филолога (читатель) и, наконец, самого Джеффри Асперна (персонаж) и мисс Бордеро (читатель). Последняя линия скрыта. Ее, собственно, и стремится разгадать филолог и узнать, что же произошло между Асперном и мисс Бордеро. Письма сжигаются, и филолог уезжает из Венеции ни с чем. Зато сама его история, история охоты за письмами становится ключом к его загадкам, о чем он, однако, даже не подозревает.
Создав три линии, Джеймс прочитывает свой материал через древнегреческий миф об Орфее. Так, как это будут делать в XX веке модернисты. Вернее, он прочитывает миф через свой материал. Миф обретает новый смысл, актуальный эстетским устремлениям Джеймса, а рассказанная история – универсальное, мифологическое измерение. “Орфей и менады”, – произносит ключевые слова филолог, объясняя отношение Джеффри Асперна с его дамами-музами. Вспомним сюжет этого мифа – Джеймс явно хочет, чтобы мы его вспомнили. Орфей – легендарный певец. Его песни завораживали богов и однажды открыли ему врата Аида. Менады – игривые шалуньи, сопровождавшие Диониса, участницы вакхических оргий. Восхищенные игрой Орфея, они влюбились в него и попытались втянуть его в свои оргиастические забавы. Орфей ответил категорическим отказом, и разозленные менады растерзали его. Здесь разгадка повести. Поэт и лирический герой – две разные истории.
Песнь его, обращенная к женщине, вовсе не означает признания в любви. Женщина – всего лишь муза, случайный повод искусства, которое обращено к самому себе и занято собственными задачами. Менады ошиблись. Они приняли лирического героя, персонажа Орфея за Орфея реального, а себя вообразили предметом любви, хотя им предписывалась роль зрительниц.
Похожую ошибку совершает мисс Тина. Филолог, сам того не желая (искусство творится часто неосознанно, и произведение получается не таким, каким оно задумывалось), обращаясь к ней, разыгрывает сюжет любовного романа. И мисс Тина влюбляется в него как в персонажа. Она принимает его спектакль за истинную жизнь, наивно считая, что она возлюбленная, а не зритель. Филолог-Орфей, естественно, отвергает ее.
То же самое произошло за много лет до этого с мисс Бордеро. Стихи и письма Асперна-Орфея, лирического героя, она прочитала как признание в любви. В ответ реальный Асперн-Орфей, как мы знаем, “дурно с ней обошелся”. Сам филолог, выступавший в роли персонажа, в отношениях с мисс Бордеро становится зрителем, принимающим искусство за реальность. Он общается с ней как с персонажем стихов Асперна, думая, что она именно такая, какой ее изобразил великий поэт.
Менады, убедившись в своей ошибке, разорвали Орфея, символически разорвав с искусством, оказавшимся ложью. У мисс Бордеро не хватает сил повторить их злодейство – разорвать письма Асперна. Она остается во власти иллюзии его стихов, принимая законы жанра за объективную реальность, за истину. Она бережно хранит письма, каждый вечер достает их и по многу раз перечитывает. Зато подлинной менадой оказывается мисс Тина. Она прощается с филологом-персонажем и сжигает письма Асперна. Но и она не готова расстаться с иллюзией.
Итак, загадка любовной истории Асперна и мисс Бордеро нами разгадана. Безутешным остался только герой-филолог. Он так ничего и не понял. Не понял, что совершенно неважно, какими в действительности были отношения Асперна и мисс Бордеро. Что, перетряхнув простыни, он ровным счетом ничего не прибавит к пониманию стихов великого классика. Что никакой истины филология не откроет, даже если раздобудет самые важные документы. А только повторит ту ошибку, которую совершают все на свете, – примет мир искусства за реальность.
Колония, жанр и слово
О повести Джозефа Конрада “Сердце тьмы”
Моряк и джентльмен
Джозеф Конрад часто вспоминал, как он в детстве любил подолгу разглядывать географические карты. Его привлекали белые пятна, неисследованные земли, которых к концу XIX века становилось в мире всё меньше. Юного Конрада (тогда его фамилия была еще Коженевский) это обстоятельство страшно удручало. Он указывал пальцем на какую-нибудь россыпь островов, затерянных в океане, и говорил себе: “Когда я вырасту – обязательно туда поеду”. Вполне естественное желание ребенка, начитавшегося приключенческих романов и чумеющего от скуки где-то в унылом Кракове под бдительной опекой родного дяди.
Вы, наверное, понимаете его чувства. Я вот, например, их тоже очень хорошо понимаю. В детстве, правда, в самом раннем, дошкольном, мне приходилось переживать нечто подобное. По праздникам родители всегда дежурно отправлялись в гости к бабушке. И зачем-то брали меня с собой. Нужно было подолгу высиживать за столом с бабушкиными ветхими гостями, есть тяжелую майонезную пищу, запивать ее приторным лимонадом “Золотой ключик” и слушать, как старики и старухи разговаривают о лекарствах, о погоде и о продуктах питания. Иногда от скуки я уходил в коридор. Там висела карта мира. Она мне тогда казалась огромной. Я вставал перед ней и от нечего делать принимался ее рассматривать. Все-таки какое-никакое, а развлечение. Если за столом про меня не вспоминали, я мог простоять возле нее час, а то и больше. Я тыкал пальцем в цветные кривоватые пятна, читал по складам названия стран, городов, морей и океанов, иногда как дурак хихикал – некоторые звучали очень неприлично, – но, поверьте мне, ни разу, в отличие от Конрада, я себе не сказал, что вот, мол, вырасту, так непременно туда поеду. Я смутно догадывался, что ничего не получится, и если я куда-нибудь поеду, то разве только на дачу в Комарово.
Интуиция меня не подвела. Я никуда не поехал и все детство провел за книжками в мире слов и выдуманных историй о чужих приключениях. Джозеф Конрад в своих ожиданиях тоже не обманулся. Он сделался моряком и в самом деле побывал на всех далеких континентах и островах, о которых мечтал в детстве. Но главным его приключением, пожалуй, стало путешествие к истоку человеческой речи, говорения, которое он предпринял в своей повести “Сердце тьмы”.
Передо мной на столе – его фотография. Умное, строгое, волевое, немного напряженное (фотограф, наверное, попросил не шевелиться) лицо настоящего английского джентльмена. Аккуратно подстриженные усы. Седая борода, тоже аккуратно подстриженная. Никакого беспорядка в одежде… Никаких внешних свидетельств, сколько ни вглядывайся, тех кошмарных переживаний, которые ему наверняка довелось испытать. А испытал Конрад не так уж мало. Он сутками выстаивал на капитанском мостике, попадал в гибельные штормы, боролся со шквальными ураганами, высаживался на необитаемых островах, изнывал от жажды, жарился под палящим южным солнцем, находил останки затонувших кораблей, видел, как желтый Джек (лихорадка) валит людей сотнями, сталкивался лицом к лицу с африканскими дикарями, татуированными с головы до пят, слышал их ночные жуткие завывания, бой барабанов, и пр., и пр.
Но такое впечатление, что хаос всей этой дикой морской жизни совершенно его не коснулся. Он, как и его герой Марлоу, сохранил сознание цивилизованного европейца, ясность взгляда, упрямое ви́дение собственного пути и целей. На торговом флоте он сделал почти головокружительную карьеру – от простого моряка до капитана. Из поляка он вполне сознательно превратился во француза, а потом из француза – в англичанина, еще более английского, чем даже сами англичане. Литературная карьера ему удалась ничуть не хуже. Упорство, трудолюбие в сочетании с уникальным опытом жизни морехода и тонким чувством слова дали потрясающие всходы. Очень скоро он был признан мастером английской прозы, что само по себе не может не восхищать, учитывая отнюдь не английское происхождение Конрада и нелюбовь жителей Альбиона к чужакам.
О приключенческих романах и колонизаторах
С подобным складом характера мы должны были бы получить вполне предсказуемого автора. Ну, скажем, профессионала в области приключенческой прозы, вроде Рафаэля Сабатини. Писателя, умеющего сковывать строго выверенным железным сюжетом драму человеческих усилий, разворачивающуюся в каких-то ужасно экзотических широтах. Конрад мог бы стать именно таким. Мог бы одурачить нас очередным приключенческим опусом, раскалить до романтической невменяемости страсти, выписать обстоятельно и со знанием дела мир восточной страны. Мог бы отправить старого морского волка Марлоу на поиски отважного капитана Курца, сгинувшего в поисках сокровищ. А в финале, вполне традиционном, наградить героя им же самим найденным кладом и возлюбленной.
Именно так поступал весь XIX век, вдохновленный романтиками. Англичане, жившие в строгую викторианскую эпоху, были склонны добавлять к этому романтическому пафосу приключений достоверность, а также идею долга, чести и благородства. Отважным флибустьерам, безудержно рвущимся к сокровищам, вскоре приходят на смену добропорядочные лорды, сквайры, врачи. Эти более сдержанны и никогда не забывают о том, что они – англичане, неукоснительно выполняющие свой долг. “А теперь послушайте меня, – заявляет пирату-головорезу Джону Сильверу благородный капитан Смоллетт. – Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду”[2]2
Цитата из романа «Остров Сокровищ» Р. Л. Стивенсона (пер. Н. Чуковского).
[Закрыть].
Викторианская эпоха нанесла жанру непоправимые увечья. Приключение, смелое, безудержное, стало идеологически проверенным и принялось все время оправдываться, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо. С этими объяснениями жанру пришлось переселиться в детскую, чтобы по всем правилам английской воспитательной системы развлекать мальчиков из приличных семей. Оказавшись в детской, жанр начал уставать, дряхлеть, превращаться в стандартный набор игрушек – однотипных сюжетных формул. И все же ему удалось выстоять и сохранить даже в замороженном виде прежнюю свежесть. Для литературы нет ничего страшнее подобного состояния. Когда какой-нибудь из ее жанров устал, забронзовел, старчески впал в детство, но по-прежнему уверен в непогрешимости собственных предписаний.
Бывшему моряку и путешественнику Конраду, когда он приступил к сочинению повести “Сердце тьмы”, досталось, как мы видим, тяжелое наследство. Обремененное, словно неуплаченными долгами, неповоротливыми формулами и скучнейшими правилами. Однако Конрад с первых же страниц всех удивляет. Поначалу он вроде бы следует привычным правилам и вызывает в нашем сознании определенные ожидания, предчувствие привычного романтического путешествия. Но затем обманывает все ожидания и разрушает типичную приключенческую схему. Старый морской волк Марлоу, сидя вечером на берегу Темзы в окружении своих друзей-моряков, начинает рассказ о своем африканском путешествии. Слушателей тотчас же охватывает терпеливая скука – сейчас им придется выслушать типовую и неправдоподобную историю. Им заранее неинтересно: все-таки они моряки, а не читатели приключенческих книг, и привыкли жить в собственном реальном мире, а не в мире чужого воображения. Впрочем, их скепсис не подтверждается. Сам сюжет, произнесенные Марлоу фразы и слова заставляют их перенестись в реальность рассказа, застыть в гипнотическом трансе, оцепенеть.
При том, что все составляющие набившего оскомину приключенческого романа вроде бы наличествуют. Здесь и романтическая жажда увидеть неизведанные земли, и покорение экзотической страны, и любовная линия, и поиск сокровищ (слоновая кость), и сражение с туземцами, и многое другое. Но весь этот арсенал оказывается как бы не в фокусе рассказчика. Его занимает, как мы знаем, совсем другое – предчувствие гибели цивилизации, страх перед пробуждением древней иррациональной воли, томящейся в человеческом, поиск истока мыслей, чувств и речи цивилизованных людей. Тем не менее в самом тексте Конрад не просто игнорирует правила, показывая, что на обломках старой скучной традиции можно создать нечто новое и интересное. Он указывает на нее внутри своей повести и сознательно отказывается ей следовать. Почти с селиновским злорадством Марлоу рассказывает в “Сердце тьмы” о гибели экспедиции, состоящей из искателей приключений, которые смахивают на грабителей и пиратов: “Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил”[3]3
Здесь и далее перевод А. Кравцовой.
[Закрыть].
Конрад говорит не только об эксплуатации и грабеже. Он отвергает сам жанр, проговаривая приключенческую формулу в одном абзаце и вскрывая ее как гнойный нарыв. Конрад указывает на нее и объясняет охотникам до приключенческого чтива, что оно, сколь бы привлекательным ни казалось, таит в себе гнусность. Причем гнусность особого рода. Возведенную в квадрат. Одновременно этическую и художественную. Остросюжетный приключенческий роман, подчиняющий мир фантазии готовой схеме, – это вроде колонизации далекой туземной страны, ничего не знающей о европейской цивилизации, о ее кодексах и законах. В том и в другом случае реальность подвергается жесточайшей репрессии, втискивается в прокрустово ложе границ и правил. И все это делается с единственной целью – заработать денег. Белые колонизаторы Африки получают каучук, золото, ценнейшую слоновую кость, а ловкий беллетрист – высокий гонорар.
Окультуренное пространство благодарит и первооткрывателя-фермера, и певца-конкистадора разве что в просветительских романах. В романтических текстах, уже в самых ранних (Людвиг Тик), оно ему мстит, чудовищно, изощренно и очень реалистично, разоряя его, выматывая его силы, заражая беспричинным страхом и безумием. И вот художник, добившийся славы и денег, вдруг вскрывает себе горло, а искатель приключений и золота, свихнувшийся и одичавший, бродит вокруг развалин какого-нибудь замка Руненберг.
Марлоу, колонизатор и художник (путешествие начинается)
Марлоу, alter ego Конрада, выступает одновременно в трех ролях: путешественника-колонизатора (открывателя новых земель), человека, который постучался в мир кошмара, и, наконец, художника, решающего чисто языковые задачи. Подобная систематизация скорее подошла бы строгой литературоведческой статье. И я нисколько на ней не настаиваю, тем более что Конрад не раз соблазняет нас идеей фиктивности происходящего и намекает, что, возможно, весь рассказ – плод разгоряченного воображения Марлоу. Стало быть, нам, читателям, следует забыть о Марлоу-колонизаторе, Марлоу-человеке. Я вполне готов допустить, что Марлоу никуда не ездил. Он сидит на берегу Темзы (реальна лишь его фигура, напоминающая статую Будды), раскуривает трубку и прямо сейчас сочиняет свой рассказ, переживая дикий ужас и пугаясь собственного голоса.
Ездил Марлоу или нет в бельгийское Конго – пожалуй, не столь уж принципиально. Важно то, что опыт прошлого (или выдуманного прошлого) он переживает сейчас. Произнося слова, замолкая, снова начиная говорить, он покидает область рассудка и человеческих эмоций (она оказывается неожиданно поверхностной и легко отторгаемой) и движется к истоку собственного “я”, где плещется дикое, архаическое, отзвук иррациональной мировой воли. Кульминацией этого движения становится встреча с Курцем, жуткой персонификацией его личного кошмара, человеком, возможно, существовавшим лишь в его воображении. Важно и то, что свой рассказ Марлоу сочиняет у нас на глазах, и мы становимся свидетелями рождения текста, видим не конечный результат – ловко слепленную обездвиженную повесть, – а сам мучительный процесс ее сочинения. Это тоже движение: движение от канонов формульной литературы, от заготовленных слов, случайно нахлобученных на реальность, от глупых географических названий и имен, от предписаний нормативной грамматики – вглубь, туда, где рождается речь, к ритму тамтама, к дикому воплю и, наконец, к громоподобному молчанию.
В начале своего рассказа (путешествие уже началось) Марлоу – колонизатор и искатель приключений увлечен идеей своего предприятия – во что бы то ни стало поехать в бельгийское Конго. Увлечен и Марлоу-рассказчик – он у истоков творчества и чувствует прилив вдохновения. Оба заворожены ощущением близости чего-то иррационального и почти готовы отдать себя его стихии. Послушаем самого Марлоу: “But there was in it one river especially, a mighty big river, that you could see on the map, resembling an immense snake, uncoiled <…> And as I looked at the map of it in a shop-window, it fascinated me as a snake would a bird – a silly little bird”. – “Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, – она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца… Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу – маленькую глупенькую птичку”.
Забежим немного вперед и заметим, что Марлоу избегает точных географических названий. Словно Африка и река Конго уклоняются от обозначения, стараясь остаться чем-то странно-неопределенным, каким-то “черным континентом” (или же вовсе маловразумительным “it”) и попросту рекой, пусть даже “mighty” и “big”. Путешествие едва началось, а слово-название, верный слуга рассудка, уже пасует перед открывающимся миром иррациональной воли. Закованная в схемы, в названия контурных обозначений, лежащая на плоскости (нанесена на карту), она уже готова восстать, обрести трехмерность, сбросить ярмо ничего не значащих имен. Это пробуждается воображение Марлоу, увлекающее в путешествие к кошмару, к ядру собственного “я”. Схематичное изображение реки превращается в хитрый многозначный символ (змея), уже начинающий подмигивать читателю разными смыслами, пока еще не вполне явными – чего-то древнего, инфернального и угрожающего. Сравнение собственной завороженности нанесенной на карту змеей с оцепенением глупой маленькой птички перед коброй кажется вполне банальным и ожидаемым (XIX век в отличие от XX века не боится красноречивых банальностей). Но оно поразительным образом преодолевает свой ситуативный смысл и эффект. В нем, в этой почти избитой формуле, возникает важная для понимания всей повести идея – идея исчезновения индивидуальной воли, ее растворение в общемировой, слепой, иррациональной, внечеловеческой. Выходит, путь колонизатора, миссионера, искателя приключений, писателя опасен и травматичен. Он лишает воли и уводит за грань человеческого.
Итак, вдохновленный созерцанием витринной карты, Марлоу отплывает. Символически – повторяя путь Данте на тот свет, спускаясь по адовым кольцам, путешествуя по загробной реке (Конго прочитывается как Стикс или Ахерон), медленно приближаясь к Люциферу-Курцу. В реальном измерении – сначала в Брюссель (он изображен схематично-аллегорически, как врата Ада); потом – вдоль африканского побережья, к устью реки; а затем – в глубь Черного континента на крошечном, старательно залатанном пароходике, к внутренней станции Курца.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!