Текст книги "Русский ад. На пути к преисподней"
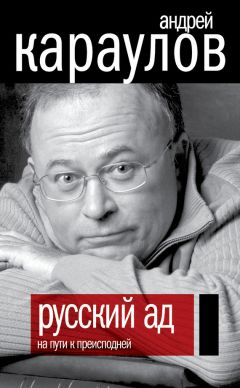
Автор книги: Андрей Караулов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)

11
Александр Исаевич ходил и ходил вдоль забора – если бы в Кавендише была весна, забор, конечно, был бы уже цветущей изгородью, но сейчас осень, гадко, да еще ветры, постоянные ветры; Кавендиш – это гигантская аэродинамическая труба, где ветер быстро превращается в стихию.
Александр Исаевич так и не привык к холодам, не сумел. Советские лагерники (как и партизаны в войну) не боялись холодов, не замечали их; «на зоне» не было, например, гриппа, ни одной эпидемии за все эти страшные годы – исторический факт!
А у Александра Исаевича – привычка: когда он думал – он ходил, мерил землю (или балкон, у него был длинный-длинный балкон) ногами. Мыслить – это работа, нельзя, невозможно, мыслить и… завтракать, например, – невозможно!
Живя уединенно, Александр Исаевич нуждался в еще большем уединении. Люди тяготили его, а семья, Наталья Дмитриевна, их дети, это обязанность, его долг перед жизнью, если угодно, но не более того; Александр Исаевич уходил в кабинет, к дивану, садился поудобнее и… закрывал глаза.
Какая это сладость – думать! Искать в себе, выписывать мысль! Как тащит его, тащит к себе одиночество!
Александр Исаевич умел смотреть в свои собственные глубины, ему всегда – всегда! – был интересен прежде всего он сам, Александр Солженицын; зачем ему кто-то, если там, в его глубинах, в его душе – целая страна?
Он мог бы часами, наверное, сидеть на этом протертом диване, но почему-то главные решения являлись ему только когда он ходил – с блокнотам и шариковой ручкой, которая пишет фломастером, похожим на чернила.
Блокнот и ручка всегда были рядом с ним. Александр Исаевич имел замечательную привычку трястись над своими тетрадками, блокнотами, записными книжками, тем более – рукописями. Вместо жизни у него всегда был здоровый образ жизни; он завидовал Пушкину, который писал по утрам, лежа в кровати и небрежно скидывая написанные странички (не пронумерованные!) на пол, – Александр Исаевич презирал гениальную, но пижонскую иронию Бориса Пастернака: если ты знаешь, что ты – нужен, не стесняйся, позови себя сам, не жди, когда тебя позовут другие (да и позовут ли?..).
Нельзя, очень трудно в России без самозванства; Александр Исаевич всегда звал себя сам – на работу, на создание, на подвиг, на каторгу. Он знал, что он творит подвиг, что «Архипелаг» – это подвиг, «Красное Колесо» – дважды подвиг!
И он сам, в этом ценность, сам звал себя на этот труд, и хотя все мы «умираем неизвестными», Александр Исаевич не желал умирать «по-русски» («жизнь равняет всех людей, смерть выдвигает выдающихся»); весь мир – перед ним и он – перед всем миром – вот формула его жизни в Кавендише.
В доме было тесно; Александр Исаевич наскоро одевался и выходил во двор – пошептаться с забором, как он говорил…
Этот забор, живую изгородь, Александр Исаевич любил еще больше, чем свой письменный стол. За забором ему было хорошо и комфортно; он мог неделями не выходить на улицу, к людям, да и улицы в Кавендише были мало похожи на улицы, кругом лес, сплошной лес, больше, правда, похожий на парк, – в Америке все леса похожи на парк!
Американские города на границе с Канадой, проведенной, как известно, по линейке, это и в самом деле окраина страны; здесь, в Пяти Ручьях (так он окрестил свою окраину), это видно невооруженным глазом: Кавендиш – глухой городишко, самое высокое здание – пожарная каланча, жизнь, машины, рестораны – только в центре, но в ресторанах Александр Исаевич всегда, еще с Москвы, находил «душевное запустение» и бывал в них только когда приглашал кто-то из друзей или издателей.
Он ходил вдоль забора (здесь, наедине с забором, он у себя) и разговаривал – молча – с самим собой.
Старик и его забор – за ним, за забором, чужой мир, бешеный и опасный, подлый, в котором изо дня в день накапливается злость, прежде всего злость, где все (по сути) уже предопределено, прописано заранее, наперед, раз и навсегда, то есть все скука, именно так – скука!
Он сразу признал этот мир, Соединенные Штаты, ненастоящим и спрятался от Америки за своим забором; его мысли были далеко-далеко, не здесь… в Петрограде, в красном Петрограде, откуда и катится сейчас его Красное Колесо: «если позван на бой, да еще в таких превосходных обстоятельствах, – иди и служи России!..»
Ельцин озлобил всю страну – Александр Исаевич хорошо это видел. Он внимательно читал московские газеты и – тревожился. Просто комок иной раз приступал к горлу: Господи, что же там происходит на самом деле?
Солженицын жизнь положил на то, чтобы советская коммунистическая партия рухнула, чтобы эти граждане, коммунисты, исчезли, Красное Колесо остановилось. Но тот строй, точнее, режим, который сменил сейчас коммунистов, был еще ужаснее: демократия демократией, но с водой, кажется, выплеснули и самого ребенка – страну.
Злоба в России – это такая штука, с которой надо обращаться очень осторожно. Иначе злоба, русская злоба, все выжгет вокруг себя, как в России бывало уже не раз, – злость.
Отшельник – да, отшельник, Моисей в бескрайней пустыне, имя которой – весь мир; только за Моисеем, если верить легенде, была толпа измученных евреев… да и пустыня, сама пустыня – это космос, настоящий космос, дорога к покою, к великой, сияющей красоте. – Александр Исаевич не сомневался, что за ним, за его спиной, тоже толпа, но они, эти люди, его знакомые и незнакомые ученики, совершенно не обязаны его видеть, более того – не должны его видеть часто, ибо он – отшельник, действительно отшельник, таков невидимый стержень его жизни.
Рейган, президент страны, давшей ему приют (и главные деньги), однажды пригласил его в Белый дом.
Александр Исаевич ответил телеграммой: если вы, мистер Президент, будете в Вермонте и выберется у вас свободная минута – пожалуйте в гости, буду рад.
Наташа пирог испечет!
Один из его героев, уважаемых героев, мечтал (в советском концлагере), чтобы американцы бросили на Россию, на Сталина, на все его обкомы-райкомы, на всех коммунистов сразу атомную бомбу: «Если бы мне, Глебу, сказали сейчас: вот летит самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронят под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильен людей, но с вами – Отца Усатого и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ, по лагерям, по колхозам, по лесхозам? – Да, кидай, рушь, потому что нет больше терпежу! Терпежу – не осталось!»
Черт с ним, с «мильеном», раз «терпежу» нет, пусть погибнет великий народ, будет еще одна Хиросима, лишь бы Отец Усатый сгорел бы, к черту, в этом огне, – а не вышло ли так, что он, Александр Исаевич, вдруг промахнулся; чего-то не понял, а?
Эта мысль-догадка не давала ему покоя.
Рабинович стрельнул, стрельнул – промахнулся,
И попал немножечко в меня…
Что ж это за стрелки-то тогда вышли на охоту – а, елки-палки?..
Метили в коммунистов, а попали в народ?
Тайна как введение в его литературу, не в книги, нет, – в его труды, в его узлы – труды великого каторжника, рассчитанные на бессмертие, на интеллект читателя, на долгий-долгий послезавтрашний день…
«Только твои слова будут памятником этих лет, больше сказать некому…»
Холод, дурацкий холод: ничто не портит любой пейзаж так, как ветер и пурга из снежной пыли.
Иногда ему казалось, что забор в Пяти Ручьях, это вовсе не забор (он и на забор-то не похож), а какое-то живое существо, которое пристально за ним наблюдает: Александр Исаевич знал, что однажды был определен ему срок умереть. Да, смерть приходила за ним, но остановилась вдруг прямо на пороге: сроки отодвинулись; жуткую (с куриное яйцо) раковую опухоль в его теле кто-то… кто? Бог?., обшил намертво такой «кожей», что даже метастазы ее не разорвали… – В эту минуту Александр Исаевич действительно почувствовал, как на его плечо легла рука Небожителя, благословляя его на особый труд. Такие подарки не делаются по случаю, нет; теперь Александр Исаевич не сомневался, что жить он будет долго, очень долго, ибо у него появилась миссия: он обязан (Господь обязал) разобраться с дьяволом – Владимир Ульянов по кличке «Ленин».
И покатилось «Красное Колесо»…
Оно застряло почти сразу, запуталось в первых же «узлах».
Разве Александр Исаевич мог знать, что он проиграет эту битву?
Словно форточка вдруг захлопнулась: почему-то исчез свежий воздух, текст задыхался, его строчки работали с трудом. Слова, мысли – есть, их много, они теснятся, налезают друг на друга, но энергии (жизни) в них нет.
Тяжелая печать легла на его лицо: Александр Исаевич был похож на старца Зосиму, огромный лоб со следами вулканической работы мозга, худые щеки с линией оврагов…
Казалось, не живое это лицо, смертная маска.
«Красное Колесо», последний том, последний Узел, его борьба с самим собой, – книга распухала и становилась невыносимой.
Да, он совсем не любил Америку, думал (когда выгоняли) поселиться в Норвегии, на фьордах, но он был обязан сохранить себя для литературы, для борьбы, а Норвегия, если бы СССР развязал войну против Англии (Солженицын не сомневался, что война с англичанами будет, обязательно будет), – Норвегия станет первой, самой кровавой добычей Брежнева и Андропова. И отсюда, от фьордов, советские «Тополя» будут бить по Лондону и Эдинбургу… («Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край… – записывает он в дневнике. – Я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды»…)
Ему казалось, что третья мировая война неизбежна и начнет ее именно Андропов, имевший, как известно, безграничное влияние на Леонида Ильича.
Он никого не боялся, но жил с вечным страхом в душе.
Это не трусость, нет, куда там! Это именно страх.
Не сделать. Не успеть. Не договорить.
Потому и не торопился Александр Исаевич в Россию, не летел в Москву (в Питер, в Рязань…) на всех парах, как Ленин когда-то – в опломбированном вагоне.
…Забор, забор – такое ощущение, он, этот забор, и его перегородил пополам…
Дьявол выскочил непобежденным.
Он писал о стране, в которой ничего нельзя изменить, тем более перестройкой.
Александр Исаевич пришел к мысли (и тут же, вздрогнув, прогнал ее от себя), что демократия – погубит Россию.
Он старился на глазах.
Как понять Шаламова? «Новый мир» публикует Солженицына, лагерная вещь: Шаламов присылает в ответ длинное письмо, хвалит-хвалит… и вдруг – гнев, прорывается гнев: блатарей, Александр Исаевич, в вашем лагере нет, лагерь у вас без вшей, служба охраны не отвечает за план и не выбивает его прикладами! Кот… – по лагерю гуляет кот! И зэки его не съели?!.. Получается, что автор, сам Александр Исаевич, вроде как и не сидел вовсе: если у него в бараке живет кот, если урки меряют махорку стаканом, хлеб оставляют в матрасе, и этот хлеб никто не ворует, если в бараках тепло, даже уютно, если в столовой есть ложки!.. – «…где этот чудный лагерь? – кричит Шаламов. – Хоть бы годок в нем посидеть!
Шесть страниц похвал – вдруг выскакивает этот абзац, написанный, видно, уже поздно вечером, под водочку, а водка, как известно, самый честный напиток на свете, с эффектом…
Да, все в жизни Александра Исаевича было в меру, так распорядилась судьба: фронт, лагерь, Рязань, «Новый мир», Хрущев… – все в меру, всего в меру, из года в год.
Так что теперь? Если судьба положила ему, Солженицыну, всего в меру (Александр Исаевич не верил в неуправляемость судьба), если он (его выбор?) литературу принес в жертву… даже не ГУЛАГУ, нет, конечно, он пожертвовал литературой ради подвига… Тогда каковы итоги? Все говорят о подвиге, а Солженицын – литератор, самое главное, вроде как – попутная тема. (Так, кстати, было и с «Бабьим яром» у Евтушенко, читатель принял поэму как поступок, литература – второе дело, главное – поступок, хотя стихи получились, стихи звучат как набат!)
Шаламов – настоящий гений и по-настоящему несчастный человек. Один из итогов – его письмо? Абзац про кота, многое перечеркнувший.
Александр Исаевич, фонд Солженицына лишил Шаламова помощи, и он умер в сумасшедшем доме… – но разве он, Александр Солженицын, виноват, что Хрущев прочитал «Ивана Денисовича», но не «Колымские рассказы» (Твардовский ни за что на свете не передал бы рукопись Шаламова первому секретарю ЦК, это было бы как несостоявшееся самоубийство)… Разве он, Солженицын, виноват, что его вдруг выдвигают на Ленинскую премию, а Шаламов – вскоре – погибнет в психушке?
Наталья Дмитриевна раскрыла окно:
– Обед! Саша! Обед!
У Александра Исаевича был железный режим, лагерный.
Ветер завыл еще сильнее, просто взбесился. Страничка в блокноте, заложенная огрызком карандаша, осталась совершенно чистой.
Открыв дверь, он долго, по-крестьянски, вытирал ноги.
– Из Москвы звонил некто Полторанин, – доложила Наташа, – новый… у них там… начальник.
– И… что хочет… господин? – Александр Исаевич бережно положил шапку на полку и повесил шубу. – Зачем… звонил?
– Хочет, чтоб мы скорее возвращались в Россию, если одним словом.
– Ишь ты…
– Говорит, Ельцин просит. Все в силе. Все, о чем говорили летом.
– Вон как…
– Сегодня пельмени.
– Вот и благо…
У него был особый язык, чисто русский, с мелодией…
Александр Исаевич прошел к столу – чинно, не спеша. Все, как всегда: огромные напольные часы отбили два тридцать дня.
Часы русские, со звоном, видно купеческие, старые…
Да, да: дурацкая, конечно, затея, вредная – поселиться в Штатах; если не Норвегия, лучше всего, конечно, была бы Финляндия. Но Урхо Калева Кекконен, Президент республики, был платным агентом советской госбезопасности, то есть корни – заложены… и какие! КГБ там всюду (так информировали американцы). Урхо Кекконен и Индира Ганди – самый большой успех КГБ в нелегком деле вербовки платных (лучше бесплатных, конечно) «агентов влияния», хотя Индира Ганди (богатейшая женщина, между прочим) стоила Советскому Союзу двести тысяч долларов в квартал. (В КГБ плановое ведение хозяйства, поквартальное!) СССР не жалел денег на шпионаж – знатоки-американцы предупреждали Александра Исаевича, что бюджет внешней разведки в Советах (только разведки) намного больше, скажем, чем все государственные расходы на межконтинентальные ракеты, хотя любая ракета в СССР – ручной сборки, разумеется…
Солженицын не верил Ельцину, чувствовал в нем заложенную подлость.
Он так и жил все последние годы – с ощущением личной катастрофы.
Ельцин звонил в Вермонт в прошлом году: Солженицын сорок минут объяснял ему, что демократия в России (если все и дальше так пойдет) мгновенно себя исчерпает; Ельцин слушал вполуха, вяло повторял, что Россия ждет «великого сына» домой, и – зевал, это было слышно даже через океан… да-да, именно так – зевал…
Обед Александра Исаевича на обед не похож, привычка есть мало: куцый салатик и шесть пельменей в бульоне, зато на десерт – черный чай с мороженым.
Дьявол, похоже, задался целью снести Россию под корень, дьявол в России наплодил дьяволят, они в России повсюду, они и сегодня везде…
Александр Исаевич принялся за пельмени – еда деревенская, чистая, он любил все простое, он наслаждался простотой, ел молча, вкусно, собирая ладонью упавшие крошки.
Если он молчал, Наташа тоже молчала, берегла его покой.
– Хорошие пельмени, – Александр Исаевич тщательно вытер салфеткой губы. – Удались на славу. Хорошо бы, знаешь, карасей… раздобыть. И в сметану!
– Какие зимой… караси…
У них уговор: ни слова о работе, о текстах, пока Александр Исаевич – молчит.
Он медленно, степенно встал из-за стола.
– Чай?
– Пришли в кабинет.
– А Полторанин? Если позвонит…
– Суесловие. У них там еще сто раз все переменится… у Полтораниных. Они сами не знают, что сейчас строят… Ни чертежей, ни плана… Такой дом обязательно рухнет. Докатим «Колесо», тогда поедем. Если дом у них… устоит…
Александр Исаевич пошел в кабинет, но вдруг резко обернулся в дверях.
– Пусть пока ждут, короче говоря. Мы вернемся в Россию, только когда придет пора умирать, а умирать нынче – рано, книгу надо закончить.
Он скрылся за дверью.
Полторанин действительно позвонил на следующий день, и Наталья Дмитриевна ответила, что Александр Исаевич очень занят, дописывает «Красное Колесо», поэтому в ближайший год они вряд ли соберутся в Москву, хотя тоска по России адская.
Книга держит.
Полторанин сказал, что Президент создаст Александру Исаевичу все условия для работы.
– Спасибо, – поблагодарила Наталья Дмитриевна и положила трубку.
«Где в Америке найти карасей? – рассуждала она, – вот где?»
Впрочем, рыбу Солженицын не любил, особенно морскую, иное дело пельмени или картошка с салом по-домашнему, хотя сало в Кавендише – тоже проблема, за салом в Канаду надо ехать, к братьям-украинцам.
Спросить о сале можно было бы, конечно, в Москве, самолеты летают каждый день… да и карасей можно послать, заморозить и послать, дело не хитрое, но все это хлопоты, а на хлопоты времени нет, очень много, как всегда, литературной работы…

12
Егорка собрался ехать в Москву с единственной целью – убить Горбачева, если повезет – то и Ельцина. Но сначала Горбачева, в Ачинске его не любили больше всех.
На билет собирали тремя дворами. Своих денег у Егорки не было, да и при чем тут, спрашивается, свои деньги – дело-то государственное, народное…
Олеша насмешничал: с такой-то рожей – и в Москву! Нет, Егорка твердо-твердо знал: хошь спасти завод от назаровских – убирай Горбачева и Ельцина, иначе будет одно предательство. А если к власти придет нормальный человек, он быстро рассует кооператоров по тюрьмам, сделает нормальные цены и жизнь окажется в радость.
– Водка бу как при Брежневе, – доказывал Егорка. – Ты понимаешь?
Олеша не верил.
– Поздно! Нищие мы. Это все Ленин изгадил. А потому правители в России – противо народу. Был бы Ленин честный – залез бы на броневик… так, мол, и так, господа хорошие, сам я, видите, не здешний, из-за границ явилси, порядков ваших не знаю, живу в шалаше…
Олеша иногда читал «Комсомольскую правду».
Красноярье – центр России; земли отсюда поровну что до Бреста, что до Магадана – три с лишним тысячи верст…
Егорка знал: если он, Егор Решетников, не спасет комбинат от назаровских, его никто не спасет, завалится предприятие. И Ачинск погибнет, всем тогда уезжать. А куда уезжать-то?..
Велика Россия, но отступать некуда, кому в России чужие нужны?
Горбачев – врал, Ельцин – стал врать. Что он когда по Москве пешком бродил, народу руки жал, он что, сказал кому-нибудь, какие при ем цены в магазинах будут?
Теперь шпана разная заводы покупает – назаровские, блин! Тюрьма по ним плачет, а Ельцин их в люди выводит! Или, мож, они и с ним делятся – а?
Нет, грохнуть их всех – праздник будет! Город вздохнет. Напарник нужен, а его вот и нет, как раз, вдвоем-то веселее поди, это ж ясно…
Егорка решил серьезно посоветоваться с Олешей и пригласил Борис Борисыча – самого умного в Ачинске мужика.
Беседовать в квартире было как-то глупо, Егорка боялся прослушки, есть такие устройства, в кино показывали. А дело это особое, тонкое, без пол-литры не разберешься, но и пить, конечно, надо с умом. Если в «Огнях Сибири» – никаких денег не хватит, там цены – о! Поэтому Егорка выбрал фабрику-кухню (при комбинате), хотя на фабрике-кухне он обычно не пил, брезговал. Горячее здесь давали аж до девяти, правда, пельмени исчезали где-то к семи вечера и оставалась только тушеная капуста.
Водку народ приносил с собой. Если не хватало, тетя Нина, хозяйка, давала в долг, причем по-божески, но – с учетом инфляции.
Перед тем, как войти на фабрику-кухню и подняться (к родным алконавтам) на второй этаж, Егорка долго кружил по улицам, боялся «хвоста».
– На отелю тебе скинемси, – уверял Борис Борисыч, – Москва деньгу любит, факт, так шо скинемси. Но условие: сначала Горбачев должон мне мое отдать – понял? Деньгу мою.
– Так у него, поди, при себе-то не бу, – засомневался Олеша.
В главных вопросах он всегда был честен.
– Бу не бу – че за чемор?.. – отрезал Борис Борисыч. – Слышь, Алексей, он его стукнет, – Борис Борисыч кивнул на Егорку, – а я ж с кого тогда долг получу? Он мне знашь скока должен?
– Скоко? – заинтересовался Егорка.
– До хера, во скоко!
Первый стакан входил эффектно, как язычок пламени. Чтобы жар в горле не исчезал, нужно быстро принять второй, тогда пожар идет уже по всему телу, а это – утешение!
Борис Борисыч нагнулся к Егорке:
– Горбатый, сука, должен мне тридцать шесть ведер – п-понял? Я нормально считаю, по двадцать пять, не какие-нибудь там… тыры-пыры…
Борис Борисыч медленно, степенно выпил стакан до дна.
– А в ведрах шо ж? – не понял Олеша.
Он пьянел очень быстро и получить настоящий кайф уже не мог – отключался.
– Э-а! – Борис Борисыч попытался было встать, но у него это уже не получилось. – Я как считаю?! Я честно считаю! М-мне чужого… – бля, не в-возьму!
Борис Борисыч сунул руку за ватник и выхватил листочек школьной тетрадки.
– Тут все по справедливости… – смотрите!
Его руки тряслись, в глазах появилась кровь:
– При Леониде Ильиче… бывают, бл, в жизни шутки, сказал петух, слезая с утки… я покупал на зарплату пятьдесят семь водок… – помнишь, «Русская» была… с красной по белому на этикетке… вот! Знача, смотрим: должность мне не прибавили, денег тоже… тады ж па-а-чему, скажи, я ноне с получки могу взять токмо четырнадцать бутылей – а? И все! Точка! Во шо эта сука сделала!
Пятьдесят семь м… м-минус че-ты – тырнадцать… – Борис Борисыч задрожал, – чистый убыток – сорок бутылей с гаком!.. Н-ну не сука, а? Сорок с гаком каждый месяц, – это ж диверсия! Он же… он – терминатор, бл, он враг народа, потому как с-считаем: он в марте явился, восемьдесят пятый, я проверял. Нн-ноне шо? нояб девянос-второй. Знача, кажный год… недостача в семье… п-пятьсот… пятьсот семнадцать пузырей… вот шо эта сука устроила, во как над русским народом, знача, измыватся, да его б… да я…
Борис Борисыч задыхался.
– Скока он при власти был? Шесть лет!.. Выходит… тридцать шесть ведер по двадцать пять литров кажное – море, море ушло… это, бл, не п-преступление?!
Олеша, силившийся хоть что-то понять, вдруг вскрикнул, откинул стул и пошел куда-то (неизвестно куда), задевая столики.
– Налей… – тихо попросил Борис Борисыч. Вокруг гудела, лениво переругивалась столовая, грязные пьяные слова и словечки повисали в воздухе, цепляясь за клубы табачного дыма. Трезвых здесь не было.
– Налей! – повторил Борис Борисыч, – горит же все…
На халяву – и уксус сладкий…
Егорка налил стакан, пододвинул его к Борис Борисычу, но сам пить не стал.
– Зачем Горбачев нас… так… а, Борисыч? Да и Ельцин, бл!
– Жизни нашей не знают. Потому все.
Он поднял стакан и тут же, не раздумывая, кинул водку в рот. Не пролилось ни капли – а еще говорят, русские не умеют пить!
– Перестарались они… – подытожил Борис Борисыч. – Ум за разум… короче, памха б его побрала…
Если уж пить, так по-настоящему, чтоб захлебываться: водку вроде как водкой и закусываешь.
Егорка вроде бы о чем-то пьяно думал, но сам не понимал о чем.
– Горбачев-то… прячется поди… – изрыгнул, наконец, Борис Борисыч.
Разговор не получался.
Есть все-таки в водке огромный недостаток: люди от вина пьянеют медленно, красиво, а водка, сволочь, может подвести: подрубает сразу, ударом, под дых.
А когда он получится, этот удар, – ба-альшой вопрос. Глаза Борис Борисыча налились чем-то похожим на кровь, но больше от обиды: русский человек ужасно не любит, если его, не дай бог, считают дураком.
Егорка взял котлеты с пюре, но к котлетам даже не притронулся.
– Прячется, точно… С-сука потому что.
Борис Борисыч отяжелел, голова клонилась к столу, но он упрямо откидывал голову назад, будто боролся со сном.
– Ты… Егорий… м-ме-ня… да? – вдруг крикнул Борис Борисыч.
– Уважаю, – кивнул головой Егорка.
– Тогда… брось это дело, понял? Никто нас не защитит!
– Почему?
– Человека нет… – Борис Борисыч ронял голову на стол.
– А кто же нужон? – удивился Егорка.
– Сталин. Такой, как он… – п-пон-нял? Он забижал, потому что грузин, но забижал-то тех, кто нужон ему был, а таки, как мы, жили ж как люди!
А сча мы – не люди… Кончились мы… как люди… – понял? Говно мы. Выиграт в Роси-рос-сии… – Борис Борисыч старательно выговаривал каждое слово, – выиграет в Рос-сы-и тока тот, кто сразу со-бразит, что Россия… маткин берег, батькин край… – это шабашка, потому что жопа мы, не народ, любой блудяга к нам с лихом заскочит, бутыль выставит, жополизнется – заколотит, сука, на горбах на наших и – фить! Нету его, отвалил, а сами мы… ничего уже не могем… – не страна мы… шабашка…
Борис Борисыч не справился с головой, и она свалилась на стол.
– Они б-боятся нас… – промычал он, – а нас нет!
Через секунду он уже спал. И это был мертвый сон.
Водка врезала и по Егорке: столовая вдруг свалилась куда-то вбок и плыла, плыла, растекаясь в клубах дыма. Тетя Нина достала допотопный, еще с катушками, магнитофон, и в столовую ворвался старый голос Вадима Козина, магаданские записи:
Магадан, Магадан, чудный город на севере дальнем,
Магадан, Магадан, ты счастье мое – Магадан…
Как Магадан может быть счастьем?.. Как?..
Егорка схватил стакан, быстро, без удовольствия допил его и пододвинул к себе холодную котлету.
– Ты что, Нинок, котлеты на моче стряпаешь? – заорал кто-то из зала.
Тетя Нина широко, по-доброму улыбнулась:
– Не хошь – не жри!..
– Деньги вертай! – не унимался кто-то.
– Манушку покажь! Нинка! Покажь!..
– Ну ты, бля… – удивилась тетя Нина. – Не дож-ждесси!
– Покажь… покажь потроха…
– Во, нахрап… – добродушно удивилась она…
Сквозь полудрему Егорке почудилось, что рядом с ним кто-то плачет.
Он не сразу узнал Олешу: его физиономия разбухла, Олеша не мог говорить, только тыкал в Егорку листом бумаги.
– Че? – не понял Егорка. – Че с тобой?
– Ты… че? А ниче! – взвизгнул Олеша. – Тридцать два ведра… – п-понял? Тридцать два ведра!
Борис Борисыч, удачно сложившийся пополам, вдруг рыгнул и упал на пол. Олеша рухнул рядом с Борис Борисычем и вцепился в него обеими руками:
– Тридцать два ведра – слышь… слышь!.. Тридцать два ведра!..
Борис Борисыч не слышал. Его башка послушно крутилась в Олешиных руках и тут же падала обратно на пол.
– Суки, с-суки, с-с-суки! – вопил Олеша.
Егорка встал и медленно по стенке пошел к выходу. Дойдя до двери, он оглянулся назад: Олеша попытался встать, но вдруг завыл по-звериному…
Было в этом крике что-то чудовищное, словно у человека взорвалось все нутро, рот перекосился, разорван… – как у Лаокоона, только у Лаокоона, видать, были благородные страдания, а здесь нутряные, русские…
Егорка передумал ехать в Москву в понедельник, но от идеи своей – не отказался.









































