Текст книги "Святые и дурачок"
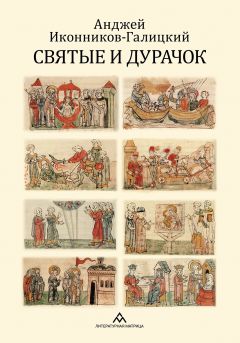
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Библиотека, к которой путь лежал по длинному, как борода Менделеева, и людному, как вокзальный перрон, коридору главного университетского здания – Двенадцати коллегий.
Я не был ни студентом, ни сотрудником университета и не имел права пользоваться библиотекой. Но там работала Ирина.
С Ириной мы тоже познакомились в ЛИТО. Она была по паспорту Инна. И крестилась в той же церкви Димитрия Солунского в Коломягах, где я первый раз причастился, и в том же 1982 году. А так как имя Инна вообще-то мужское, то батюшка посоветовал ей в крещении принять другое – например Ирина, что значит «мир». Так и совершилось. Она работала в университетской библиотеке вместе с целым сонмом милейших девиц, и все охотно брали на свой абонемент и выносили мне книги, которые иначе достать было очень сложно, а то и невозможно. Иногда даже из спецхрана. (Опять исчезнувшие реалии прошлого: спецхран – это книги и прочие материалы, неподходящие для советской власти, которые, однако, нельзя было уничтожить, но и обыкновенному читателю давать тоже нельзя. Чтобы пользоваться спецхраном, нужно было получить сложносочинённое разрешение, завизированное в КГБ. Но из библиотекарей кто-то имел туда доступ. И если это был свой человек, то мог доставить книжку-другую до столика в читальном зале.) Вот мне выносили заветные издания, и в тишине читального зала приходили ко мне удивительные собеседники. Василий Великий растолковывает книгу Бытия. Иоанн Кронштадтский негодует на лжеучение графа Толстого. Владимир Соловьёв что-то странное влагает в уши по поводу смысла любви. Профессор Болотов водит перстом по свиткам вселенских соборов. А Аммиан Марцеллин, язычник, расхваливает христоборца императора Юлиана…
Вот ещё книга в дореволюционном переплёте с цветными разводами. Тоненькая. На контртитуле (если правильно помню) – иконный лик: пожилой седобородый человек в чём-то тёмном типа плаща; в одной руке держит свиток, другой благословляет. Скоро мы увидим его поближе…
Но – время! Собеседники расходятся. Книги, будь любезен, сдай – и ступай на улицу, где совершенно другая жизнь, шумная, бестолковая, опасная и местами очень заманчивая. Институт, в котором надо учиться. Комсомол, из которого никак не выйти. День рождения однокурсника, где требуется напиться и начать приставать к какой-нибудь проказнице. И вообще девушки. И ЛИТО. И выступления на поэтических сценах и сценочках – этим выступлениям девушки рады, и готовы за них вознаградить…
Две дорожки бегут, увиваясь, одна вокруг другой, и надобно идти по обеим. Хоть это и страх как неудобно.
Хочется быть святым и чтобы при том ласкаемым славой и красавицами.
«Человек с двоящимися мыслями нетвёрд во всех путях своих», – заверяет апостол Иаков.
Нерешённость задач и беспокойная совесть рождают сны.
Как-то раз мне приснился такой сон.
Я спешу по коридору, тёмному и очень длинному, вроде Двенадцати коллегий. И тоска – прямо как птица с когтями – сидит на мне: что я ничего не знаю, что мне ничего не дано, Свет от меня скрывается, и я люблю Его, а все врут, что нет Его… И в общем кругом ничто и я – никто. И на бегу мне страшно, потому что коридор тёмный и сводчатый, как подземная тюрьма… А впереди всё темнее, и от этого становится ещё страшнее, и приходится быстрее бежать, и я начинаю задыхаться, и… И вот выбегаю из галереи. Передо мной горы, жёлтые и сухие, как бы из песка. По горе вверх уходит лестница из ярких камней: внизу достроена, а верх ещё строится. И вдоль неё стоят и строят её строители… И они вроде бы ангелы.
А внизу на ступеньках сидят и играют трое детей: один – прямо, лицом ко мне, другой – справа вполоборота, третий – слева вполоборота. А ниже двумя ступенями и чуть слева стоит женщина молодая – мать. А справа – кто-то в тёмной одежде. В руках у того ребёночка, что посередине, – круглая коробка, а в ней булавки стоят стоймя, будто какие цветы (астры или гвоздички) с розовыми головками и ломаные, как молнии.
И тут я понимаю, что мне необходимо сделать.
Я подхожу к детям, опускаюсь почти на колени, обращаюсь к среднему, тому, который лицом ко мне, и говорю с ним о чём-то шутейном, как говорят с детьми.
– Какие у тебя чудные булавки!
Он доволен и улыбается мне, а я чувствую прямо-таки любовь к нему, и становится легко: такая какая-то радость. И говорю:
– Вот бы мне хоть одну такую!
Это я говорю с тоской и надеждой. Но он хитровато улыбается (видно, что доволен). Тогда тот, который справа, вынимает одну булавку из коробочки и подаёт её мне, как цветок, – и все дети, и их мать, и я, и ангелы, и человек справа – все мы рады и смеёмся. И становится так хорошо, что – просыпаюсь…
Но не совсем, а переношусь в другой сон, где хожу вдоль прилавка в магазине и пытаюсь понять, что же едят голодные и нищие, у кого нет денег, чтобы мне самому поесть этого.
А как-то приснился ещё такой сон. Я – это я и в то же время голубь, птица. Хожу по травке в саду и клюю рассыпанное вокруг зерно. И мне говорит кто-то, кого я не вижу… Но узнаю этот голос:
– Зачем ты Меня оставил? Разве Я не кормил тебя? Не защищал тебя? Чего ты боишься?
И вижу – не вижу, скорее ощущаю, – над собой лицо, лик…
…Просыпался, удивлялся, пытался понять, а потом завтракал и выходил во внешний мир: прогуливая очередные лекции, вливался в университетский коридор, двигался подобно электрону среди множества разнонаправленных заряженных и нейтральных частиц к своему центру притяжения – библиотеке. В разношёрстной и разновозрастной толпе встречал знакомые лица. Вон пробежал стихопишущий однокурсник Маши Трофимчик… Вот вальяжно шагает с сигарой в руке знаменитый профессор Быкогоненко… Вот прямо навстречу идёт набожная девушка, участница курикаловских семинаров…
А это? Странно: как будто в людских вихрях, между тенями студентов и профессоров явился худенький пожилой человек в поношенной чёрной одежонке… Исчез – и снова неуловимо явился, посмотрел в меня глубокими сероватыми глазами, улыбнулся… С седой бородой, и рука благословляет…
И скрылся за дверью библиотеки.
Я иду туда читать высвобожденное из спецхрана «Житие Сергия Радонежского».
Тайна заплатанной рясы
«Житие Сергия Радонежского» было написано вскоре после его смерти великим книжником и агиографом Епифанием Премудрым, затем, лет через тридцать, переработано другим книжником, Пахомием Логофетом. Позднее оно дополнялось, редактировалось и дошло до нас во множестве версий. Тем не менее сквозь все позднейшие переделки и наслоения во многих местах проступает первоначальный текст.

Самое раннее сохранившееся изображение Сергия Радонежского: шитый покров раки преподобного 1420-е годы
Епифаний жил в Сергиевом Троицком монастыре, был учеником игумена-основателя, многое слышал от него самого, многое – от его сподвижников. «Имѣях же у себѣ за 20 лѣтъ приготованы таковаго списаниа свитки, в нихже бѣаху написаны нѣкыя главизны еже о житии старцевѣ памяти ради… И обрѣтох нѣкыя старца премудры въ отвѣтех, разсудны и разумны, и вопросих я о нем»[21]21
Здесь и далее «Житие Сергия Радонежского» цит. по: Житие Сергия Радонежского // Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. Т. 6. СПб., 1999. Электронная версия. – URL http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4880.
[Закрыть].
При этом, однако, Епифаний не особенно озабочивался вопросами хронологии, что затрудняет историческую реконструкцию биографии святого.
В частности, неизвестным остаётся время его рождения. По Епифанию, преподобный родился в годы правления императора Андроника, при патриархе Константинополя Каллисте, в княжение великого князя тверского Димитрия Михайловича, при митрополите всея Руси Петре, когда приходило войско Ахмыла. Как интерпретировать эту сложную формулу? Два императора по имени Андроник царствовали в Константинополе на протяжении – ни много ни мало – шестидесяти лет (с 1282 по 1341 год). Митрополит Пётр возглавлял Русскую церковь с 1308 по 1326 год. Тверской князь Димитрий Грозные Очи владел великим княжением Владимирским в 1322–1326 годах. Каллист вообще попал сюда по ошибке, так как патриаршествовал через десятилетия после смерти всех прочих упомянутых персонажей. Что касается Ахмыла, то этот представитель грозного хана Узбека побывал на Руси, согласно летописям, дважды: в 1318 и 1322 году. Из совмещения Епифаниевых данных получается, что наиболее вероятный год рождения будущего святого – 1322. Однако если принять указанный в Пахомиевой редакции возраст Сергия – семьдесят восемь лет на момент смерти в 1392 году, – то его появление на свет следует приурочить к 1314 году. Вообще же, в научной литературе существуют с полдюжины по-разному обоснованных дат рождения преподобного.
Тут мы вынуждены остановиться и сказать (в который уже раз): любознательность наша запуталась в сети времени.
Раньше ли, позже ли в некоем селе близ Ростова в семье боярина Кирилла и его жены Марии родился мальчик, и был назван Варфоломеем.
Боярин в те времена – старший командир в княжеской дружине и ближний советник князя, человек уважаемый и обеспеченный, владелец людей и земель. Кирилл, как весь род его, служил князьям Ростовским. Но вскоре после рождения Варфоломея случились в Русской земле передряги и перемены, для одних славные, для других болезненные. Мы называем их возвышением Москвы и началом объединения Руси под властью московских князей. Современникам этот процесс приносил более неприятностей, нежели радостей. Стремясь держать в узде своего зятя, ростовского князя Константина, Иван Данилович Калита, князь Московский и великий князь Владимирский, начал потихоньку отбирать у ростовских бояр их земли. Кирилл лишился своих владений, вынужден был перейти на службу к московскому князю (конечно, ниже чином, чем коренные московские бояре) и переселиться в Радонеж, поближе к Москве. В его семье к этому времени было три сына: старший Стефан, средний Варфоломей и младший Пётр. Всем им полагалось наследство, а Кирилл, по словам Епифания, «напослѣд на старость обнища и оскудѣ». Возможно, это печальное обстоятельство способствовало определению в семье жизненных приоритетов: собирать не земные сокровища, а небесные. Стефан впоследствии, овдовев, примет монашество и станет сподвижником (иногда – соперником) своего младшего брата.
Как совершился духовный выбор в душе Варфоломея, мы не знаем. Житийное повествование предлагает идеальную схему: избранничество от рождения, и даже до рождения (из материнского чрева трижды подал глас во время литургии – не отрицая, отнесём этот сюжет к области легенд). Во всяком случае, обретение пути произошло рано – в детстве. И это был выбор не только благочестия, но и книжного учения. А оно поначалу не давалось мальчонке – видимо, по живости его характера. Епифаний передаёт рассказ, очевидно, слышанный от самого Сергия. Посланный отцом искать скот, подросток Варфоломей увидел черноризца, подобного ангелу, на поле под дубом, стоящего и молящегося. Когда чудный старец окончил молитву, он обратился к Варфоломею:
– Да что ищеши, или что хощеши, чадо?
Отрок в ответ:
– Возлюби душа моя паче всего умети грамоту… И ныне зело прискорбна есть душа моя, понеже учюся грамоте и не умею. Ты же, отче святый, помолися за мя к Богу, яко да бых умел грамоту.
Старец помолился ещё, потом дал отроку хлеб, как бы просфору, и сказал:
– Приими сие и снежь, се тебе дается знамение благодати Божиа и разума Святого писаниа… И о грамоте, чадо, не скорби: яко от сего дне дарует ти Господь грамоте умети зело добре, паче братиа твоея и паче сверстник твоих.
Так оно и случилось.
После смерти родителей Варфоломей отказался от своей доли наследства. Вместе с братом, к тому времени вдовцом, Стефаном он избрал путь отшельничества – пустынножительства. Братья поселились в лесу, именуемом Радонежским бором, возле родника, на холме. Там поставили маленькую церковку во имя Святой Троицы. Согласно «Житию» это произошло при митрополите Феогносте, в начале княжения великого князя Симеона Ивановича, то есть в первой половине 1340-х годов. Варфоломей принял монашество с именем Сергий. Брат Стефан вскоре «возскорбел» от лесной жизни и ушёл в Москву, в монастырь Богоявления. Сергий остался в Троицкой пустыньке один.
Когда-то в древние времена первые отшельники уходили ради обуздания плоти и молитвенного уединения в египетские или заиорданские пустыни. Жизнь там – суровее некуда: днём зной, обманные миражи, ночью ледяной холод и дикие звери. В Греции, Каппадокии, Грузии обиталищем пустынножителей стали горные кручи, ущелья, пещеры. Русская пустыня – лес. Трудностей и опасностей тут не меньше (поди переживи зиму!), а уж уединение… И говорить нечего. Досаждают молитвеннику враги бесплотные (бесы) и вполне материальные. «Мнози бо тогда звѣрие часто нахожаху на нь, не тъкмо въ нощи, но и въ дни, – повествует Епифаний, – стада влъковъ, выюще и ревуще, иногда же и медвѣди». Но праведник побеждает: врагов бесплотных – молитвой, а материальных – любовью.
Вот о бесах. Детали (вроде островерхих шапок) указывают на то, что и этот рассказ записан агиографом со слов самого преподобного. «Наченшу ему пѣние, вънезаапу стѣна церковнаа разъступися, и се диаволъ… вниде съ множеством вой бѣсовьскых… Бяху въ одежах и въ шапках литовьскых отстровръхых: и устрѣмишася на блаженнаго… зубы скрегчюще, хотяще убити его».
Не отсюда ли взял Гоголь мотивы для «Вия»? Но в отличие от греховодника Хомы Сергий устоял в молитве – и страшное воинство исчезло как и не бывало.
А вот о звере: сюжет, многократно варьируемый в житийной традиции, однако до того простодушно-детский, что не поверит ему только тот, кто никогда не был дитятей. Медведь повадился приходить к жилищу монаха. Зверь один – и Сергий один. Представьте себя в лесной избёнке, а за стенкой похаживает да посапывает этакая зверушка! Страшно? И Сергию было страшно. Но чем победить страх? Только любовью, как уже было сказано. А любишь – голодного накорми. «Се же видѣвъ преподобный, яко не злобы ради приходить к нему звѣрь, но паче да возмет от брашна мало нѣчто в пищу себѣ, и изношаше ему от хижа своея малъ укрух хлѣба и полагаше ему или на пень, или на колоду, яко да пришед по обычаю звѣрь, и яко готову себѣ обрѣт пищу; и възем усты своими и отхожаше…» И если уж бедовать, то вместе. «Аще ли прилучашеся единому обрѣстися укруху, то нужа бысть преподобному и то предѣлити на двѣ части, да едину убо себѣ оставитъ, а другую звѣреви оному предложить».
Епифаний добавляет, что вся пища Сергия – хлеб и вода родниковая, да и хлеб не на всякий день оказывался. Преподобный предпочитает сам голодать, нежели обмануть зверя.
Года два провёл Сергий в чащобном уединении, общаясь со зверьми лесными. Но слухами земля полнится, и вокруг мало-помалу стали селиться последователи. Епифаний называет поимённо троих первопоселенцев: от верховий Дубны пришёл Василий Сухой; за ним – Яков Якут и Онисим, сродник Сергия. Образовалась маленькая монашеская община, монастырёк: рубленая церковь, дюжина избушек-келий, невысокая ограда. Сам Сергий ещё долгое время оставался в Троицком монастыре простым монахом, днём трудился, по словам Епифания, «как купленный раб», колол дрова, носил воду, молол зерно, тачал сапоги, ночи проводил в молитвенном бдении. По настоянию братии он, в конце концов, согласился стать игуменом. Согласно «Житию» это произошло тогда, когда митрополит Алексий находился в Константинополе, то есть, вероятнее всего, в начале 1354 года[22]22
О митрополите Алексии подробнее – в дополнении, в разделе «Святители. Начало».
[Закрыть]. Но и после того оставался тружеником и молитвенником, считал себя для братии не начальником, а слугой. К Святой Троице уже стекались богомольцы из ближних княжеств, да и из дальней Руси. О чистой жизни братии и о светлом настоятеле рассказы летали по улицам и хоромам Москвы, Ростова, Твери, Нижнего Новгорода. Стали появляться со свитами своими князья – испросить благословения у игумена Сергия, да и посоветоваться. Хитроумный Димитрий Константинович Суздальский, осторожный Константин Васильевич Ростовский, самовластный Димитрий Иванович Московский… Заметьте: не он к ним, а они к нему… А игумен, как и прежде, ходит в ветхой заштопанной рясе, носит воду, колет дрова, ест из деревянной миски и даже в храме избегает золота и дорогих украшений.
Вот представим себе такую сцену из «Жития».
Монастырёк на пригорке среди леса: ограда-частокол, разбросанные хижины; подальше – бревенчатая церковь. Прямо перед нами невысокий деревянный забор, за ним – грядки. Летняя полуденная жара. Сквозь щелистый заборчик видно плохо, но всё же мы различаем худощавую тёмную фигуру: человек копает грядку. Вокруг не совсем безлюдно: то один из братии, то другой пересекает пространство торопливой походкой. На тропинке, протянувшейся с нашей стороны, от ворот, мы видим устало ползущую небольшую тень, за которой следует фигура в запылённой дорожной одежде. Фигура останавливается в некоторой растерянности, озирается вокруг – кого-то ищет. Потоптавшись, обращается к поспешающему монаху:
– Благослови, отче.
– Бог благословит.
– Отче, прости, не откажи в совете: а вот как бы мне увидеть игумена? Отец игумен, говорят, у вас дивный, и разумения великого, и… и… Вот бы мне хоть на него посмотреть: неделю шёл, лапти стоптал…
– Да вон он, на огороде. Видишь – за забором.
– Ой, спаси Господи, отче, пойду хоть в щёлку гляну.
Паломник наш топает прямо в подзаборный бурьян, поднимается на цыпочки, подпрыгивает, приседает, заглядывает справа и слева – как делает всякий, кому очень хочется разглядеть что-то, а видно плохо. Приникает к щёлке. Отступает. Поворачивается к нам. Растерян.
– Да где игумен-то?
К пробегающему насельнику:
– Игумен-то где?
– Да вон, на огороде.
– Игумен?
– Игумен.
– Вот этот?
– Он.
– Да врёшь ты!
– Пёс врёт. Прости, братец, недосуг мне с тобой.
Черноризец убегает. Паломник, которому некуда выплеснуть своё недоуменное возмущение, обращается к нам.
– Врут, что ли? Не может того быть, чтобы сам игумен. Я пришёл пророка посмотреть! А там сирота, трудник тощий в рваных одёжах… Весь в поту… Руки, верно, в мозолях… Где же сам-то? Прячут они его, что ли?
Растерянно чешет в затылке: как видно, размышляет, поискать ли ему ещё пророка или топать по жаре восвояси.
В сей момент как будто что-то меняется в воздухе. Топот множества копыт. Сцена наполняется неведомо откуда взявшейся разнокалиберной публикой. В толпу врываются всадники и, спешившись, начинают разгонять люд криками и палками. Приятелю нашему достаётся изрядно.
Слышатся голоса:
– Князь! Князь пожаловал!
Расталкиваемые скидывают шапки, некоторые падают на колени.
Верхом на красивом жеребце въезжает персонаж в шёлковой и бархатной одежде, отделанной мехами не по сезону; на его ногах – красные сафьянные сапоги, на голове шапка, поблескивающая золотом; пальцы в перстнях издают самоцветное сияние. Поддерживаемый слугами спешивается. Средних лет, крупный, борода холёная, фигура плотная, взгляд до того суровый, что даже нам, наблюдающим из безопасной дали, становится не по себе.
И вот, не глядя ни на кого, пригасив и потупив взор, шагает к забору. С неожиданной осторожностью приоткрывает калитку. Входит.
Теперь мы видим хорошо: большой огород, человек в рясе – не то чтобы чёрной, а выгоревшей до неопределённо-серого цвета и заплатанной во многих местах. Человек ритмично копает, изредка наклоняясь, чтобы откинуть в сторону камень или траву. Поднимает лицо: оно темнее от загара, чем одежда, и блещет от пота. И из этой блестящей темноты исходит двойной свет лучащихся глаз.
Неторопливо кладёт лопату, утирает лицо и с улыбкой неожиданно быстро идёт навстречу князю. И князь склоняется под благословение, и человек в рясе берёт его за руки и ведёт чуть в сторонку, и они садятся рядком на замшелую скамейку и о чём-то толкуют… Нам не слышно.
Пока беседуют – народ напряжённо безмолвствует. Только любопытные вытягивают шеи и подпрыгивают за спинами впередистоящих.
Наконец, князь встаёт, земно кланяется перед скамейкой, выходит… И преображается в обратном порядке: властно машет слугам, садится на коня и, не глядя вокруг, уезжает; за ним, громко топоча и гикая, уносится свита.
Из толпы, замершей в пластике внимания и как будто не могущей оттаять, выкарабкивается наш знакомец паломник. Мнёт в руках шапку. Обращается к нам:
– Да… Вижу теперь, что это сам троицкий игумен. Только, видать, переодетый…
Растерянно покачивая головой, уходит.
…Князь уехал, любопытные разошлись, а Сергий возьмётся за лопату снова, как будто бы никакой беседы с сильным мира сего не было. Сергий не изменится, и его образ общения с людьми не изменится. Отчего и меняться? К нему пришёл человек, которому трудно, и он, смиренный игумен, чем мог помог ему. Князь ли, раб ли… Ну, у князя забот больше, чем у раба, потому он и нуждается в помощи неотложной…
Ещё, конечно, надо пояснить, кто такой князь в системе отношений тогдашней Руси. Это не только потомок Рюрика и беспощадных варягов. И не только хозяин, чья воля в пределах его владений ничем не ограничена. Это ещё и представитель той власти, которая раскинула крылья от Японского моря до Чёрного – власти Вольного царя, Великого хана, Сына Неба, грознее которой на земле ничего не видно.
Чтобы лучше прочувствовать всё это, представим такое. К нашему дому среди неприметного дня подруливает кортеж. Мигалки, сирены. Сверху вертолёт. Длинная машина останавливается у нашего подъезда. Выскакивают люди в чёрных костюмах, останавливают оторопелых прохожих. Чёрный костюм открывает дверь авто. Оттуда выходит президент. Другой чёрный костюм прокладывает ему путь. Президент входит – и быстрым шагом, кланяясь на ходу, бежит к дворнику, старательно моющему лестницу. И они отходят в сторону, и беседуют в удалении, чтобы никто не слышал: президент взволнованно спрашивает, дворник вдумчиво отвечает. И президент, поклонившись дворнику, уезжает в сопровождении мигалок и вертолётов. А дворник принимается драить лестницу, нисколько не обращая внимания на наши зачарованные взоры.
О смысле невозможного
Или вот ещё сценка: Епифаний рассказывает явно со слов очевидца:
– Случалось, не доставало в снедь хлеба и муки; а то даже и вина, чтобы обедню служити… Как-то раз не бысть ни хлеба, ни и соли у игумена, и в монастыре истощилось всякое брашно…
Тот же пейзаж с оградой, избушками и церковью. Только вместо бодрого движения – безлюдье и странная, неуютная, голодная тишина.
Скрип двери. Из низенькой, чисто обтёсанной избушки-кельи справа выходит знакомый нам человек в поношенной ряске. Он деловито обходит и оглядывает затихшее пространство. Нас сразу что-то удивляет в нём… Ах, вот что! Необычное сочетание: быстрая лёгкость движений и удивительная цельность лица, сосредоточенность взгляда. В руке – топор.
Подходит к одной из избушек слева.
Сергий. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Данило, слышишь ли?
Голос из келейки. Аминь. Помилуй, Господи!
Дверца отворяется. Появляется невысокий худой монах.
Сергий. Прости, отче, и благослови.
Данило. Бог благословит. И ты меня.
Сергий. Бог благословит. Христос посреде нас. (Обмениваются целованием.) Слышал я, старче, яко хочеши ты сени поставить перед кельей. Вот я и пришел, чтоб рукам моим не быть праздными. Давай построю.
Данило. Ох! Да… Зело хочу и давно собираюсь. Да вот жду плотников из села… (Данило мнётся.)
Сергий. Ты не сомневайся, я сумею. Может, и не хуже плотников.
Данило. А ты… С тобой-то договариваться боюсь… Много запросишь. А?
Сергий. Да что, очень много-то не буду… А вот нет ли у тебя хлебца такого, плесневелого? Очень уж хочется мне поесть такого хлебца.
Данило смотрит на ветхую ряску собеседника, потом на брёвна своего крыльца. Молча уходит, через минуту возвращается. В руке – решето, в нём хлебные корки и огрызки, отдающие зелёно-серым плесеневым цветом.
Данило. Ну, если такого восхотелось, то вот, бери; а больше ничего у меня нету.
Игумен радостно встряхивается, как птица, собирающаяся взлететь.
Сергий. Довольно, довольно, и боле, чем надо. Только припрячь пока – до повечерия, до девятого часа. А то я прежде работы платы не беру. (Втыкает топор в ступень крыльца.) Спаси тебя Господи, отче, вот побегу, посмотрю, лесины есть ли, а там начну…
Бегучей походкой уходит вглубь пространства. Данило некоторое время смотрит ему вслед, потом уходит в келью и закрывает дверь. Тишина.
Пора, наконец, задать вопрос, который, наверное, давно повис в сознании пытливого читателя.
Зачем всё это?
Почему благополучный в общем-то человек уходит из обжитого мира – конечно, полного проблем, но такого, в котором можно худо-бедно устроиться – в пространство невозможности: в пустыню, в горную пещеру, в лес?
Однажды я побывал в египетской Аравийской пустыне, той, в которую давным-давно, более шестнадцати столетий назад, ушли жить основоположники монашества Павел Фивейский и Антоний Великий. Что такое эта пустыня? Место, где ничего нет. Вообще ничего. Кроме голого камня, песка, обжигающе-слепяще-свирепого солнца днём и ледяных ветров по ночам. Ну ещё ящерки, змейки, странные насекомые, ночные хищники и ничтожное количество несъедобной растительности. Как тут жить? Никак. А Антоний, благополучный юноша из обеспеченной семьи, уходит сюда, бросив родных, друзей, обустроенный быт, перспективы… И Павел. И Макарий. И Пахомий… Почему? Зачем?
Русский лес – непролазные дебри, болота, ненасытные комар да мошка, волки да медведи, а зимой – снега по плечи, вышибающий слезу мороз, от которого треск стоит по лесу, как в небольшом пехотном бою… Как тут жить? Общиной, деревней, поневоле ещё как-то можно, и это будет беспросветный труд и борьба за существование.
А в одиночку? Своею волею?
Варфоломей, Кириллов сын, до ухода в лесное инобытие отнюдь не принадлежал к сонму обездоленных неудачников. Да, его семья претерпела лишения, но сохраняла приличные связи в верхах общества: покровительство одного из первых московских боярских родов Вельяминовых. Под их началом вполне можно было служить, а значит, и жить достойно. Правда, такая служба не открывала великих перспектив, ибо первенствующие роли в московском обществе были закреплены неписанными законами, которые позднее отольются в чугунно-кружевную систему местничества. Роли эти доступны были исконному московскому боярству или перешедшим на московскую службу русским и литовским князьям, татарским мурзам. Сыну ростовского выходца не суждено было стать ближним боярином или просто влиятельным на Москве человеком. Быть может, это обстоятельство подтолкнуло Варфоломеева брата Стефана к принятию монашества. Быть может, именно поэтому Стефан не ужился в лесной пустыни и ушёл в городской монастырь. И там совершил восхождение по социальной лестнице: сослужил Алексию, будущему митрополиту, вошёл в высший круг московского общества, сделался духовником великокняжеской семьи…
Да, такое вот монашеское служение – в статусном монастыре, на виду у князя и митрополита – могло играть роль социального лифта. Ничего плохого в этом нет, ибо служение сие необходимо обществу, и этим путём шли люди, чья святость воссияла великим светом – тот же митрополит Алексий, например.
Но то, что выбирает Варфоломей и осуществляет Сергий – совершенно другое.
Что оно такое? Каков смысл?
Молитвенное уединение, обуздание плоти… Бесспорно. Но для этого (мы знаем на многих примерах) бывает пригодна и обыкновенная комната (келья) в обыкновенном доме (монастыре).
Почему пустыня-то?
Ответа нет. Вернее, ответ – у того, кто прошёл этим путём. У преподобного.
Мы только можем строить догадки.
И вот какая наша догадка.
В жизненном действии Антония, Павла, Пахомия, Макария, Симеона Столпника, Сергия – в симфонии пустынножительства – есть такой мотив. Войти в самые дальние, самые, казалось бы, враждебные человеку ущелья сотворённого Богом мира. Войти, и пройти ими, и освоить, и одухотворить. Чтобы ничего не оставалось в мире не освещённого светом богочеловеческого сотрудничества. Синергии. Обожения.
Там, на краю бытия, правда и ложь являются в своем настоящем виде.
(Не так ли Иисус после крещения, один среди выжженных камней сорок дней не ест и не пьёт – чтобы дойти до края возможного. До границы бытия и небытия. И там, на границе… Но стоп, минуточку. Об этом чуть позже.)
Затем (наша догадка) Бог и сотворил Аравийскую пустыню, чтобы Антоний пришёл в неё, и одухотворил, и привёл за собой сонм последователей, и пустыня, где нет ничего человеческого, наполнилась смыслами, как сад деревьями. Чтобы преподобный сделал то, что до него казалось… да не казалось, а было невозможным.
И лесной ландшафт Восточно-Европейской равнины – медвежьи чащобы, комариные болота, бурелом и непролазные снега – всё это для того, чтобы пришёл Сергий. Подружился с медведем. Поставил церковку. Освоил пространство. Освоить – сделать своим. Что своё у Сергия? Вера, которая есть действие Духа Божия. Освоил – значит одухотворил.
К нему придут первые братья. И тоже примутся осваивать – одухотворять лесное пространство, наполнять его смыслами, коих здесь не было доселе. Увидев их победоносное творчество, потянутся на монастырский пригорок люди разного рода и калибра: паломники, плотники, пахари, князья… И тоже включатся в благодатную работу: освоение – осмысление – одухотворение пространства. И с этого пригорка двинутся в разные стороны, в необжитые, неосвоенные места: сначала ученики Сергия, пустынножители; за ними братия, за ними трудники, воины, земледельцы, описатели, исследователи. И так создастся новое и огромное нечто, которое потом обретёт ретроспективное имя – Россия.
Вот неожиданность: Варфоломей уходил от людского мира, а получилось, что Сергий повёл людей за собой: от унылой повседневности в будущее, то есть в вечность. То есть от смерти к спасению.
Не то, чем казалось. Не уход в сумрачное куда-то, а выход к Свету.
И поношенная выцветшая ряска – на самом деле белые одежды, сияющие как снег, как на земле белильщик выбелить не может.
«Игумен-то, видать, переодетый».
Что ответить искушающему
Всё это из области невозможного.
Иисус Христос сказал: «Всё возможно верующему». Это Он сказал отцу неисцелимо больного подростка, сойдя с горы, где совершилось Преображение. И исцелил.
То есть вера делает невозможное возможным.
Стало быть, кто говорит: «Это невозможно»; «Это – вам не дано»; «Этого не будет никогда»; «Сидите где сидите!»
Это говорит нуль веры, диавол – контрабандист небытия.
И вот он говорит (там, в пустыне):
– Ты не можешь не есть. Это невозможно. Ты ограничен своей физической природой. Я дам тебе есть, только поклонись мне – признай, что я прав.
– Ты не можешь верить Богу до конца, потому что в твоём нутре лежит змеёныш и шипит: «Бога нет!» Поэтому ты непременно будешь искушать и потребуешь чуда, шагнёшь с крыла храма.
– Ты не можешь преодолеть тяготение мира сего, то бишь социума, социальных ролей, сотворённых, между прочим, никаким не Богом, а подобными тебе людьми. Ты непременно захочешь стать на высшей точке, потому что всякий стоящий ниже – унижен и лишён свободы. Поклонись мне, и я дам тебе все царства земные…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































