Текст книги "Святые и дурачок"
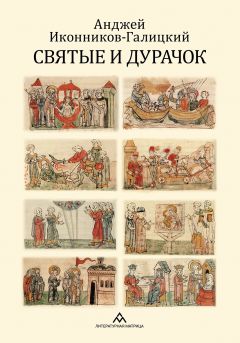
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Что ответил на это Иисус Христос – читай в Евангелиях Матфея и Луки. Отметим, что евангелисты могли узнать ответ только от апостолов, а те – от Самого Учителя, ибо свидетелей не было. Он рассказал, чтобы передать в будущее. Значит, Учитель, Который знал всё, знал заранее, что Антоний, Павел, Макарий, Пахомий, Симеон, Сергий пойдут тем же путём в пустыню. И на том краю встретят того же собеседника с теми же речами.
Они ответят пустоте не словами, а делом-чудом.
Говорите, человек – вечно дрожащая от страха, вечно несытая тварь, которая в голодный час продаст душу за кусок хлеба? А мы поделимся последним куском с братом, а то и с братом меньшим – медведем.
Человек обманщик и не может до конца ни во что поверить? А мы будем творить непрестанно молитву – непрерывным усилием повернём душу к Богу.
Человеку не вырваться из дьявольских оков мира сего – зло-действенной власти и греховной несвободы? Мы доброй волей и чистой совестью откажемся от мест в общественной иерархии, от всякой, даже самой маленькой капли власти.
В пустыне какая власть?
Одно из чудес, сотворённых Сергием, – отказ от власти.
От игуменства он отказывался неоднократно, даже один раз сбежал или, говоря житийным языком, тайно ушёл из монастыря. Согласно «Житию» этот уход был вызван «неподобающими словами» брата Стефана. Суть конфликта нам не вполне ясна; по-видимому, Стефан в тот момент, не поладив с московским начальством, вернулся в Троицкую обитель и на правах старшего брата попытался возглавить её. Сергий, уклоняясь от противоборства, предпочёл тихо уйти – снова отшельнически, в лесные дебри на реке Киржач. Там повторилось всё сначала: строительство церкви (во имя Благовещения), появление учеников, образование монастыря… Но и троицкая братия не смогла устроиться без Сергия. После долгих уговоров, после вмешательства митрополита Алексия пришлось вернуться. Троицкий монастырь близ дороги, соединяющей Москву с Переславлем, Ростовом и Ярославлем, слишком оказался нужен русской церкви и Московскому государству, чтобы доверить управление им кому-либо другому. Сергий понял это и принял снова игуменство как волю Божью. Не хочу, но должен.
Однако главное искушение властью явилось, когда троицкого игумена позвали на митрополию.
Для того чтобы не принять митрополичий посох, Сергию пришлось тяжело заболеть.
Надо сказать, что в последние годы жизни митрополита Алексия ситуация вокруг Москвы напоминала узел из огнепроводных шнуров, подожжённых одновременно со всех сторон. Кровавая смута в Орде («Великая замятня» русских летописей) полыхала уже почти два десятилетия и всё неумолимее втягивала в пламя русские земли. Бурная, из кризиса в кризис, предсмертная болезнь имперского Константинополя проявлялась резкими поворотами политики патриархии. Захватнические инициативы Литвы сопровождались метаниями её правящей элиты между язычеством, православием и латинством. Стремительно растущие амбиции молодого московского князя Димитрия и его боевитого окружения влекли к военным и политическим авантюрам. Другие русские князья, явные и тайные соперники Димитрия, ради сохранения самостоятельности плели коварные интриги с Москвой, Литвой и татарами… После сорока лет мира снова загремели опустошительные рати. И одна только русская церковь должна была удерживать в равновесии взвихренную православную Русь… Притом в самой церкви зрели идейные противоречия, вынашивались авантюрные политические планы… Великим авторитетом и мудростью Алексия был направляем церковный корабль. Но Алексий смертен и стар. Кто сможет заменить его?
Никто, кроме Сергия.
В 1370-х годах Троицкий Сергиев монастырь – уже бесспорный центр духовного объединения православной Руси, его игумен известен всему православному миру. Сергий примиряет враждующих князей. Его благословение служит залогом успеха для любого начинания. Константинопольский патриарх-исихаст Филофей, один из последних великих деятелей Греко-византийской церкви, присылает ему крест, параман (монашеский плат), мантию и в личном послании (неслыханная честь для русского инока) даёт наставления о монашеском общежитии. Ради единения в молитве Сергий вводит в своём монастыре киновию – общежительный устав. (Это – шаг, определивший дальнейшую судьбу русского монашества и его роль в истории земли Русской. Монах отныне не только отшельник, удалившийся от соблазнов мира, но и ратник Божьего воинства, готовый к борьбе за спасение этого мира. Мироустроительная деятельность монашества становится как бы оборотной стороной молитвенного делания.)
Итак, на Руси ни у кого никаких сомнений: преемником Алексия быть Сергию. Решение принято самим митрополитом, одобрено великим князем Димитрием; возможно, даже обсуждено и утверждено прочими князьями на съезде в 1374 году. Обо всём этом митрополит сообщает Сергию, вызвав его для личной беседы. Отказаться невозможно. Но как совместить власть с заштопанной рясой, с первопроходством бытия – маршрутом, избранным давно и бесповоротно?
Сергий заболевает.
«Болезнь бысть тяжка преподобному Сергию игумену… разболеся и на постеле ляже… А всю весну и все лето в болезне велице лежал»[23]23
Полное собрание русских летописей. Т. 11. СПб., 1897. С. 21–22.
[Закрыть]. Так записано в Никоновской летописи под 1375 годом.
Современные историки иногда трактуют сию болезнь как дипломатическую. В каком-то смысле это верно. Тяжкая немощь позволила игумену избавиться от жезла правления, никого не обидев, ничего не предав. Но недуг был, безусловно, настоящий. Лежал преподобный действительно «в болезне велице». Ангел смерти заглянул ему в глаза по-настоящему, не шутя – ибо этот ангел шутить не умеет.
Но Творец истории отмерил Сергию ещё семнадцать лет земного служения. Ангелу смерти было велено отойти. А политическая ситуация за эти полгода изменилась. Из Константинополя на Русь был прислан другой кандидат в митрополиты – Киприан. Заварилась церковная смута – она завершится только со смертью Димитрия Донского, за три года до преставления Сергия. (Об этом кратко – в дополнении про святителей.) Отметим, что между Киприаном и Сергием сложились отношения доверия и взаимной поддержки – свидетельство искренности и бескорыстия обоих: ведь они вольные или невольные соперники. Удивительно: Сергий сохранил такие же дружественные отношения и с Дионисием Суздальским, ещё одним претендентом на митрополию.
Семнадцать лет, трудных и бурных. Кругом война: с Тверью, с Рязанью, с Литвой, с новгородскими ушкуйниками, с Мамаем, а после его гибели – с Тохтамышем. В церкви – нестроения: митрополит Алексий умер в начале 1378 года; в борьбе за овдовевшую кафедру столкнулись четыре претендента: ставленник Константинополя Киприан, протеже Димитрия Михаил, выдвинутый узким кругом духовенства и бояр Пимен, поддержанный монашеством суздальский епископ Дионисий. Все в борьбе со всеми; а когда ищут примирения, то где? У Сергия.
«Блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божиими», – миротворцы, а не борцы за светлое будущее. Но если борьба уже идёт и земля полнится страданием и кровью?
Перед Куликовской битвой Сергий благословил русское воинство и отправил вместе с войском иноков Пересвета и Ослябю. Отношения князя Димитрия Ивановича с троицким игуменом в этот момент были по меньшей мере сложными из-за конфликта вокруг наречения великокняжеского ставленника Михаила (попа Митяя) в митрополиты. Историки спорят о том, ездил ли Димитрий к Сергию перед походом на Куликово поле или не мог этого сделать по причине спешности выступления. Возможно, личной встречи в этот раз не было. Но сам факт благословения войск на войну с Мамаем в 1380 году не вызывает сомнений. Благословение Сергия, возможно, стало главным оружием победы на Куликовом поле, ибо сплотило и воодушевило разношёрстное русское войско.
Однажды, уже, наверно, на склоне жизни, Сергий молился о братии своей и увидел божественный Свет, а в нём «множь-ство птиц зѣло красных, прилѣтѣвших не токмо в монастырь, но и округъ монастыря». И слышал глас, глаголющ:
– Имже образомь видел еси птицы сия, тако умножится стадо ученик твоих и по тебе не оскудеют, аще въсхотят стопам твоим последовати.
Эти птицы из Троицкого монастыря разлетелись по всей Руси. Многие стали основателями новых обителей. Авраамий Чухломской, Пахомий Нерехтский, Павел и Сильвестр Обнорские, Савва Сторожевский, Сергий Нуромский, Кирилл и Ферапонт Белозерские… Это только непосредственные ученики Сергия, его младшие современники. Но и через многие поколения ученичество не прерывалось. Духовные дети Троицкого игумена дошли до Ледовитого океана и до глубин Сибири, создали сотни монастырей, освоили необозримые пространства, на которых стоит Россия.
Получилось, что Сергий стал сотворцом истории. Поставлен на высшую ступень человеческой иерархии, до которой не добрались цари, генералы, министры, президенты…
И остался тем же – худощавым подвижным человеком в поношенной одежде, принимающим каждого приходящего, помогающим всякому просящему.
Я это знаю точно. Он и меня встретил.
Я, как тот дурак-крестьянин в XIV веке, пришёл в монастырь посмотреть на игумена.
Было это лет восемь назад. До этого посещал раз или два Троице-Сергиеву лавру, но ещё во времена советские. Тогда благодать пряталась от государственного зверя, как древние христиане в катакомбы. Теперь, милым летним днём года, кажется, 2012-го, пройдя под расписным нижним сводом надвратной Предтеченской церкви, я как будто кожей и лёгкими почувствовал радостное присутствие чуда. Ко входу в Троицкий собор стояла небольшая очередь. Вокруг святого источника толпился народ. Вообще было людно. В пестроте разноцветной людской мозаики, среди паломников, туристов, монахов, тётушек в платках, семинаристов в чёрных сюртучках и прочей публики появился быстрый худенький длиннобородый старец в простенькой ряске, седые волосы на пробор, лучистые глаза… Появился… И исчез… И появился снова, вдали, в толпе…
Он здесь! Он был здесь. И он сказал мне, не дожидаясь, когда я, ошарашенный, поздороваюсь:
– Мир ти, Андрее! Не смущайся, не бойся. Заходи ко мне, раз пришёл.
Что-то в этом роде.
Я вхожу в Троицкий собор. По сумрачному храму, изгибаясь вдоль стен, течёт тонкий людской ручеёк. У входа он чуть-чуть журчит, потом становится всё тише и, взбираясь на солею, затихает совсем. И я против законов природы теку снизу вверх, к возвышению, на котором стоит гробница преподобного Сергия. Кланяюсь. Сергий благословляет. И мы уходим с ним в тенёк, садимся на скамеечке у забора и начинаем разговор.
О чём?
Этого я пока не могу рассказать. Секрет.
Лестница наверх
С искушениями легко бороться. По крайней мере, с искушением хлебами. Так кажется нам, сытым и благополучным… дуракам. И я, воцерковившись, принялся бороться. Например, рьяно постился. Ближние видели это, страшились и жалели меня. Однажды, зайдя на кухню, я застал крёстную за преступным занятием: она тайком подкладывала сливочное масло в мою отдельно сваренную великопостную кашку. Я вошёл внезапно, крёстная вздрогнула и обернулась на звук. Вот её испуганный взгляд, виноватое, жалкое выражение лица. Ей восемьдесят пять лет. Она всю жизнь была вождём и командиром. А тут…
Не помню, сказал что-нибудь или промолчал и вышел. Неловко, больно, как от непривычно тесной обуви. Что-то тут не то.
Другое «не то» объявилось на Пасху. Постился-постился, и было хорошо, и легко, и даже прозрачно на душе… И вдруг – Пасха. Праздник. Христос воскрес. И не надо поститься. А что делать? Иду из Академии через бывший митрополичий сад, потерянный и сбитый с толку. А где радость? Где пасхальное счастье? Будто узник, освобождённый революцией из камеры, верчу головой, пялю глаза вокруг и не понимаю, что делать. Где привычный тюремный распорядок? Я, растерянный и несчастный, в бурном и негостеприимном море свободы…
Свобода – самая неузнаваемо переодетая участница сего временного действа. Мы ожидаем увидеть красавицу в сияющих ризах, с факелом в руках и лучами вокруг головы… Встречаем чокнутую нищенку в застиранной одежонке, невнятно что-то бормочущую щербатым ртом… Конфузимся, торопливо проходим мимо. А это и была наша свобода.
Коридор Двенадцати коллегий устроен просто, но с подвохом. В одном его конце – крутой поворот, тёмное колено и спуск вниз, на выход. В другом конце – вожделенная библиотека, но это – тупик. По всей длине, за старинными высокими остеклёнными дверьми – бесчисленные боковые ответвления – тупики. И только где-то посерёдке один-единственный неожиданный ход – и лестница наверх, в церковь.
Я бегу по своему коридору, распахиваю то одну дверь, то другую – и попадаю в малые коридоры и комнаты, заканчивающиеся очередным тупиком. Растерянно топчусь под чьё-то хихиканье, возвращаюсь, бегу дальше. Где-то тот единственный выход на лестницу в небо. Не промахнуться бы, не проскочить бы мимо…
Если бы мне присесть тогда на лавочке, пожаловаться Сергию, то, наверно, получилось бы примерно что-то такое.
Сижу, как школьник, с тетрадкой в руках. Смущаюсь. Бубню в пространство. Иногда заглядываю в тетрадку-дневник.
– Отче честный… Знаю, что рассуждаю плохо… Ещё в школе, когда задавали решить задачку, я находил путь длинный, кружной, я был горд им – и вот приходил кто-нибудь, учитель или товарищ, и вдруг указывал мне ошибку моего решения, когда есть решение простое и верное… Нелепость.
Отец игумен молчит. Смотрит в землю.
– Но ты-то ведь знаешь, что был, был какой-то смысл в том, что я делал. В этой неправильности, в кружном пути было что-то истинное, чего у других не было.
Сергий поднимает глаза – посмотреть на солнце. Мы вдруг видим, как в них, в глазах, вспыхивают бесчисленные искорки… Может быть, это молитвы? Снова опускает взор долу.
– Как я мечтаю о том времени – не времени, о торжестве, когда явленным станет то, во что верю и что вижу, вижу я, а другие не видят… Когда явится последняя моя правота, и правым сделается каждый мой шаг.
Пауза.
– Господи! Это в Тебе, и от Тебя, и к Тебе.
Игумен склоняется ниже и тихонько, как бы тайком, осеняет себя крестным знаменем. Молчит.
– Это – моя жизнь и моя правда.
Молчание.
– Я глуп и грешен; прости это мне и сделай так, чтобы греха моего не было никогда.
Тишина. Чирикают птички.
– Я отрекаюсь ото всего, что было со мной. Что мне ещё делать?
Игумен вдруг поворачивается к собеседнику и говорит что-то, что мы едва слышим; предположительно:
– Что же ты так гордишься-то?
И что-то ещё, вовсе нами не улавливаемое.
Немножко молчания. Снова голос Сергиева собеседника (мой или чей-то? давно, далеко, не определить точно):
– Но в чём же я? Где же я? На что я годен? Ничтожен или велик? И много раз я спрашивал себя, не ошибся ли, и честно и пристально правде в глаза смотрел…
– И что?
– Нет, не ошибся.
Тихо. Шелест травы.
– Ведь если я всё это так чувствую, такую бездну в себе вижу – не обман же это зрения!
Далее – прерывистая речь с подглядыванием в тетрадку. На каждую реплику игумен отвечает внимательным молчанием. Чуть покачивает головой.
– Но всю жизнь я был всего-навсего балованным дитятей, поминутно думающем о впечатлении, которое он производит на людей… Я ненавижу себя такого и отрекаюсь от такого себя… Как это получилось? Когда началось? Загадка… Внимательно осмотрев своё прошлое, свои стихи, свои речи, свои мысли, я увидел, что нет в них ничего моего – всё заимствованное, у кого-то украденное… Всё – не я! Не я! Не я же!
Пауза.
– Теперь не понимаю, где же я-то сам.
Игумен выпрямляется, говорит до того негромко, что мы скорее улавливаем, нежели слышим:
– Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных. Ты – здесь, чадо Андрее. Ты – здесь. Не бойся. Ты ещё очень мал. Ещё сырой. Тебе ещё быть обожжённу в печи, как отрокам вавилонским. Ты выйдешь сейчас за ворота и пойдёшь долгим путём. Тебе будет множество искушений. Помни Бога. Храни Бога в сердце. Кто вылепил тебя, Тот и обжигает, Тот и украсит, Тот и сделает. А когда надо будет – приходи ко мне сюда. Ты придёшь. Ну, теперь ступай. С Богом.
– Я приду, отче.
– Конечно, ты придёшь. Скоро: через тридцать лет. Приходи, поговорим. Я буду молиться Господу об исцелении твоего недуга.
Игумен встаёт, благословляет нас, грешных, и по ступеням внезапно обозначившейся в воздухе лестницы проворно поднимается наверх. В бесконечность неба.
Избушка у леса
«Когда за городом задумчив я брожу…»
Когда однажды я бродил, задумчив, по окраинам тогдашнего Ленинграда, забрёл на Школьную улицу, ведущую в места, именуемые пасторально – Старая Деревня. Тогда там не было никакого метро. А был тупик среди низкорослых домов, и было кладбище. По кладбищам интересно гулять. Свернул на кладбищенскую дорогу. Посмотрел на молчаливые и скорбные скульптуры военно-блокадного мемориала. Пошёл дальше. Летний слегка ветреный день. Надо мной туда и сюда проносится шум широких крон кладбищенских деревьев – как будто шум крыльев серафима. За поворотом дороги из шороха древесного оперения вдруг вылепился домик-храмик – простенький, светленький, окошки в белых воротничках наличников. Он стоит настолько уютно, что невозможно не зайти.
Как раз началось богослужение. Какое – точно не помню; наверно, малая вечерня по случаю буднего дня. Народу не было никого. Священник, чтец (он же певчий) и я. Наверно, ещё бабушка-свещница за моей спиной.
– Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Во исповедание и в велелепоту облеклся еси…
Чтец, высокий и тощий, стоит за аналоем лицом к алтарю, я вижу его седые волосы, завязанные узелком на затылке.
– Одеяйся светом яко ризою, простираяй небо яко кожу…
– Творяй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный…
– Напояют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою…
Священник в алтаре – ростом пониже, тоже седой, чуточку скособоченный. Лица его я пока не вижу. (Потом узна́ю, что это отец Василий Ермаков, благодатный батюшка, любимый православным людом, и что священнослужение своё он начинал в Таллине, в Александро-Невском соборе, во время немецкой оккупации. Ещё потом узна́ю, что в храмике на кладбище служит молодой отец Никита, двоюродный брат поэтической Маши Трофимчик. Это будет лет через двадцать. Почти.)
– Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера.
– Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси.
Поскрипывают деревянные стены. Покой – как будто мы втроём-вчетвером в избушке-келейке вдали от города, на краю зачарованного леса.
Передо мной слева – икона: старец, простой и светлый, как этот храмик, седой и малость скособоченный, как священник в алтаре. Хозяин избушки – преподобный Серафим Саровский.
Храм этот – Серафимовский, и кладбище Серафимовское.
Серафим Саровский – современник Державина и Пушкина. То есть человек относительно близкого к нам времени, относительно понятной культуры. Рассказов и воспоминаний о нём записано много. Причём первые повествования появились очень скоро после его преставления. Казалось бы, мы должны знать про него всё, как про Пушкина или Державина. На самом же деле знаем мало, нетвёрдо и гадательно и видим его образ как сквозь туманное стекло или как днище корабля, обросшее ракушками. Серафим не оставил письменного наследия (известны два предполагаемых его автографа: черновик делового письма и кратенькое наставление в молитве). Нет ни одного достоверно прижизненного его изображения. Зато вокруг его кельи вырос такой густой лес благочестивых легенд и искажающих мифов, что трудно стало разглядеть там живого человека.
Старец преставился ко Господу 2 января 1833 года. Уже в 1841 году в типографии Московского университета было напечатано коротенькое «Сказание о жизни и подвигах блаженной памяти отца Серафима», подписанное литерами «I. С.», за коими скрылся некто игумен Сергий. Через три года в Петербургском журнале с претенциозным названием «Маяк современного просвещения и образованности» было опубликовано ещё одно «Сказание», более подробное, без указания имени составителя; однако установлено, что им был житель Саровской пустыни Гурий, впоследствии игумен Георгий. В 1849 году в Петербурге было издано третье по счёту «Сказание», составленное иеромонахом Иоасафом (Иоанном Тихоновым). В последующие десятилетия эти повествования переиздавались, дополнялись, редактировались. Все три агиографа видели и слышали старца, общались с ним лично. Беда, однако, в том, что ни Сергий, ни Гурий, ни Иоанн не были духовными детьми Серафима Саровского, учениками, продолжателями его дела. Они изумлялись старцу, восхищались им, но не понимали его – не запечатлели его в сердцах своих, как Епифаний запечатлел игумена Радонежского. Поэтому в ранних житийных источниках мы очень мало обретаем биографических деталей и штрихов к портрету преподобного Серафима, а его слова и поступки переданы в условной манере, в стилистике сочинений провинциальных семинаристов, да ещё искажены боязливой духовной цензурой того времени.
Ко всему прочему за духовное наследие Серафима вскоре развернулась настоящая война. Два претендента на обладание – известный нам Иоасаф (сделавшийся архимандритом) и помещик Николай Мотовилов, в прошлом один из внимающих наставлениям старца, – схлестнулись в противоборстве, используя доносы, интриги и прочие инструменты, принятые в самодержавном государстве. Оба врага движимы были не любовью к святому, а собственными амбициями (которые всегда управляются бесовскими лапами). Заложницами в этой войне оказались простодушные хранительницы воспоминаний – монахини соседнего с Саровом Дивеевского монастыря, ранее опекаемые преподобным Серафимом. Сначала их тиранил Иоасаф, стяжавший архимандритство, затем добившийся его изгнания Мотовилов. Что требовалось от безобидных сестёр? Нужный – то есть искажённый в ту или другую сторону – образ старца. Искажение истины – тоже дело бесов. Итак, видим: вокруг памяти Серафима «закружились бесы разны, словно листья в ноябре». (Стихотворение Пушкина «Бесы», из которого цитата, было напечатано в «Северных цветах» за год до смерти саровского старца.)
А православный люд шёл к Серафиму, как и при его жизни, только теперь не в избушку и не в келью, а на могилку. И людской поток становился всё гуще.
В конце XIX века массовое народное почитание старца Серафима заставило церковные власти задуматься о его канонизации. Одним из самых убеждённых сторонников прославления (и, безусловно, самым деятельным) стал протоиерей Леонид Чичагов, впоследствии священномученик Серафим (о коем речь впереди). В 1896 году вышел его капитальный труд «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губернии Ардатовского уезда», в котором впервые собраны и последовательно изложены сведения о саровском подвижнике. Новый источник информации, открытый Чичаговым, – тетради из архива Серафимо-Дивеевского монастыря (впоследствии, увы, утраченные), в которых записаны были воспоминания насельниц о друге и покровителе их обители. За десятилетия, прошедшие после смерти старца, живая память о нём поусохла и покрылась пеленой легенд. К тому же записи велись под руководством Мотовилова (если не им лично) со слов монахинь, из коих иные были неграмотны и не могли проверить точность записанного. В дивеевских тетрадях живость непосредственных впечатлений прорастает, как трава сквозь плотный грунт благочестивых условностей.
Ко времени опубликования труда Чичагова народное почитание отца Серафима являлось фактом; засвидетельствованы были исцеления и иные чудеса по молитвам к нему. Оставалось только принять официальное решение о его прославлении в лике преподобных. Тут-то и разыгралось странное действо – не без участия бесов.
Мы не будем рассказывать историю канонизации Серафима Саровского – она многократно рассказана. Отметим только три факта. Первый: главным и упорным противником прославления оказалось духовное ведомство – Синод, точнее, его фактический диктатор обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев. Факт второй: за время синодального правления, с начала XVIII до рубежа XX века, канонизация совершалась русской церковью всего шесть раз, причём пять святых были прославлены в лике святителей (Димитрий Ростовский, Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, Иннокентий Иркутский, Феодосий Черниговский), а единственный преподобный – Феодосий Тотемский – жил давным-давно, в XVI веке. Отсюда видно, что в течение двух синодальных столетий русское православие старалось не замечать живых святых и утратило опыт их прославления. Этому обстоятельству мы обязаны третьим фактом: суеверным представлением о нетлении мощей как необходимом условии святости. Мощи Серафима Саровского были обретены истлевшими, что вызвало бурю сомнений в душах верующих и злорадное глумление безбожников.
Последний из трёх пунктов особенно интересен, потому что двадцатью четырьмя годами раньше именно такая ситуация была описана Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Все ждут чудес после смерти старца Зосимы, и уж почти наверняка – нетления мощей… А вместо этого трупный запах распространяется даже раньше положенного срока, «упреждая естество». И вот смута охватывает город и монастырь, как будто бесовские силы пустились в пляс по случаю смерти праведника.
Бесы и замороченные люди видят костюм, а не то, что в нём.
То есть не важно, как праведник жил и как он живёт и действует после смерти. А важно, что случилось с телом после того, как его (одежду) сняли с души и положили на временное хранение в ящик. Не душа, согретая в ладони Божией, свидетельствует об истине, а манипуляции с безжизненным телом. И если телесное покажется нам сверхъестественным, то поверим, а не то – не поверим.
«Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 16:4).
Знамение Ионы – погибель во чреве чудовища из бездны. Трёхдневная тьма. И спасение к свету по молитве, чудом.
Полуторастамиллионную Россию несло неумолимой бурей в пасть инфернального чудища. Вот бесам и была дана такая воля кружить возле святого.
Всё это имело место в 1903 году, за два года до первой судороги революции. За четырнадцать лет до второй. И за двадцать один год до того времени, когда безбожники большевики примут постановление о нетлении трупа Ленина. И бросят на решение этой задачи лучших профессоров биологии и медицины.
А тогда, в 1903 году, пришлось лучшим профессорам богословия писать специальные трактаты, чтобы доказать, что посмертная сохранность телесных оболочек не является обязательным признаком святости. Но и богословы ничего не доказали бы и ничего бы не добились, если бы государь император Николай II своей волей не приказал канонизировать Серафима. Приказал – и всё.
Странная история.
Царь Николай Александрович – человек консервативный; в принятии решений – осторожный до крайности. Он будет откладывать созыв им же самим одобренного Поместного собора русской церкви; он будет последовательно отвергать восстановление патриаршества и все прочие, большие и малые, даже самые назревшие церковные реформы… «Как бы чего не вышло». Ученик Победоносцева… А в вопросе о канонизации Серафима Саровского пойдёт на прямой конфликт с учителем, с синодской и прочей бюрократией. Возьмёт инициативу на себя. Будет решителен и непреклонен.
Почему? Неизвестно. Одна из тайн последнего русского царствования.
Да, но вернёмся к жизнеописаниям старца Серафима.
Ко времени канонизации Чичагов – теперь уже архимандрит Серафим – подготовил «Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца», в коем постарался как мог отделить реальность от благочестивых фантазий. Однако в том же 1903 году из печати вышло более ста книг, книжечек, брошюр и статей о преподобном Серафиме, среди которых немало весьма сомнительных – например беседы (якобы) старца с Мотовило-вым (человеком своеобразным и не вызывающим стопроцентного доверия). Там наговорено много, а проверить, истинно ли от Серафима, – невозможно. Опубликовал сии «беседы» ещё один странный персонаж – Сергей Нилус, несостоявшийся юрист, неудачливый предприниматель, неуемный апокалиптик и духовный фантазёр[24]24
В будущем Нилус прославится как публикатор «Протоколов сионских мудрецов». Вне зависимости от того, подлинный это текст или подложный (по всему судя, подложный), он выстроен на концепции ненависти одних народов к другим и провоцирует таковую ненависть в читателях. Тут уж не бесы, а сам их хозяин.
[Закрыть]. Подобные сочинения, недостоверные, проникнутые сомнительным пафосом и нецеломудренным вожделением чуда, стали популярны и завершили формирование мифологического облака вокруг обыкновенного святого человека.
Дело в том, что Серафим Саровский – именно простой святой.
Без всякой хитрости.
Обыкновенный.
В этом его чудесная необыкновенность.
Таким, как он, должен (и может) быть каждый.
Дело не в том, сколько дней он молился на камне, и не в том, что ничего не ел, кроме травы. Дело в том, как он верил и как он любил.
Просто любил каждого конкретного человека, с которым Бог привёл встретиться.
Такое возможно только по великой вере, которая умирает и прорастает, горит и не сгорает.
Семьдесят лет плюс семь
Цель обывательской мифологизации – лишить героя индивидуальных черт, представить его не таким, каким он был на самом деле, а таким, каким может его вместить слабосильное общественное сознание. Не Божье, а человеческое. Поэтому мы отодвинемся от покрытых мифологической патиной описаний подвигов и чудес преподобного Серафима и отложим в сторону подборки его изречений (подлинных или неподлинных – как теперь проверишь?). А для начала изложим биографические данные, не вызывающие сомнений. Как в анкете.
Имя в миру: Прохор Исидорович Мошнин (или Машнин; оба написания встречаются в документах).
Родился в Курске в купеческой семье.
Родители – Исидор Иванович и Агафья Фотиевна.
Дата рождения: 19 июля; год раньше считался 1759-й, но, как показывают современные исследования, это писарская ошибка, возникшая в результате схожести в написании цифр 4 и 9. Сопоставление документов и биографических данных указывает на 1754 год.

В. Е. Раев. Серафим Саровский пустынножитель. 1828. Бумага, карандаш
Отец семейства скончался в 1760 году, оставив вдову сорока двух лет с тремя детьми: Прасковьей (одиннадцать лет), Алексеем (девять лет) и Прохором; однако и с приличным капиталом. Последнее видно из того, что Агафья Фотиевна после смерти мужа продолжала вести подряды по строительству большого Сергиево-Казанского собора в Курске, завершённому лишь в 1778 году. Нижний храм этого собора освящён во имя Сергия Радонежского, что примечательно: надо полагать, что здесь получал свои первые духовные впечатления малыш Прохор, будущий продолжатель дела преподобного Сергия.
Более ничего конкретного о детстве и юности Прохора Мошнина мы сказать не можем. Документально зафиксирован тот факт, что в 1778 году он стал послушником Успенской пустыни в городке Сарове. Если принять уточнённую дату рождения, то ему двадцать четыре года: возраст для купеческого сына более чем взрослый; сознательность и обдуманность выбора жизненного пути не вызывают сомнения. Обращает на себя внимание совпадение дат: Прохор уходит в монастырь в том же году, когда завершено возведение и благоукрашение Сергиево-Казанского собора.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































