Текст книги "Святые и дурачок"
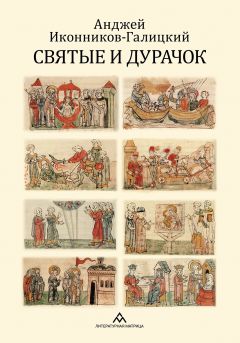
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Есть ещё один биографический сюжет, не документированный, но, по-видимому, достоверный. Незадолго до ухода в Саровскую пустынь Прохор ездил в Киев и там в Печерской лавре, встретился со старцем Досифеем[25]25
Этого Досифея иногда отождествляют с преподобной Досифеей, загадочной затворницей Киевской. Ещё одно облако в атмосфере полулегенд, витающих вокруг образа Серафима Саровского.
[Закрыть]. Досифей поддерживал связь с Нямецким монастырём, с его настоятелем Паисием Величковским, исследователем и хранителем почти уже забытого к тому времени духовного наследия исихастов. По-видимому, через Досифея Прохор Мошнин впервые познакомился с учением Григория Синаита, Григория Паламы и их последователей об умной молитве и обожении. Согласно биографическому преданию Досифей дал Прохору указание идти в Успенскую Саровскую пустынь: возможно потому, что там в это время жил старец Назарий, ученик Паисия Величковского.
Послушничество Прохора Мошнина продолжалось восемь лет. В 1786 году он принял монашеский постриг, был рукоположен во диакона, а через шесть лет во пресвитера. Вскоре иеромонах Серафим стал вести уединенную жизнь в скиту на опушке леса, в нескольких верстах от монастыря. И вновь примечательное совпадение во времени: его отшельничество началось в год кончины Паисия Величковского. Так от угасающего светильника зажигается новый.
Примерно в это время произошло событие, не отражённое в документах, но запечатлевшееся во всезнающем пространстве икон. Преподобного Серафима изображают сгорбленным старичком; между тем известно, что Прохор Мошнин отличался высоким ростом и стройным, крепким телосложением. Сгорбленным он стал после сурового испытания, едва не стоившего ему жизни. Что в действительности произошло – неизвестно. Общепринятая версия такова. Как-то во времена скитского жительства Серафим отправился в лес за дровами. На лесной дороге его подкарауливали трое – мужики из соседней деревни. По-видимому, пьяные. Потребовали денег. Какие деньги у отшельника? Как же, к нему знатные люди приходят, небось сокровища у него хранят. Серафим, у которого в руках был топор, легко мог бы отбиться от нападающих, а может, и зарубить их. Но: «Взявшие меч, мечём погибнут» (Мф. 26:52); это слова Христа Петру, когда тот оружием пытается защитить Учителя от вражьих людей, убийц. И Серафим слышит Христа. Не поднял оружие на человеков. Был избит страшно и брошен без чувств посреди дороги. Придя в себя, дополз до монастыря, лежал при смерти, чудом выжил, навсегда остался сгорбленным. А арестованных обидчиков простил. И даже добился, чтобы их не отдавали под суд. Довольно с них покаяния.
Это версия. Подобную историю рассказывали и о другом чтимом подвижнике Саровского монастыря, иеросхимонахе Марке. Однако суть дела не вызывает сомнений. Искушение – как в пустыне:
– Ударь, убей, убеги, сделай что-нибудь по ненависти – ведь никакой любви нет. Поклонись мне, и я сделаю тебя благополучным. На, вот топор, ударь его!
– Не могу, сатана. А вдруг в нём Христос?
(В этой истории прообразовательно явлено то, что случится со всей русской Церковью столетием позже, в годы революции и советских гонений. Опьянённые дьявольской ненавистью русские мужики будут рушить храмы, жечь иконы, убивать священников, их жён и детей, гноить в лагерях монахов и монахинь… Потом придёт отрезвление и, может быть, даже покаяние. Внуки гонителей будут поклоняться гонимым – мученикам и исповедникам Российским. И Церковь никогда не потребует суда над теми, кто её преследовал. Потому что побеждает тот, кто, как Серафим, как Христос, не поднимает оружие на человека.)
Далее мы видим сквозь предрассветную дымку немногочисленных документальных свидетельств Серафима-пустынножителя, великого аскета, молитвенника, постника. Видим его, как на картинке из благочестивой книжки, совершающим коленопреклонённо молитву на камне – долго-долго, по преданию, тысячу дней и ночей (хотя кто за эту тысячу может поручиться?). Он питается одной травой: луком да похлёбкой из сныти. Много лет соблюдает ненарушимое молчальничество. Так проходят сорок лет монашеской жизни. Всякому иному хватило бы. Но путь Серафима тут только начинается.
Из строгого молчальнического затвора он возвращается к людям. Как это произошло и почему? Опять неясно. Одни говорят – по велению Богородицы, другие – по строгому указанию священноначалия, недолюбливавшего отшельников. Вернее всего, имели место обе причины: воля Божия совершается в немощи, прорывается сквозь человеческое несовершенство.
Вернулся к людям – и оказалось, что тысячам людей без него никак.
1825 год. В Петербурге недавно отбушевало ужасное наводнение, едва не растерзавшее имперскую столицу. Под государев престол уже подведена мина, которая в декабре взорвётся мятежом вольнодумных дворян. Серафиму семьдесят. К нему в келью-хижину движутся и ещё семь лет будут идти непрерывным потоком мужчины и женщины, старые и молодые, нищие и знатные, с бедами, вопросами, за исцелением, ради любопытства, ради выбора жизненного пути. А он прост и готов служить всем и помогать всем. И он видит сердца людей, их тайные помыслы и нужды. Ему дано стать отцом и наставником неприкаянно верующих. Добрый, всё понимающий, умеющий каждого принять, простить, каждому сказать главное. Преподобный Серафим вдруг сделался как народный учитель православной жизни и веры.
…Тут скособоченный старичок с иконы обращает к нам свои светлые глаза и говорит:
– Что ты, радость моя, какой я учитель! Учить других – это как с высокой колокольни бросать камни вниз. А самому исполнять – это как с мешком камней на спине подниматься на высокую колокольню.
Сокровища
«Преподобный, – ая, -ое (церк.). В православной церкви – эпитет т. наз. святых из монашествующих, в знач. праведный, святой» (Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова).
«Преподобный – весьма подобный, схожий, похожий на что» (Словарь В. И. Даля).
Трудно повествовать о преподобных. Потому что их биографии в основном схожи. Рассказал об одном – на втором начинаешь повторяться. Рос у благочестивых родителей… С детства возлюбил Бога… Презрел соблазны мира и ушёл в монахи… Вёл уединенную жизнь, совершал аскетические подвиги… К нему пришли ученики, потянулись люди за советом и помощью… Всё это очень мощно и значимо в реальности, но пусто и нудно в словах.
А кстати, почему к преподобным тянутся люди вереницами? Зачем, собственно, шли и идут эти толпы? К Сергию в лес, к Антонию в пустыню, к Симеону, который на столпе, к Шио в горы, к Серафиму в неказистую хижину?
Зачем?
Что хотят получить?
А ведь хотят, и что-то очень важное, потому что идут и едут издалека, трудными путями. И их много.
«Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?» (Лк. 7:24).
– Как зачем? Получить ответы на вопросы.
– На какие вопросы?

Серафим Саровский. Фотография конца XIX века, сделанная с прижизненного портрета
Вопросы-то ведь у всех одинаковые, и их всего с десяток. Да и этот десяток можно свести к одному.
«Как жить дальше?»
В советское время такие вопросы присылали пачками на радио: «От меня ушёл муж. Подскажите, как жить дальше, дорогая редакция». Ничего не придумаешь бессмысленнее. Нет, к преподобным идут не за этим.
Необъяснимо с точки зрения обыденности и здравого смысла.
Люди делают что-либо необъяснимое с обыденной точки зрения только с одной целью: чтобы их полюбили.
К преподобному идут за незамутнённой любовью, как к дальнему роднику за водой.
Очень странно: ведь эта любовь как будто ни в чём таком не выражается. Как и у родниковой воды нет вкуса. Вернее, её вкус – чистота.
И это особенная любовь – отцовская.
«Как возлюбил Меня Отец. И Я возлюбил вас…»
Наша беда – безотцовщина.
Сто лет безотцовщины – с семнадцатого года… А то и больше – от Адама.
Все мы (кроме детдомовских) росли при мамах и бабушках. А кто может, не колеблясь, о себе сказать, что воспитан отцом или дедом? Таких немного.
Набедокурили революции и войны, но не только они. В моем поколении, явившемся на свет в самое что ни на есть мирное время, было безотцовщины (явной и скрытой, полной и отчасти), наверно, больше, чем в поколениях военных. У одних моих сверстников отцы куда-то делись, у других изначально отсутствовали, у третьих присутствовали, но на вторых ролях… У кого-то были хорошие, настоящие отцы, да рано умерли…
Такая ситуация сохраняется и поныне.
Поэтому нам страшно не хватает смирения и терпения.
Это не парадокс, а закономерность.
Принято считать, что смирение и терпение – качества преимущественно женские. Возможно, это так. Возможно, именно поэтому они плохо передаются при женском воспитании. Ведь учитель не передаёт ученику свою природу. Он передаёт свои умения и знания, то есть то, что добыл сам. И может это сделать, только если в самом воспитуемом (в ученике, в сыне) пробуждается такая потребность.
Материнское воспитание постоянно; отцовское – ситуативно. В материнском главное корень – «питание»; в отцовском – приставка вос– стрелка вверх.
Смирение и терпение непонятны едоку, бездельнику и скучному домоседу. Они необходимы страннику, труднику и тому, кто на войне.
Продолжение бытовой безотцовщины – безотцовщина духовная.
Трудно поверить в Отца Небесного.
Трудно здесь, во времени, найти отца духовного.
Вот мы, сиротки, и тянем ручонки к нему, к преподобному, – за отцовской обучающей любовью.
И вот год примерно 1830-й. Монастырёк в захолустном Сарове. Вот подобные нам – сонмище богомольцев – идут по монастырским коридорам и переходам в сопровождении седовласого монаха, как сказочные персонажи за Синей птицей, – ищут келью отца Серафима. При каждом шаге побрякивают ключи на поясе у монаха. Молчание. Со взрослыми – дети, малые и побольше, и тоже помалкивают: то ли зачарованно, то ли испуганно. Одна девочка – лет пяти, в белом коротком платьице, в смешной шляпке с ленточками – всё время отстаёт от публики, любопытно глядит вокруг. Ей интересно. Она запоминает.
Поворот, ступеньки вниз, ещё поворот… Закуток, что-то вроде ниши в толстой каменной стене. Останавливаемся всей толпой у низенькой дверцы.
Сопровождающий монах. Здесь. (Отвязывает от пояса ключ, отпирает замок.) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.
В ответ – тишина. И в сонме богомольцев тишина. Переминаются с ноги на ногу.
Один богомолец (вполголоса). Да здесь ли он?
Другой богомолец (тоже). Не отвечает, вишь ты…
Монах. Идти разве, понаведаться под окном… Не выскочил ли, как заслышал ваш приезд на дворе…
Сонм вновь приходит в движение, вслед за монахом движутся далее по коридору и вскоре выходят на свет – во дворик. Сворачивают за угол. Монах подходит к низенькому оконцу; богомольцы толпятся вокруг.
Монах. Вот окно – келья отца Серафима.
Первый богомолец. Смотри-ка, следы!
Второй богомолец. В лаптях убегал кто-то.
Монах. Убёг, значит. Ай-ай.
Богомольцы издают общий звук разочарования, растерянно топчутся.
В это время появляется солидный широкобородый муж в клобуке и мантии, с посохом – настоятель.
Первый богомолец. Благословите, отец игумен.
Настоятель. Господи, благослови. Господи, благослови… Что, сбежал наш старец?
Монах. Нету его, отче.
Настоятель. Сбежал…
Второй богомолец. Что нам делать-то?
Богомолка. Издалека ехали.
Первый богомолец. С детками вот…
Настоятель. М-да… Да вы его в бору поищите. Далеко ему не уйти.
Монах. Избушка у него там.
Настоятель. Далеко-то не уйти ему: сильно калечен на своём веку. Сами увидите: где рука, где нога… На плечике горб.
Монах. Медведь ли его ломал, люди ли били… Ведь он что младенец – не скажет.
Настоятель. Ступайте, из ворот прямо, у первой развилки направо.
Монах. Да… А вряд ли вам отыскать его в бору. В кусты спрячется, в траву заляжет… Или вот что: разве на детские голоса откликнется…
Настоятель. Забирайте детей-то побольше, да чтоб наперёд вас шли.
Первый богомолец. Куда идти-то?
Настоятель. Вам дорогу покажут.
Толпа совершает движение – несколько шагов в сторону ворот – и скрывается во тьме. Из этой темноты – темноты времени – к нам выходит очень пожилая женщина в простом тёмном платье и чёрной шали, укрывающей плечи: Надежда Александровна Аксакова.
Пожилая женщина. Семьдесят три года назад я была той девочкой в шляпке с лентами. Матушка взяла меня с собою на богомолье… Так ясно, ясно помню… «Мы ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет, и скоро все врассыпную выбежали на зелёную, облитую солнцем поляну. Смотрим: около корней отдельно стоящей на полянке ели работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький, худенький старец, проворно подрезая серпом высокую лесную траву. Серп же так и сверкает на солнечном припёке»[26]26
Воспоминания Н. А. Аксаковой здесь и далее цит. по: Аксакова Н. А. Отшельник 1-й четверти XIX столетия и паломники его времени. Из детских воспоминаний о преподобном Серафиме Саровском. Вильна, 1903. – URL https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/iz-detskih-vospominanij-o-prepodobnom-serafime-sarovskom/.
[Закрыть].
И вот тёмная женская фигура уходит в тень, а мы уже видим солнечную полянку, пригорок, окружённый густым еловым лесом, замшелую дранковую крышу хибарки внизу у ручья. До нас докатываются волны тёплых летних запахов: сныть, сурепка, таволга… Слышно жужжание мух, звон стрекоз и прочих летучих насекомых. В высокой июньской траве – согбенная фигурка. Старичок в тёмной одежонке, длинные седые волосы завязаны в пучок под чёрной шапкой. На ногах – большущие растоптанные лапти. Старичок, склонясь, проворно работает серпом, собирая душистую травяную зелень в пучки. Вдруг он насторожился – услышал нас. Приподнял голову. Слушает, наставив ухо в сторону, откуда ступаем мы. Мы-то стараемся не шуметь, но он нас слышит. И вдруг бежит в сторону спасительного леса. Но нет, не добежал, остановился, боязливо оглянулся, присел, спрятался в густую траву.
Десяток мальчишек и девчонок (звонко). Отец Серафим! Отец Серафим!
Пожилая женщина в тёмном (появляется из тени, продолжает рассказ). «Заслышав неподалеку от себя звук детских голосов, отец Серафим не выдержал в своей засаде, и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на нас, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу».
Может быть, он просто устал от богомольцев. А может, боялся за одного своего тайного приятеля. По свидетельствам дивеевских сестёр, близ хижины старца жил в лесу пребольшой медведь. Серафим, подобно Сергию, кормил его хлебом, и зверюга привык к доброму человеку. Но посторонних бы напугал, а мог бы и сам напугаться… Ни дети, ни затерявшиеся вдали взрослые не знали об этом соседе.
Пожилая женщина. «Смоченные трудовым потом желтоватые волосы пустынника мягкими прядями лежали на высоком лбу: искусанное лесной мошкарой лицо его пестрело запёкшимися в морщинах каплями крови… Крошка наша Лиза первая бросилась старичку на шею, прильнув нежным лицом к его плечу, покрытому рубищем. “Сокровища, сокровища”, – приговаривал он едва слышным шёпотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди».
А мы видим: окружили старца, взяли его в плен, обнимают его… Один парнишка уже бежит по тропинке обратно, к взрослым, кричит во всю звонкость мальчишеского голоса: «Здесь он! Сюда! Вот он… Вот отец Серафим! Сю-ю-да-а!»
А вот уже и взрослые фигуры, мужские и женские, бегут на пригорок. Вот они оттеснили детишек, вот уж ведут старца под руки в сторону хижины… Смущённо освободившись от их опеки, он шагает, прихрамывая, к своему домику и огороду, что в низинке у ручья. Разношёрстное сонмище – за ним. Смешная картина: как голодные кошки за доброй бабушкой, вынесшей им поесть. У порога старец останавливается, поворачивается к идущим за ним. На его лице – растерянность хозяина, не знающего, чем порадовать дорогих, но нежданных гостей.
– Нечем мне угостить вас здесь, милые.
Молчит, чуть склонившись, как будто вспоминает. Вспомнил! Радостно:
– А вот деток, пожалуй, полакомить можно.
Ищет глазами. Останавливает взор на мальчонке постарше и посмышлёнее. Широкой узловатой ладонью покрывает мальчишеское плечо.
– Вот у меня там грядки с луком. Видишь? Собери деток, нарежь им лучку, накорми их лучком и напои хорошенько водой из ручья.
Мальчонка кивает, выпархивает из-под крыла серафимовой рясы. Дети все вместе бегут исполнять поручение Серафима.
Обрадованный старец недолго смотрит им вслед, потом обращает ко мне, затерявшемуся в толпе, своё лучезарное лицо и говорит прямо к сердцу, тихо и привольно, как бы делясь тайным счастьем:
– Если б ты знал, какая радость ожидает душу праведного на небе, ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения, клевету. Если бы келья наша была полна червей и черви эти ели бы плоть нашу всю временную жизнь нашу, то надобно бы было на это согласиться, чтоб только не лишиться той небесной радости.
И чуть-чуть помолчав, добавляет:
– Ах, радость моя, такое там блаженство, что и описать нельзя!
Post scriptum к этой главе
Пушкин вполне мог увидеться с Серафимом. От села Болдино до Сарова полтораста вёрст; от Пензенского тракта – всего девяносто. В начале сентября 1830 года Пушкин проезжал этим трактом из Москвы через Муром и Арзамас в Болдино; в конце ноября – обратно.
Правда, мы знаем, что ни по пути туда, ни по пути обратно он не заезжал в Саров.
Встреча не состоялась.
Правда, имела место ещё одна поездка: 9 ноября Пушкин отправился из Болдина в Москву, но, не доехав немного до Мурома, был остановлен холерным карантином и возвращён обратно. Нельзя исключить, что на сей раз путь его пролёг в объезд Арзамаса через Саров. Впрочем, и доказательств этому тоже нет.
Оставим такую возможность под извилистым знаком вопроса. А что если тёмным, мокро-снежным днём 11 или 12 ноября 1830 года забрызганная дорожной грязью кибитка подкатила к воротам Успенской Саровской пустыни? Пожилой слуга отстегнул фартук, и из кибитки спрыгнул на булыжную мостовую барин, лет тридцати, невысокого роста, подвижный, гибкий; живо поблёскивают голубые глаза; из-под шапки выбиваются тёмно-русые курчавые волосы…
Осенив себя крестным знамением, входит под монастырские своды и по длинным коридорам и переходам следует к келье преподобного…
От гипотез обратимся к фактам.
В Болдине Пушкин закончил стихотворение «Бесы» и поставил под переписанными набело строчками дату: 7 сентября. 20 сентября переписал набело «Монастырь на Казбеке»:
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
Между этими двумя датами – «Сказка о попе…» и рисунки в рукописи: поп, бес и бесёнок. И завершение вынужденного болдинского затвора: 6–8 ноября «Пир во время чумы». Разговор Председателя со священником. «Безбожный пир, безбожные безумцы…»
В одном дне пути от избушки Серафима.
Похоже, беседа между ними всё-таки состоялась.
Там, в заоблачной келье.
По лезвию правды. Блаженные и праведные
Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу,
и услыша мя от ада преисподнего,
и возведе от тли живот мой.
Три шага
Как диавол овладевает человеком?
Вот три ситуации.
Первая.
У меня есть друг, близкий, как часть меня. Он делает много добра людям, и я не видел ни разу, чтобы он делал людям зло. В нём много ума и знаний, и он абсолютно честен. Но у него есть специфическая зона в сознании: он верит в правоту и единственность современной Европы. И не верит ни во что, этому противоречащее. Он, например, верит в то, что Германия навсегда преодолела нацизм и никогда к оному не вернётся. В этом смысле даже знает будущее: «никогда не вернётся». Если человек гарантирует, что будет и чего не будет, то он одержим некоей идеей, заменяющей веру. В данном случае идея, в общем-то, позитивна: современная Европа с её гражданскими институтами, культурой, устроенностью и комфортом действительно во многих отношениях достойна любви и подражания.
Однако 2014 год. Происходит война на Донбассе и прочее, с этим связанное. После первого шока все мы должны осмыслить случившееся. Занять – внутри и вокруг себя – некую позицию. Мой друг занял позицию: он возлюбил так называемую Украину и возненавидел так называемый Донбасс. Именно «так называемое» то и другое – потому что не увидел и не выслушал ни тех ни других. Возлюбил и возненавидел заочно, на основании идеи, заменившей ему веру. «Запад всегда прав, Восток всегда неправ». Не то чтобы доказать обратное, но даже чуточку поколебать его веру невозможно. Любые аргументы отскакивают от его сознания, как противопехотный снаряд от хорошей танковой брони. Когда аргументы эти слишком весомы, то он, человек логики, как будто бы физически перестаёт их слышать. И даже может заснуть, чтобы только не услышать.
Я сейчас не касаюсь вопроса, кто тут прав и кто не прав по существу. Я только о том, что сознание моего друга захлопнулось для определённого рода информации. Когда ему предложили поехать туда, на передовую, – он отказался. Он побоялся не пуль и осколков, а нежелательной правды. То есть отсёк от правды часть и выбросил вон.
Поступил по своей воле: поставил себя основанием истины.
И получилось – добрейший, прекраснейший человек говорит в себе: «Когда те, с запада, убивают тех, кто с востока, – они герои. А если те, с востока, убили, или ранили, или хотя бы попытались ранить того, кто с запада – они негодяи, преступники и должны быть уничтожены».
То есть подписывает заочно смертный приговор.
Человеку.
Такому же, как он.
То есть себе самому.
Кто-то (в нём самом) – ему в ответ: «Послушай, но ведь эти – такие же люди, как и те. Прежде чем подписывать приговор, хотя бы выслушай подсудимого, посмотри ему в глаза».
Возразить нечего, потому что в применении к западной половине человечества он сам сказал бы так же. И тут некий чужой голос отвечает из его же нутра: «Не буду смотреть в глаза тому человеку, потому что это глаза зла. И те люди – не такие, как эти. И не такие, как я. Они другие. Они не настоящие. Они не люди. На них не распространяются мной же принятые правила. Потому что они не люди. Не братья мне. Я хорош, а они злы и несовместимы со мною. Поэтому их можно и нужно уничтожать – как комаров, тараканов и крыс».
Кто может так говорить из человеческого нутра?
Переодетый враг, уверяющий, что он – истина. Враг на букву «Д». Или на «С», если угодно.
Простите! Я домыслил ситуацию за своего друга, досочинил речь. Он, конечно, не сказал бы так, удержал бы беса на привязи. Он очень хороший человек.
И всё-таки допускает убийство с одной стороны и не допускает возражений с другой.
История вторая.
Моя мама училась в школе в 1940-х годах. Время было вообще сталинское, а ещё вскоре после войны поднялась новая волна того, что мы сейчас безлико называем репрессиями. В сущности, это волна ненависти одних к другим. Маме было четырнадцать-пятнадцать лет. Её возненавидела одна учительница и стала всячески гнобить: открыто, словами, и скрыто, путём докладов кому следует. Такое случается между людьми, особенно в школе. Однако в нашем случае примечателен мотив: фамилия. (Я знаю эту историю со слов мамы, то есть из источника необъективного, но думаю, что тут всё правда; почему – смотри далее). Так вот, фамилия, по которой сразу видно было дворянское происхождение. Не надо даже глядеть в анкету. В те времена, между прочим, во всех анкетах указывалось происхождение и то, чем жили родители – трудовыми доходами или нетрудовыми. За происхождением могло последовать многое. Например, высылка в административном порядке в двадцать четыре часа – куда-нибудь, куда Макар телят не гонял. Или ещё что похуже. И самое страшное – общественное презрение, могучая сила, особенно в детском коллективе. Отец моей мамы, умерший в блокаду, к счастью, всю жизнь работал, то есть, по советской терминологии, «жил трудовыми доходами». Но родился дворянином. Увы. В сороковые годы, правда, за это уже не высылали, но высылали и сажали ещё недавно, в тридцатые… А тут волна: «Ленинградское дело», борьба с космополитами и прочие признаки обострения общественной шизофрении. Кто знает, чем что закончится… В общем, пришлось девочку забрать из школы и перевести в другую, подальше: в школу рабочей молодёжи, где моя мама доучивалась уже как трудящаяся гражданка.
(Вот поэтому я и уверен в достоверности маминой версии: зная суровое отношение моих родственников ко всему, что касалось правды и долга, не сомневаюсь, что только очень серьёзная угроза могла заставить их забрать ребёнка из школы и пристроить в другую.)
Отдельно подчеркну: описанная коллизия не была связана ни с успеваемостью, ни с поведением, в чём можно убедиться, перелистав сохранившийся школьный дневник.
По маминым воспоминаниям, учительница прямо и прилюдно угрожала ей доносом в Госбезопасность, попрекала отцом и упоминала о недобитых помещиках.
Самое главное в маминых воспоминаниях – та ненависть, которая изливалась из учительницы.
Вам понятно?
Непонятно?
И мне непонятно.
И я пытаюсь поставить себя на место той дамы и выяснить, что ею двигало.
И вижу, что она была абсолютно уверена в своей правоте.
Вот она, солидная, заслуженная женщина с учительским авторитетом. Перед ней – пятнадцатилетняя девочка, подросток. Не беспризорница, не дворовая оторва. Домашняя воспитанная девочка, привыкшая, что её все любят. Она вообще не сделала ничего особенно плохого – во всяком случае, сделала плохого не больше, чем все. И дама смотрит на неё с ненавистью. Ненавидит её. Знает, что та ничем не может ей ответить. Искренне хочет девочку уничтожить. Почему? За что?
За происхождение. За то, что девочка родилась у таких родителей.
За то, что родилась.
Чтобы так ненавидеть, нужно быть очень глубоко убеждённым, высокоидейным человеком.
Нужно, чтобы идея полностью заменила веру и совесть.
Только тогда можно почувствовать свою абсолютную правоту и понять, что лицо дворянского происхождения – не человек вовсе, нечто не такое, как я, из другого материала, из вражеского мира (комар, таракан, крыса, болезнетворный микроорганизм)… Я воин светлого будущего, а это – существо из страшной бездны, из тьмы, и мой долг его уничтожить…
Исток ненависти – убеждённость и страх.
Чтобы так ненавидеть, нужно быть одержимым.
Ситуация третья.
Местность близ Алапаевска. Хорошая погода, разгар лета, шум ветра в сосновых кронах. Опушка леса, земляные отвалы и чёрные дыры заброшенных шахт. Елизавета Фёдоровна, «бывшая» великая княгиня, – у края чёрной ямы. Рядом – группа людей. Некоторые из них вооружены, другие безоружны. Сейчас кто-то из вооружённых ударит Елизавету Федоровну по голове (то ли прикладом, то ли обухом топора), и её столкнут вниз, в шахту. Затем то же сделают с другими безоружными – с шестью мужчинами и одной женщиной.
Расхожее выражение «он и мухи не обидит». Думаю, Елизавета Фёдоровна за всю свою жизнь не обидела и мухи – во всяком случае сознательно. Красавица-принцесса, воздушное созданье из высококультурного Гессенского дома, нежно любимая в детстве, воспитываемая тщательно и строго в изоляции от суетного мира и его соблазнов. Вышла замуж по любви за русского великого князя (подробный рассказ обо всём этом впереди). Прожила в России тридцать пять лет. Сейчас ей за пятьдесят.
Тридцать пять лет жизни в России – тридцать пять лет трудов на благо людей. Особенно после гибели мужа, убитого террористами. Всю свою энергию, время и чуть ли не всё состояние вложила в служение людям – всякого рода несчастным и обездоленным. Воспитала поколения самоотверженных служительниц добра – сестёр милосердия. Создала больницы, богадельни, школы. Сама трудилась в них, ухаживала за больными, а во время войны за ранеными солдатами: перевязывала, кормила, выносила судна. Это было совсем недавно – полтора года назад. Имеется фото, где она с ранеными нижними чинами в построенном на её деньги госпитале.
И все это знают.
Она – уникальный человек: никто никогда не мог сказать о ней ничего дурного.
Солдаты, озлобленные войной и революцией, смеялись над ней, грубили ей, матерились вслед. Её приёмный сын Дмитрий, великий князь, эпатажник, enfant terrible, участник убийства Распутина, в письмах издевался над ней. Но никто никогда не смог обвинить её ни в каком недостойном деле. Даже революционеры в угаре революции.
И вот кто-то, стоящий рядом, – может быть, солдат, из тех, кого выхаживали, или могли выхаживать в её госпитале, – поднимает винтовку, размахивается и со всей силы бьёт Елизавету Фёдоровну по голове. И она падает, ломая кости, в чёрную слякотную пропасть.
Почему? За что?
На эти вопросы мы не найдём ответа. Мы.
Но тот, кто ударил, и те, кто был вместе с ним, – они были абсолютно уверены, что правы. Эту уверенность донесли до смерти – каждый до своей. Никто из них не раскаялся. Некоторые гордились.
То же самое – об убийцах царской семьи. Они убили безоружных людей, среди которых четыре девушки и мальчик-подросток. Убили без всякого суда и непонятно за что. Более мерзкого преступления не придумаешь. Но никто из них не раскаялся, и многие гордились.
Им ничего невозможно объяснить. Они не стали бы слушать, да и не могли услышать.
Совершенно ясно, что перед нами люди не в своём уме. И даже не в своём естестве. Одержимые.
Их человеческая воля полностью заместилась волей уничтожительной – дьявольской.
От ума до глупости
Вот три степени, три ступени одержимости.
Кажется, что от первой до третьей – бесконечность.
Но представим себе. Моя мама – девочка, как младшая из царских дочерей, – в окружении озлобленной толпы у края ямы. И та учительница с её идейной ненавистью, и ей дали в руки винтовку. И люди рядом кричат что-то страстно и зло, и беснуются, и указывают на девочку. Чем это кончится? Неизвестно. Лопнет какая-то тонкая незримая плёнка – и удар прикладом…
От второй ступени до третьей – шаг.
И представим: некто, подобный тому моему другу, учитель в школе в послевоенные годы. После блокады. И, может быть, у него умерли в блокаду все близкие. И вот у него в классе ученик немец. То есть наш, но вырос, к примеру, в Казахстане, среди высланных поволжских немцев, или мама у него была немка. И он говорит по-русски с неистребимым акцентом. И вот этот мой приятель начинает его ненавидеть. Ему кажется, что этот акцент – нарочно. Он приходит к убеждению, что это – ужасный носитель зла, враг.
Возможно такое? Возможно.
От первой ступени до второй – тоже шаг.
С математической неизбежностью следует, что от первого, малого и безобидного состояния одержимости, до третьего, жуткого, – два шага. Два небольших движения, которые не требуют особых усилий и осуществить которые никто нам не препятствует.
Сделаем мы эти два шага или нет? От чего это зависит?
Как-то раз я чуть не убил человека. Совершенно ни в чём не виновного и ничего плохого мне не сделавшего.
Я тогда уже отчислился из института и работал в ботаническом саду, не в том, большом, на Аптекарском острове, который знают все, а в маленьком, спрятавшемся за широкой спиной главного университетского здания – Двенадцати коллегий. Там подобралась хорошая, весёлая мужская компания. Там работали, кроме того, студентки с кафедры ботаники, молодые и симпатичные. И в котельной, обогревавшей оранжереи, тоже обреталась интересная публика: кто-то из них писатель, кто-то поэт, кто-то отсидел срок. Это был конец восьмидесятых. Шла перестройка, но реалии ещё оставались советские. Многочисленные писатели, поэты, музыканты, не признаваемые государством, клубились в полуподполье котельных. Художники – те обживали чердаки. И всё, не признаваемое государством, казалось талантливым и значимым.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































