Текст книги "Удольфские тайны"
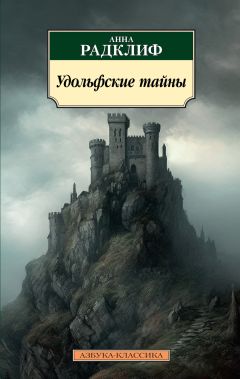
Автор книги: Анна Радклиф
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Вскоре по прибытии в Венецию Монтони получил от Кенеля письмо, в котором он сообщал о смерти жениного дяди, последовавшей в его вилле на Бренте, и прибавлял, что вследствие этого события он поспешил вступить во владение этой усадьбой и прочей собственностью, отказанной ему по завещанию. Этот дядя был брат покойной матери госпожи Кенель. Монтони был ее родственником с отцовской стороны, и хотя он никоим образом не рассчитывал на это наследство, однако едва мог скрыть свою зависть по прочтении письма Кенеля.
Эмилия с беспокойством замечала, что после отъезда из Франции Монтони даже не старался притворяться перед теткой. Сперва он относился к ней с небрежностью, потом стал бесцеремонно третировать ее грубой резкостью. Эмилия никогда не надеялась, что слабости тетки могут ускользнуть от наблюдательного Монтони или что ее ум и наружность могут действительно нравиться ему. Поэтому этот брак в самом начале возбуждал в ней удивление, но раз выбор был сделан им свободно, то она все же никак не ожидала, что Монтони так скоро и так открыто начнет высказывать жене свое презрение. Дело в том, что Монтони, соблазнившись показным богатством госпожи Шерон, был теперь сильно разочарован ее относительной бедностью и крайне возмущен лукавством, с каким она старалась это скрыть перед свадьбой. Он рассчитывал обмануть ее, а теперь вдруг сам оказался обмороченным. И кем же? Хитрой женщиной, которую в душе считал недалекой и для которой пожертвовал своей гордостью и свободой, а между тем не спас себя от разорения, висевшего над его головой. Госпожа Монтони умудрилась закрепить за собой большую часть своего имущества, а остатки, совсем не соответствовавшие ожиданиям и потребностям мужа, Монтони обратил в деньги и привез с собою в Венецию, чтобы еще немного поморочить публику и сделать последнее усилие поправить свои расстроенные обстоятельства.
Итак, намеки, слышанные Валанкуром относительно характера и состояния Монтони, оказывались совершенно основательными, но только время или случай могли раскрыть истину.
Не такова была госпожа Монтони, чтобы кротко сносить обиды или по крайней мере встречать их с достоинством. Она возмутилась поведением мужа со злобностью и необузданностью ограниченной и дурно воспитанной женщины. Даже в душе она не хотела сознаться, что сама до известной степени навлекла на себя презрение мужа своим двоедушием. Ей казалось, что она достойна только жалости, а Монтони кругом виноват перед нею. Имея весьма слабое представление о нравственных обязательствах, она признавала их силу лишь тогда, когда их нарушали другие, к ее невыгоде. Ее тщеславию и так уже был нанесен чувствительный удар, когда она заметила презрительное отношение мужа к себе. Теперь, в довершение всего, ей оставалось только узнать истину о его материальном положении. Хотя по обстановке его дворца в Венеции всякий беспристрастный человек мог догадаться о состоянии финансов его владельца, однако это еще ничего не говорило тем, кто сознательно закрывал глаза на все неприятное. Госпожу Монтони прельщала роль какой-то принцессы, обладательницы дворца в Венеции и замка в Апеннинах. Сам Монтони иногда говорил, что собирается на несколько недель в свой Удольфский замок, чтобы осмотреть, в каком он состоянии, и собрать оброки. Оказывалось, что он там не был уже два года и в это время в замке оставался только старый слуга, которого он называл своим мажордомом.
Эмилия с радостью услыхала о планах отъезда: от путешествия она ждала не только новых впечатлений, но и возможности избавиться от бесцеремонных ухаживаний графа Морано. Она мечтала, что в уединении ей можно будет думать о Валанкуре и предаваться грустным воспоминаниям о «Долине» и о покойных родителях. Воспоминания эти были для нее дороже и отраднее, нежели блеск веселых собраний; они были как бы талисманом, утешавшим ее в горе и поддерживавшим в ней надежды на более счастливые солнечные дни.
Но граф Морано недолго ограничивался простым ухаживанием: он открылся Эмилии в своей любви и сделал ей предложение через Монтони. Тот отнесся к этому предложению сочувственно, но Эмилия ответила отказом. Имея на своей стороне Монтони и обладая большим самомнением, граф не отчаивался. Эмилия была удивлена и крайне раздосадована его настойчивостью, после того как она объяснила ему свои чувства с искренностью, не допускавшей никаких недоразумений.
Теперь граф проводил большую часть времени в доме Монтони, обедал там почти каждый день и сопровождал госпожу Монтони и Эмилию всюду, куда бы они ни отправлялись, и все это, несмотря на неизменную холодность Эмилии. Ее тетка, напротив, по-видимому, не менее Монтони желала устроить этот брак и нарочно не пропускала ни одного собрания, если знала, что там будет граф.
К великому удивлению Эмилии, Монтони молчал о своем предполагаемом путешествии. Он редко бывал дома – разве иногда оставался для графа и синьора Орсино. Между ним и Кавиньи, очевидно, произошла размолвка, хотя Кавиньи продолжал жить у него в доме. С Орсино Монтони по часам запирался наедине. О чем бы ни беседовали они между собой, по-видимому, дело было важное, так как Монтони часто отказывался из-за этого от своего любимого занятия – игры – и оставался дома весь вечер. В посещениях этого Орсино была также какая-то странная таинственность, и это возбуждало не только удивление, но и беспокойство у Эмилии. Совершенно невольно она подметила в характере этого господина такие черты, которые он более всего желал бы скрыть. После его визитов Монтони всегда бывал задумчив и сосредоточен; он совершенно отрешался от всего окружающего, и лицо его делалось мрачным, даже страшным. Порою глаза его метали пламя и все силы его души, казалось, сосредоточивались на одной какой-то заветной мысли. Эмилия с глубоким интересом и почти с трепетом читала эти движения души на его чертах. Ее охватывало беспокойство при мысли, что она находится всецело во власти этого страшного человека. Но она ни единым намеком не выражала своих опасений госпоже Монтони, которая пока ничего не замечала в своем супруге, кроме его обычной суровости и презрения к ней.
Второе письмо Кенеля извещало о его приезде с женой на виллу Миаренти; он писал также об удачном ходе того дела, для которого приехал в Италию, и в заключение убедительно звал Монтони, его жену и племянницу к себе в гости на новую виллу.
Около того же времени Эмилия получила письмо, очень для нее интересное и хоть на время успокоившее ее сердечную тоску. Валанкур, надеясь, что она еще не уехала из Венеции, послал ей письмо по почте, в котором твердил о своей неизменной горячей любви. Он пробыл в Тулузе некоторое время после ее отъезда, чтобы насладиться грустной отрадой бродить по тем местам, где он привык встречать ее, а затем отправился к своему брату в имение, по соседству с «Долиной».
«Я часто езжу туда верхом рано утром, – писал он, – чтобы обойти на досуге все места, где вы, бывало, гуляли, где я встречал вас и разговаривал с вами. Я возобновил знакомство с доброй старой Терезой. Она обрадовалась мне как случаю поговорить о вас. Не могу выразить, в какой степени это расположило меня в ее пользу и как охотно я слушал ее рассказы на любимую тему. Вы, конечно, догадываетесь, какая причина заставила меня главным образом отрекомендоваться Терезе; мне просто хотелось получить доступ в замок и в сады, где так недавно жила и гуляла моя ненаглядная Эмилия. Здесь я люблю бродить и всюду встречать ваш образ, но больше всего я люблю сидеть под развесистыми ветвями вашего милого платана, где мы, Эмилия, когда-то сидели с вами, где я впервые осмелился признаться вам в своей любви. О Эмилия! Воспоминание об этих минутах терзает мое сердце. Я сижу погруженный в задумчивость и стараюсь вызвать ваш образ перед своим взором, затуманенным слезами, услышать снова ваш голос, от которого когда-то трепетало мое сердце нежностью и надеждой. Я облокачиваюсь на ограду террасы, откуда мы, помните, вместе наблюдали за быстрым течением Гаронны, в то время как я описывал вам дикую местность, где она берет начало, причем все время думал только о вас одной. О Эмилия! Неужели эти минуты миновали навеки, неужели они никогда более не вернутся?»
В другой части письма он писал:
«Вы видите, письмо мое помечено несколькими датами, и если вы взглянете на первую дату, то убедитесь, что я начал писать вскоре после вашего отъезда из Франции. Писать – было действительно единственным занятием, отвлекавшим меня от моей сердечной печали и помогавшим мне выносить ваше отсутствие, или, вернее, это как бы уничтожало отсутствие. Когда я беседовал с вами на бумаге, изливал перед вами все чувства и все муки моего сердца, вы как будто были со мною. Это занятие служило мне время от времени единственной отрадой, и я все откладывал отсылку моего письма, исключительно ради утешения дополнять его. Чуть только мне делалось особенно тоскливо на душе, я всякий раз делился с вами своей печалью и всегда находил утешение. А когда какое-нибудь, хоть малейшее обстоятельство зароняло искру радости в мою душу, я опять-таки прибегал к вам и получал отраженное удовлетворение. Таким образом, мое письмо – нечто вроде картины всей моей жизни и моих помыслов за последний месяц; и хотя оно было глубоко интересно для меня в то время, как я писал его, и, вероятно, по той же причине не будет безразличным и для вас, но для постороннего читателя оно, пожалуй, покажется пустячным и бессодержательным. Так всегда бывает, когда мы пытаемся изобразить тончайшие движения нашей души: они слишком тонки, чтобы быть замеченными, и их надо испытать, чтобы понять; равнодушный наблюдатель не оценит их, тогда как заинтересованное лицо почувствует, что все подобные описания несовершенны и бесполезны и хороши разве тем, что доказывают искренность пишущего и облегчают его страдания. Простите мне этот эгоизм, ведь я люблю!
Только что узнал я об одном обстоятельстве, которое примирит меня с необходимостью вернуться в полк. Я уже больше не смогу бродить по дорогим для меня местам, где я привык встречаться с вами мыслями. „Долина“ отдана в аренду! Я имею основание думать, что это произошло без вашего ведома, судя по тому, что говорила мне Тереза сегодня утром. Она плакала, бедняжка, рассказывая, что должна уйти от своей дорогой барышни и покинуть замок, где она провела так много лет. „И все это, – прибавила она, – сделалось вдруг, я даже не получила от барышни письма, которое облегчило бы мне это известие. Это все штуки месье Кенеля, а она, голубушка, даже и не подозревает, что здесь творится“.
По словам Терезы, она получила от Кенеля записку с извещением, что замок сдан в аренду и что так как в ее услугах более не нуждаются, то она должна убраться в течение недели, до приезда нового хозяина.
За несколько дней до этого письма Тереза была удивлена появлением Кенеля, которого сопровождал какой-то незнакомый господин, внимательно осматривавший все помещения…»
В конце письма, помеченного неделей спустя после этого, Валанкур прибавлял: «Я получил из полка предписание явиться и еду туда без сожаления, раз я отрезан от мест, столь дорогих моему сердцу. Сегодня утром я ездил верхом в „Долину“, узнал, что прибыл арендатор и что Тереза уехала. Я не стал бы говорить об этом так открыто, если б не думал, что вы даже не уведомлены о переменах, произошедших в вашем доме. Для вас я хотел навести справки и узнать кое-что о характере и социальном положении квартиранта – но безуспешно. Говорят, он дворянин – и это все, что я мог узнать. Вся усадьба, когда я бродил в окрестностях, показалась мне унылой и мрачной. Мне очень хотелось проникнуть туда, чтобы еще раз проститься с вашим любимым платаном и еще посидеть под его тенью, думая о вас, но я воздержался, чтобы не возбудить любопытства чужих людей. Однако рыбачья хижина в лесу была по-прежнему доступна для меня. Туда я направился и провел там час, о котором не могу вспомнить без волнения. О Эмилия, наверное, мы разлучены не навсегда, – несомненно, настанет время, когда мы будем жить друг для друга…»
Это письмо заставило Эмилию пролить немало слез – слез любви и радости, когда она узнала, что Валанкур жив, здоров и что время и разлука нисколько не изгладили ее образ и в его сердце. Некоторые места его письма особенно тронули ее: например, рассказ о поездках в «Долину» и чувства нежной привязанности, вызванные в нем видом ее родного дома. Не сразу, а немного погодя, оторвавшись мысленно от Валанкура, она хорошенько поняла все значение сообщенной им новости о «Долине». Что Кенель отдал усадьбу в аренду, даже не спросившись ее согласия, удивляло и возмущало ее до глубины души, так как этот поступок доказывал, что он считал себя вправе полновластно распоряжаться ее делами. Правда, он предлагал ей еще до отъезда из Франции отдать замок внаймы на время ее отсутствия, и против рассудительности такой меры с экономической стороны она ничего не могла возразить, но отдать дом своего отца на произвол чужих людей, лишить себя саму верного убежища в случае каких-нибудь неблагоприятных обстоятельств, – эти соображения даже и тогда заставили ее энергично воспротивиться такой мере.
Отец ее на смертном одре взял с нее слово никогда не продавать «Долину», и это обещание она считала до некоторой степени нарушенным тем, что усадьба сдана в аренду. Теперь для нее стало ясно, как мало уважал Кенель эти соображения и как мало значения он придавал всему, что не связано с материальными выгодами. Оказывалось, что он даже не удостоил известить Монтони о сделанном им распоряжении. Все это огорчало и удивляло Эмилию. Но более всего ее рассердило увольнение старой, верной служанки ее отца.
«Бедная Тереза, – думала Эмилия, – ты не много накопила за все время твоей службы, потому что всегда была милосердна к бедным и рассчитывала скоротать свой век в нашем доме. Бедная Тереза! Тебя выгнали вон на старости лет, оставив без крова и без куска хлеба!..»
Эмилия горько плакала, размышляя об этом. Она решила непременно что-нибудь сделать для Терезы и серьезно поговорить об этом с месье Кенелем, но сильно опасалась, что его холодное сердце не внемлет ее просьбам. Ей хотелось также выяснить, упоминал ли он о ее делах в письме своем к Монтони. К счастью, тот скоро доставил ей желаемый случай, попросив ее зайти к нему в кабинет для делового разговора. Она почти не сомневалась, что разговор коснется той части письма Кенеля, где говорилось о сдаче в аренду «Долины». Она тотчас же явилась на приглашение. Монтони был один.
– Я как раз пишу Кенелю, – обратился он к Эмилии, – в ответ на письмо, полученное мной от него несколько дней тому назад. Я желал поговорить с вами об одном деле, упомянутом между прочим в этом письме.
– И я желала поговорить с вами о том же, – отвечала Эмилия.
– Это предмет, несомненно, очень для вас интересный, – продолжал Монтони, – и мне кажется, вы должны взглянуть на него в том же свете, как смотрю я. Вы согласитесь со мною, что всякие возражения, основанные на сантиментах, как говорится, должны стушеваться перед соображениями солидной выгоды.
– Согласна с вами, – скромно подтвердила Эмилия, – но, по-моему, необходимо считаться с человеколюбием. Однако боюсь, что теперь уже поздно рассуждать об этом деле, я могу только пожалеть, что уже не в моей власти изменить его.
– Действительно, уже поздно, – сказал Монтони, – но раз это так, мне приятно видеть, что вы покоряетесь голосу рассудка, не вдаваясь в бесполезное нытье. Я одобряю ваш образ действия чрезвычайно, тем более что это признак душевной твердости, не совсем обычной у особ вашего пола. Когда будете постарше, вы с благодарностью вспомните о друзьях, помогавших вам избавиться от романтических иллюзий, убедитесь, что это ребяческие увлечения, с которыми надо распрощаться тотчас же по выходе из детской. Я еще не запечатал письма, и вы можете прибавить несколько строчек от себя, чтобы сообщить дяде о своем согласии. Вы скоро увидитесь с ним лично, так как я намерен повезти вас и мою жену в Миаренти, – там вы можете хорошенько переговорить обо всем.
На свободной странице письма Эмилия приписала следующее:
«Теперь мне уже бесполезно, милостивый государь, выражать свое мнение насчет того дела, о котором, по словам синьора Монтони, он уже писал вам. Могу только пожалеть, что все совершилось так поспешно; я не успела даже опомниться и подавить в себе кое-какие „предрассудки“ (по выражению синьора Монтони), которые все еще живы в моем сердце. Как бы то ни было, я покоряюсь. С точки зрения рассудительности, конечно, ничего нельзя возразить против вашего распоряжения. Но хотя я и покоряюсь, однако имею возразить очень много относительно других сторон предмета, что и выскажу вам при личном свидании. А пока умоляю вас позаботиться о Терезе, ради искренне преданной вам племянницы
Эмилии Сент-Обер».
Монтони насмешливо улыбнулся над припиской Эмилии, но не возразил ни слова. Она ушла к себе в комнату и села писать ответ Валанкуру, в котором подробно рассказала о своем путешествии и о приезде в Венецию, описала некоторые из наиболее поразительных сцен переправы через Альпы, изобразила свои чувства при виде Италии, рассказала об окружающих ее людях и о жизни Монтони. Но – ни слова о графе Морано, а тем более о его признании, хорошо зная, как боязлива истинная любовь, как ревниво она подкарауливает малейшие обстоятельства, могущие повредить ее интересам. Поэтому она тщательно избегала того, чтобы дать Валанкуру хотя бы малейший повод думать, что у него есть соперник.
На другой день граф Морано опять обедал в доме Монтони. Он был особенно в ударе, и Эмилии показалось, что в его обращении с нею сквозило как бы торжество, которого она раньше не замечала. Она пробовала побороть это восторженное его состояние, усилить свою обычную сдержанность, но ее холодность, вместо того чтобы действовать на него угнетающим образом, напротив, как будто поощряла его. По-видимому, он ждал случая объясниться с нею наедине и несколько раз просил ее уделить ему несколько минут. Но Эмилия неизменно отвечала, что не станет слушать ничего такого, что он не мог бы повторить при всех.
Вечером госпожа Монтони со своими гостями опять отправилась кататься на взморье. Граф, ведя Эмилию к своей гондоле, поднес ее руку к своим губам и поблагодарил за оказанную ему милость. Эмилия, крайне удивленная и раздосадованная, торопливо отдернула руку и была уверена, что он говорит иронически, но, дойдя до ступеней террасы и заметив по ливреям, что внизу ожидала гондола графа, между тем как остальная компания, разместившись в лодках, уже отплывала от берега, она не захотела оставаться наедине с графом и, пожелав ему доброго вечера, вернулась в портик. Граф последовал за нею с просьбами и упреками, но вышедший в эту минуту из дворца Монтони прекратил все это. Ни слова не говоря, он взял Эмилию за руку и повел ее назад к лодке. Эмилия уже не могла молчать, тихим голосом умоляла Монтони подумать, как неприлично ей ехать наедине с графом, и просила его избавить ее от такой необходимости. Но он ничего не хотел слушать.
В эту минуту нерасположение Эмилии к графу Морано дошло до отвращения. Что он с такой дерзкой самоуверенностью преследует ее, несмотря на ее видимое несочувствие его ухаживаниям, и что он, очевидно, думает, что ее личное мнение о нем ничего не значит, раз его притязания поддерживаются Монтони, – все это приводило Эмилию в еще большее негодование. Ее несколько успокоило то, что и Монтони поедет с ними; он поместился около нее по одну сторону, а Морано по другую. Несколько минут продолжалось молчание, пока гондольеры готовили весла. Эмилия со страхом ожидала, что последует за этой паузой. Наконец собралась с духом и сама нарушила молчание в надежде предупредить любезности Морано и выговоры Монтони. На какое-то пустое замечание ее со стороны Монтони последовал короткий, холодный ответ; но Морано тотчас же вступил в разговор и ухитрился закончить свою речь комплиментом по адресу Эмилии; ее холодность и невнимание нисколько не смутили его.
– Я с нетерпением ждал случая, – обратился он к Эмилии, – выразить вам мою благодарность за вашу доброту, но я должен также поблагодарить синьора Монтони, доставившего мне желанный случай.
Эмилия взглянула на графа с удивлением и досадой.
– О синьора, – отвечал граф, – зачем хотите испортить сладость этой минуты, притворяясь жестокой и холодной? Зачем хотите снова повергнуть меня в муки сомнений, стараясь своими взорами опровергнуть недавнюю милость? Вы не можете сомневаться в искренности и силе моей страсти, поэтому бесполезно, очаровательная Эмилия, совершенно бесполезно скрывать ваши чувства!
– Если я когда-нибудь скрывала их, – возразила Эмилия, успевшая овладеть собой, – то теперь было бы уже бесполезно долее маскировать их. Я надеялась, что вы избавите меня от дальнейшей необходимости касаться моих чувств, но раз вы этого не хотите, позвольте мне сказать вам – надеюсь, в последний раз, – что ваша настойчивость лишает вас даже того уважения, которое я готова была оказывать вам.
– Поразительно! – воскликнул Монтони. – Уж этого я никак не ожидал, хотя до сих пор отдавал должную справедливость женским капризам! Но позвольте вам заметить, мадемуазель Эмилия, что ведь я не влюбленный, как граф Морано, и не позволю с собою шутить! Вам делают предложение, которое оказало бы честь девице любой знатной фамилии, а ваша фамилия вовсе не знатная – не забывайте этого. Вы долго противились моим советам, но теперь задета моя честь, и я не дам себя морочить. Вы исполните то, что поручили мне передать графу.
– Очевидно, вы ошибаетесь, – возразила Эмилия, – мой ответ на предложение всегда был один и тот же. Несправедливо обвинять меня в капризах. Я все время уверяла графа Морано, да и вас также, что не могу принять его предложение, – и теперь повторяю то же.
Граф взглянул на Монтони с удивлением, лицо Монтони выражало также удивление с примесью негодования.
– Здесь уже нет более каприза! – воскликнул он. – Неужели вы станете опровергать ваши собственные слова?
– Подобный вопрос недостоин даже ответа, – проговорила Эмилия, вспыхнув. – Впоследствии вы опомнитесь и пожалеете о сказанном.
– К делу! – воскликнул Монтони раздраженным тоном. – Намерены вы отречься от своих же слов? Намерены отрицать, что признались мне, не далее как несколько часов тому назад, что теперь уже поздно отступать от вашего обстоятельства и что вы принимаете предложение графа?
– Я отрицаю все это, потому что не говорила ничего подобного!
– Удивительно! Вы отрицаете то, что написали господину Кенелю, вашему дяде? Если отрицаете, так ведь и против вас есть доказательство – письмо, написанное вашей собственной рукой. Что вы на это скажете?
Монтони не спускал глаз с Эмилии и заметил ее смущение.
– Я убеждаюсь, синьор, что вы находитесь под влиянием страшного заблуждения и что я тоже ошибалась.
– Пожалуйста, без уверток, будьте откровенны и чистосердечны, если это возможно…
– Я всегда была такою – мне нечего скрывать.
– Скажите, однако, что все это значит? – воскликнул Морано в волнении.
– Погодите выражать ваше мнение, граф, – отвечал Монтони, – лукавство женского сердца неисповедимо. Ну-с, слушаем ваше объяснение, сударыня!
– Простите, синьор, но я воздержусь от объяснений до тех пор, пока вы не обещаете поверить мне. Иначе все мои слова подадут только повод к оскорблениям с вашей стороны.
– Объяснитесь, прошу вас! – умолял Морано.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказал Монтони, – так и быть, я обещаю верить вам, послушаем ваше объяснение.
– Сперва позвольте мне задать вам один вопрос.
– Сколько угодно, – презрительно уронил Монтони.
– О чем было ваше письмо господину Кенелю?
– О том же, о чем была ваша приписка, само собою разумеется. Вы хорошо сделали, попросив моего доверия, прежде чем задали этот вопрос.
– Попрошу вас выражаться точнее. О чем было письмо?
– О чем же, как не о лестном предложении графа Морано? – отвечал Монтони.
– В таком случае мы совершенно не поняли друг друга, – сказала Эмилия.
– Так, по-вашему, мы не понимали друг друга и в разговоре, предшествовавшем приписке? Ну, синьора, я должен отдать вам справедливость. Вы большая мастерица по части всяких недоразумений.
Эмилия старалась удержать слезы, навернувшиеся ей на глаза, и отвечать с надлежащей твердостью:
– Позвольте мне объясниться до конца или же совсем замолчать.
– Теперь уже можно обойтись без объяснения: заранее можно предвидеть, в чем оно будет заключаться. Если же граф Морано все еще считает его нужным, то я объясню ему начистоту, что вы просто переменили свое решение со времени нашего последнего разговора, и если у него хватит терпения и покорности подождать до завтра, то он, вероятно, убедится, что вы опять передумаете; но у меня-то нет ни терпения, ни покорности, которых вы ожидаете от влюбленного. Предупреждаю вас, что я вам не прощу.
– Монтони, вы слишком торопитесь! – вмешался граф, слушавший этот разговор в сильном волнении и нетерпении. – Синьора, умоляю вас, растолкуйте мне сами, в чем дело.
– Синьор Монтони сказал правду, – отвечала Эмилия, – что теперь можно избегнуть всякого объяснения. После всего случившегося я не скажу ничего нового. Мне достаточно, да и вам также, граф, если я повторю свое последнее заявление. Позвольте мне надеяться, что это будет в последний раз: я никогда не соглашусь принять ваше предложение.
– Очаровательная Эмилия! – воскликнул граф с пылким чувством. – Не будьте несправедливы под влиянием гнева, не карайте меня за проступок Монтони. Смилуйтесь!..
– Проступок? – прервал Монтони. – Граф, ваши речи неуместны, ваша покорность чисто ребяческая. Говорите как мужчина, а не как раб тирана…
– Вы меня приводите в отчаяние, синьор, позвольте мне самому отстаивать мои интересы, вы уже доказали свою несостоятельность по этой части.
– Все разговоры на эту тему более чем бесполезны, – сказала Эмилия, – они могут только измучить нас обоих. Сделайте мне одолжение, перестаньте об этом говорить.
– Я не в состоянии, синьора, так легко отказаться от любви, которая составляет и счастье, и мучение моей жизни. Я не могу перестать любить, не могу не преследовать вас со всем жаром моей страсти. Когда вы убедитесь в силе и постоянстве ее, ваше сердце смягчится жалостью и раскаянием.
– Разве это великодушно? Разве это достойно мужчины? Заслуживаете ли вы уважения, если намерены продолжать преследования, от которых я не имею пока никаких средств избавиться?
Лунный свет, скользнув по лицу Морано, обнаружил его душевное волнение и, коснувшись Монтони, осветил черты, искаженные злобой.
– Клянусь Богом! Это уже слишком! – вдруг воскликнул граф. – Синьор Монтони, вы дурно обошлись со мной, от вас я жду объяснений.
– От меня вы их и получите, – пробормотал Монтони, – если ваш рассудок действительно так омрачен страстью, что вам еще нужны объяснения! А вы, сударыня, знайте, что честного человека нельзя морочить безнаказанно, как вы морочите мальчишку!..
Этот сарказм поднял всю гордость Морано. Равнодушие Эмилии бесило его, но это чувство сменилось негодованием, возбужденным дерзостью Монтони, и он решил еще более раздосадовать его, защищая Эмилию.
– И это тоже, – проговорил он, отвечая на последние слова Монтони, – и это тоже не пройдет даром. Было бы вам известно, синьор, что вам придется иметь дело не со слабой женщиной, а с более сильным врагом! Я буду защищать синьору Сент-Обер против вашей злобы. Вы обманули меня и за свою неудачу мстите невинной жертве.
– Я обманул вас?! – с живостью возразил Монтони. – Граф Морано, к таким речам, к такому обращению я не привык! Это поведение вспыльчивого мальчишки – и я отношусь к нему с презрением.
– С презрением, синьор?
– Ради чувства самоуважения, – возразил Монтони, – мне необходимо серьезно поговорить с вами. Вернитесь со мною в Венецию, и я удостою убедить вас в вашей ошибке.
– Удостоите! Но я-то не удостою вас разговором.
Монтони презрительно усмехнулся, а Эмилия, ужасаясь последствий этого столкновения, не могла долее молчать. Она рассказала, каким образом ошиблась поутру насчет значения слов Монтони, думая, что он говорит исключительно об отдаче ее усадьбы в аренду; в заключение она просила Монтони тотчас же написать Кенелю и исправить ошибку.
Но Монтони все не верил ее искренности или притворялся неверящим, а граф Морано продолжал оставаться в недоумении. Однако, пока она говорила, внимание ее собеседников было отвлечено от ближайшего предмета спора и поэтому их страсти несколько поулеглись. Монтони пожелал, чтобы граф приказал своим людям грести назад в Венецию, где хотел переговорить с ним с глазу на глаз, и Морано, немного успокоенный смягченным тоном его голоса, а также горя нетерпением получить разъяснения, согласился на его просьбу.
Эмилия, радуясь скорой возможности избавиться от своих собеседников, старалась напоследок как-нибудь примирить их и предупредить роковое столкновение между лицами, которые так неделикатно преследовали и оскорбляли ее.
Она оживилась, когда опять услыхала звуки песен и веселья, раздававшиеся с Большого канала, и когда наконец лодка поплыла по каналу между двух рядов величественных дворцов.
Гондола остановилась перед домом Монтони. Граф поспешно проводил Эмилию в вестибюль; там Монтони взял его под руку и что-то сказал ему тихим голосом. Тогда граф поцеловал руку Эмилии, несмотря на ее старания отдернуть руку, и, пожелав ей доброго вечера, вернулся к лодке вместе с Монтони.
Очутившись в своей комнате, Эмилия с беспокойством стала обдумывать положение дел: несправедливые, тиранические выходки Монтони, назойливые ухаживания Морано и свою собственную безотрадную судьбу, без друзей, без родных, на чужой стороне… Напрасно было бы рассчитывать на покровительство Валанкура, который был далеко, связанный своей службой, но ей было радостно думать, что хоть одна душа в мире способна отозваться сочувственно на ее горе и желает помочь ей. Однако она решила не тревожить Валанкура понапрасну, сообщая ему, как оправдалось на деле его дурное мнение о Монтони. Но даже и теперь она все-таки не жалела, что ради чувств деликатности и бескорыстной привязанности к жениху отвергла его просьбу обвенчаться тайно. На предстоящее свидание с дядей она возлагала некоторую надежду, так как намеревалась описать ему свое ужасное положение и просить его и госпожу Кенель взять ее с собой во Францию. Но, вспомнив вдруг, что ее возлюбленная «Долина», ее родное убежище уже не в ее распоряжении, она заплакала горькими слезами. Нечего ждать жалости, думала она, от такого человека, как Кенель, который распорядился усадьбой, даже не спросившись ее совета, да еще прогнал старую служанку, лишив ее крова и хлеба. Но хоть и у самой Эмилии уже не было более убежища во Франции и мало, очень мало друзей на родине, она все же жаждала вернуться туда при первой возможности, чтобы избавиться от ужасной власти Монтони. Она не рассчитывала поселиться у своего дяди Кенеля: его отношение к ее покойному отцу и к ней было всегда таким, что прибегнуть теперь к его помощи значило бы только переменить одного деспота на другого. Точно так же она не имела ни малейшего намерения согласиться на предложение Валанкура обвенчаться немедленно, хотя это доставило бы ей законного и великодушного покровителя, ведь главные причины, повлиявшие на ее тогдашний отказ, не исчезли и теперь. Интересы Валанкура, его доброе имя во всякое время были ей слишком дороги, чтобы согласиться на брак, который в эту раннюю пору их жизни, по всей вероятности, погубил бы их обоих. Во Франции для нее все-таки было всегда открыто одно верное убежище. Она знала, что может приютиться в монастыре, где ее когда-то принимали так ласково и где лежат дорогие для нее останки отца. Там она могла жить в безопасности и спокойствии до тех пор, пока истечет срок аренды «Долины» или пока дела Мотвиля устроятся настолько, что ей будут возвращены остатки отцовского состояния.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































