Текст книги "Событие"
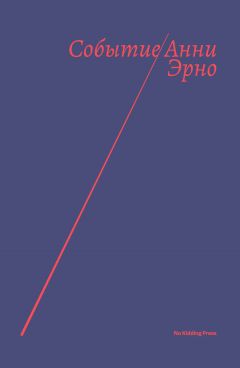
Автор книги: Анни Эрно
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Позже я буду вспоминать, как она часто моргала, как то и дело поджимала и прикусывала нижнюю губу, как во всем ее образе сквозило что-то затравленное, и пойму, что она тоже боялась. Но как меня было не удержать от аборта, так и она была твердо намерена его сделать. В первую очередь из-за денег. Возможно, она также чувствовала, что нужна женщинам. А еще втайне гордилась, что хотя целыми днями выносит судна из-под больных и рожениц, но в своей крошечной квартирке в проходе Кардинет обладает такой же властью, что и врачи, которые едва с ней здороваются. Так что приходилось брать большие деньги: за риски, за непризнанное мастерство, за то, что о ней всегда будут вспоминать со стыдом.
После первого визита в проход Кардинет я начала принимать пенициллин, и во мне не осталось ничего, кроме страха. Я представляла кухню и комнату мадам П.-Р. и старалась даже не думать о том, что меня там ждет. В университетской столовой я сказала девушкам, что мне будут удалять большую родинку на спине, и я боюсь. Они были удивлены, что я так переживаю из-за такой безобидной процедуры. Но я испытала облегчение, когда сказала, что мне страшно: на секунду я поверила, что вместо кухни и старой сиделки меня ждут белоснежная операционная и хирург в резиновых перчатках.
(Сейчас невозможно почувствовать то, что я испытывала тогда. Лишь случайно, когда я замечаю в очереди в супермаркете или на почте женщину лет шестидесяти, грубую и неприятную на вид, и представляю, что она собирается засунуть мне во влагалище неизвестный предмет, я на мгновение приближаюсь к тому состоянию, в котором тогда находилась целую неделю.)
В среду 15 января около полудня я села на поезд до Парижа. Я приехала в XVII округ больше чем за час до назначенного времени. Побродила по улицам вокруг прохода Кардинет. Было тепло и влажно. Я зашла в церковь Сен-Шарль-Бороме, долго сидела там и молилась, чтобы мне не было больно. Время еще не пришло. Я присела выпить чаю в кафе недалеко от прохода Кардинет. Кроме меня там было только несколько студентов, они сидели за соседним столиком, играли в карты и перебрасывались шуточками с хозяином. Я то и дело смотрела на часы. Прежде чем уйти, я зашла в туалет – детская привычка подстраховаться перед важным событием. Я посмотрелась в зеркало над раковиной и подумала что-то вроде: «всё это происходит со мной» и «я не выдержу».
У мадам П.-Р. всё было готово. На плите я увидела кастрюлю с кипящей водой – должно быть, там лежали инструменты. Она провела меня в комнату. Казалось, ей не терпится начать. К кровати был приставлен стол, накрытый белым полотенцем. Я сняла колготки и трусы. Черную юбку, кажется, оставила – она была широкая. Пока я раздевалась, мадам П.-Р. спросила: «У вас было много крови, когда вы лишились девственности?» Она велела мне лечь верхней частью тела на кровать, головой на подушку, а поясницей – на стол, согнув ноги. Во время этих приготовлений она продолжала говорить и еще раз уточнила, что лишь вставит мне зонд, больше ничего. Она рассказала, что на прошлой неделе одну мать семейства нашли мертвой на обеденном столе – какая-то женщина ввела ей хлорку, да так ее и оставила. Мадам П.-Р. говорила горячо и явно была возмущена таким вопиющим непрофессионализмом. Ей хотелось меня обнадежить. Но я предпочла бы этого не слышать. Позже я пойму, что она постоянно стремилась к совершенству в своем ремесле.
Она села к столу, у изножья кровати.
Я видела окно с занавесками, о́кна домов напротив, седую голову мадам П.-Р. между своих ног. Я не думала, что когда-нибудь окажусь здесь. Возможно, я представила, как в это самое время другие девушки сидят над книгами в университете, как моя мама напевает за глажкой, как П. шагает по улице в Бордо. Но необязательно думать о чем-то, чтобы оно было. Наверное, само знание о том, что для большинства людей жизнь идет своим чередом, заставляло меня повторять про себя: «Что я здесь делаю?»
И вот я дошла до сцены в той комнате. Она не поддается анализу. Я могу лишь погрузиться в нее. Мне кажется, что женщина, орудующая между моих ног, вводя расширитель, рожает меня.
В тот момент я убила в себе свою мать.
Многие годы я вспоминала ту комнату и те занавески так, как видела их, лежа на кровати. Быть может, сейчас там светлое помещение, обставленное мебелью из «Икеи», одна из комнат квартиры молодого руководителя, который купил весь этаж. Но я уверена: она до сих пор хранит в себе воспоминания обо всех девушках и женщинах, что приходили туда, чтобы их проткнули зондом.
Боль была чудовищная. Мадам П.-Р. говорила «не кричи, моя девочка» и «мне надо сделать свою работу»; а, возможно, другие слова, которые означали лишь одно: нужно идти до конца. Те же слова я встречала потом в рассказах женщин, сделавших подпольный аборт, будто в эти моменты слова могут звучать только такие – о необходимости и иногда о сострадании.
Не помню, сколько времени ушло на то, чтобы вставить зонд. Я плакала. Мне больше не было больно, осталось лишь ощущение тяжести в животе. Мадам П.-Р. сказала, что всё готово и нельзя ничего трогать. Она подложила мне большой кусок ваты на случай, если у меня отойдут воды. Я могу спокойно ходить в туалет, гулять. Через день-два оно выйдет, а если нет, надо ей позвонить. Мы вместе выпили кофе на кухне. Мадам П.-Р. тоже была рада, что дело сделано. Я не помню, в какой момент отдала ей деньги.
Она беспокоилась о том, как я вернусь домой. Предложила проводить меня до станции Пон-Кардинет, а оттуда можно было доехать на поезде прямо до Сен-Лазар. Мне хотелось уйти одной и больше никогда ее не видеть. Но я боялась обидеть ее отказом. Тогда я не догадывалась, что ее забота была вызвана страхом, что меня найдут без сознания на пороге ее дома. Она надела пальто, но осталась в тапочках.
На улице всё вдруг стало нереальным. Мы шагали рядом прямо по проезжей части прохода Кардинет. Казалось, в конце путь перекрыт стеной здания, оставляющей лишь полоску света. Сцена эта длилась медленно, день был уже не такой ясный. Ничто в моем детстве и прежней жизни не готовило меня к этому. Мимо прошли люди. Мне показалось, что они смотрят на нас и понимают, что́ сейчас произошло. Я чувствовала, что от меня отвернулся весь мир, кроме этой старухи в черном пальто, которая провожала меня, словно была моей матерью. При свете дня, вне своего логова, она внушала мне отвращение своей серой кожей. Меня спасала женщина, похожая или на ведьму, или на старую сутенершу.
Она купила мне билет и посадила на поезд до Сен-Лазар.
(Теперь я уже не уверена, что она была в тапочках. То, что я причисляю ее к женщинам, которые выходят в тапочках в магазин на углу, говорит об одном: для меня она – представительница рабочего класса, от которого я тогда всеми силами старалась отдалиться.)
Шестнадцатого и семнадцатого января я ждала схваток. Я написала П., что больше никогда не хочу его видеть, а родителям – что не приеду на выходные, так как иду на «Венские вальсы» (афиши висели по всему Руану, это было моим алиби, которое они могли проверить в любой газете).
Ничего не происходило. Боли не было. Вечером 17-го, в пятницу, я позвонила мадам П.-Р. из почтового отделения у вокзала. Она велела мне прийти к ней на следующее утро. С 1 января мой дневник молчит, а 17-го там записано: «Всё еще жду. Завтра опять пойду к акушерке: у нее не получилось».
В субботу 18-го я села на ранний поезд до Парижа. Было очень холодно, повсюду лежал снег. В вагоне за мной сидели две девушки, они без конца разговаривали и смеялись. Я слушала их и чувствовала, что у меня больше нет возраста.
Мадам П.-Р. встретила меня возгласами, какой нынче мороз, и быстро провела в дом. На кухне сидел мужчина в берете, помоложе нее. Увидев меня, он не удивился и не смутился. Не помню, ушел он или остался, но несколько слов он точно произнес: я еще подумала, что он итальянец. На столе стоял таз, от которого поднимался пар, внутри плавала узкая красная трубка. Я поняла, что это новый зонд, и мадам П.-Р. собирается мне его вставить. Первого я не видела. Этот был похож на змею. Рядом с тазом лежала расческа.
(Если бы мне нужно было изобразить это событие моей жизни в одной картине, я бы нарисовала столик у стены, накрытый клеенкой, а на нем эмалированный таз, где плавает красный зонд. Чуть правее – расческа. Но не думаю, что хоть в одном музее мира висит полотно «Мастерская фабрикантши ангелов».)
Как и в первый раз, мадам П.-Р. провела меня в комнату. Я больше не боялась того, что она собиралась делать. Больно не было. Вынимая из меня зонд, чтобы заменить его на новый, она воскликнула: «Да у вас тут дело идет вовсю!» Такую фразу могла бы сказать настоящая акушерка. До того момента я не думала, что всё это можно сравнить с родами. Она не потребовала доплаты, только попросила вернуть зонд: было сложно достать такую модель.
На обратном пути в моем купе сидела женщина и без конца подпиливала ногти.
Практическая роль мадам П.-Р. на этом закончилась. Она выполнила свою работу – запустила процесс уничтожения проблемы. За дальнейшую помощь я ей не платила.
(Пока я пишу это, косовские беженцы в Кале пытаются нелегально попасть в Англию. Перевозчики берут с них огромные деньги и порой исчезают еще до переправы. Но косоваров не остановить, как не остановить всех мигрантов из бедных стран: у них нет другого пути к спасению. Перевозчиков преследует закон, их осуждают, как тридцать лет назад осуждали абортщиц. Но никто ни в чем не винит закон и мировой порядок. И наверняка среди контрабандистов, вывозящих иммигрантов, как прежде среди контрабандисток, избавляющих от детей, есть и настоящие подлецы, и честные люди.
Я как можно скорее вырвала из своей книжки страницу с фамилией мадам П.-Р., но забыть ее так и не смогла. Шесть-семь лет спустя у меня был ученик с такой же фамилией. Молчаливый блондин с плохими зубами, слишком высокий и слишком взрослый для шестого класса. Всякий раз, когда я вызывала его к доске или видела его фамилию на письменной работе, я вспоминала женщину из прохода Кардинет. Этот мальчик был для меня неразрывно связан со старой подпольной акушеркой; мне казалось, что он ее внук. А мужчина, который сидел тогда на кухне у мадам П.-Р. и, вероятно, был ее сожителем, мерещился мне потом на протяжении нескольких лет в продавце из галантерейного магазинчика в Анси, на площади Нотр-Дам. Это был итальянец с сильным акцентом, в туго натянутом на голову берете. Сейчас я уже не могу отличить копию от оригинала и, вспоминая проход Кардинет и морозную январскую субботу, вижу там того, кто в семидесятых годах, стоя рядом с подвижной женщиной без возраста, продавал мне ленты и пуговицы.)
Сойдя с поезда, я позвонила доктору Н. и сказала, что мне вставили зонд. Возможно, я надеялась, что он пригласит меня в кабинет, как месяцем ранее, и продолжит дело мадам П.-Р. Он помолчал, а затем посоветовал мне принять мазогинестрил[3]3
Я точно не помню, как называлось то маточное болеутоляющее, его больше не продают.
[Закрыть]. По его тону я поняла, что меньше всего он хочет меня видеть и что мне не стоит больше звонить.
(Я не могла тогда представить – сейчас уже могу – как его прошиб пот, когда он, сидя за своим столом, услышал от девушки, что она уже три дня разгуливает с зондом в матке. Как он оцепенел перед выбором. Если он согласится ее принять, то по закону должен будет немедленно извлечь это устройство и продолжить нежелательную беременность. Если откажет, девушка может умереть. Надо выбрать меньшее из двух зол, и он совсем один. Итак, мазогинестрил.)
Я зашла в ближайшую аптеку, напротив «Метрополя», чтобы купить лекарство, назначенное доктором Н. «У вас есть рецепт? – спросила меня продавщица. – Без рецепта не отпускается». Я стояла посреди аптеки. Два или три фармацевта в белых халатах смотрели на меня из-за прилавка. Отсутствие рецепта свидетельствовало о моей вине. Мне казалось, они видят зонд сквозь одежду. Это одна из тех минут, когда я была ближе всего к отчаянию.
(У вас есть рецепт? Нужен рецепт! До сих пор я не могу без содрогания слышать эти слова и видеть, как каменеет лицо фармацевта при отрицательном ответе.
Когда я пишу, мне порой приходится сдерживать порывы ярости и боли. Я не хочу, чтобы в этом тексте было то, чего не было в тот момент в реальности – а тогда я не кричала и не плакала. Я лишь хочу запечатлеть то ощущение, когда несчастье словно хлынуло на меня тихим потоком при словах фармацевта или при виде расчески рядом с тазом воды, где плавал зонд. Смятение, которое я испытываю, когда вспоминаю какие-то образы или слышу определенные слова, едва ли сравнится с тем, что я чувствовала тогда – это лишь литературная эмоция. То есть эмоция, которая делает письмо возможным и подтверждает его достоверность.)
По выходным в общежитии оставались только иностранные студентки и несколько девушек, чьи родители жили далеко. Университетская столовая была закрыта. Но мне и не хотелось ни с кем говорить. Помню, что страха уже не было, лишь спокойствие, какое возникает, когда остается только ждать.
Я не могла ни читать, ни слушать пластинки. Я взяла лист бумаги и нарисовала проход Кардинет, как запомнила его, когда уходила от акушерки: высокие стены сближаются, вдали – просвет. Это единственный случай в моей взрослой жизни, когда мне захотелось что-то нарисовать.
В воскресенье днем я гуляла по холодным, залитым солнцем улицам Мон-Сен-Эньян. Зонд меня больше не беспокоил. Он был частью моей утробы, союзник, которого я упрекала лишь в том, что он действует недостаточно быстро.
Запись в дневнике 19 января: «Небольшие боли. Интересно, сколько времени нужно, чтобы эмбрион погиб и вышел из меня? Этажом выше играли „Марсельезу“ на горне, смеялись. Всё это – жизнь».
(Итак, несчастьем это не было. Чем это было на самом деле – ответ надо искать в потребности снова представить себя в той комнате в то воскресенье, которую я испытывала восемь лет спустя, когда писала свою первую книгу, «Пустые шкафы». В стремлении уместить в этом воскресенье и в этой комнате всю свою жизнь до двадцати лет.)
К утру понедельника я уже пять дней жила с зондом внутри. Около полудня я села на поезд, чтобы наскоро навестить родителей: я не была уверена, что в следующую субботу буду в состоянии это сделать. Наверное, я как обычно бросила монетку, чтобы решить, стоит ли так рисковать. Потеплело, и мама проветривала спальни. Я проверила свои трусы. Они были пропитаны кровью и водой от зонда, который начинал вылезать из влагалища. Я смотрела на маленькие соседские домики и сады – всё те же, что и в моем детстве.
(На это воспоминание накладывается другое, девятью годами раньше. Большое розовое пятно из крови и других выделений нашей кошки. Она умерла апрельским днем на моей подушке, пока я была в школе. К моему приходу ее уже похоронили с мертвыми котятами внутри.)
Я вернулась в Руан на четырехчасовом поезде. Он шел всего сорок минут. Как обычно, я увозила с собой растворимый кофе, сгущенку и печенье.
В тот вечер в киноклубе «Ля Фалюш» показывали фильм «Броненосец Потемкин». Я пошла с О. Боль, на которую я сначала не обратила внимания, спазмами сжимала мне живот. При каждой схватке я задерживала дыхание и не мигая смотрела на экран. Спазмы учащались. Я уже не следила за сюжетом. Вдруг показали огромный кусок мяса на крючке, кишащий червями. Это последнее, что я помню из фильма. Я вскочила и побежала в общежитие. Упала на кровать и вцепилась в изголовье, сдерживая крик. Меня вырвало. Потом пришла О.; фильм уже закончился. Она не знала, что делать. Села рядом, советовала мне дышать по-собачьи – так говорят женщинам при родах. Я могла ловить воздух ртом только в перерывах между приступами боли, а они не прекращались. Было уже за полночь. О. сказала, чтобы я звала ее, если понадобится, и пошла спать. Мы обе не знали, что будет дальше.
Внезапно мне жутко захотелось какать. Я побежала в туалет на другом конце коридора и села на унитаз лицом к двери. Я видела плитку кафеля между своими ляжками. Я тужилась изо всех сил. Оно вырвалось из меня, как граната, в потоке воды, обдав всё брызгами до самой двери. Я увидела, что из моей вагины свисает куколка на красноватой пуповине. Я и представить не могла, что ношу это в себе. Мне надо было вернуться с ним в комнату. Я взяла его в руку – оно оказалось неожиданно тяжелым – и пошла по коридору, зажав его между бедрами. Я была как зверь.
Из приоткрытой двери О. виднелся свет. «Я всё», – тихо позвала я.
Мы вдвоем в моей комнате. Я сижу на кровати с зародышем между ног. Мы не знаем, что делать. Я говорю О., что надо обрезать пуповину. Она берет ножницы. Мы не знаем, где резать, но она делает это. Мы смотрим на крохотное тельце с большой головой, глаза под прозрачными веками – как два голубых пятна. Оно похоже на индийскую куклу. Мы смотрим на половые органы. Кажется, виден зачаток пениса. Подумать только, я способна создать такое. О. садится на табурет и плачет. Мы обе беззвучно плачем. Этой сцене нет имени, это жизнь и смерть вместе. Это жертвоприношение.
Мы не знаем, что делать с плодом. О. приносит из комнаты бумажный пакет из-под печенья, и я опускаю туда тельце. Иду с пакетом в туалет. Кажется, будто в нем камень. Я переворачиваю пакет над унитазом. Спускаю воду.
В Японии абортированных эмбрионов называют «мизуко» – дети воды.
Всё, что мы делали той ночью, происходило само собой. В тот момент наши действия были единственно возможными.
Буржуазные убеждения и идеалы О. не готовили ее к тому, чтобы перерезать пуповину трехмесячного плода. Сейчас, возможно, она вспоминает этот эпизод как необъяснимое нарушение порядка, аномалию в ее жизни. Возможно, осуждает аборты. Но тогда рядом со мной была именно она. Именно ее маленькое, искаженное слезами личико я запомнила с той ночи, когда ей пришлось сыграть роль акушерки в комнате номер семнадцать женского общежития.
У меня продолжалось кровотечение. Сначала я не обратила на это внимания, думала, что всё уже позади. Кровь, пульсируя, вытекала из обрезанной пуповины. Я неподвижно лежала на кровати, а О. подавала мне полотенца, которые мгновенно пропитывались кровью. Я не хотела обращаться к врачам: до сих пор мне удавалось обходиться без них. Я попробовала встать, но у меня потемнело в глазах, и я подумала, что умру от потери крови. Я крикнула О., что мне срочно нужен врач. Она побежала вниз, стала стучать к консьержу, но тот не открывал. Затем послышались голоса. Я была уверена, что уже потеряла слишком много крови.
С появлением на сцене дежурного врача начинается второй акт той ночи. На смену чистейшему опыту жизни и смерти приходит огласка и осуждение.
Он сел на кровать и схватил меня за подбородок: «Зачем ты это сделала? Как ты это сделала? Отвечай!» Он буравил меня взглядом, его глаза сверкали. Я умоляла его не дать мне умереть. «Смотри на меня! Поклянись больше так не делать! Никогда!» Глядя в его безумные глаза, я подумала, что он действительно может бросить меня умирать, если я не поклянусь. Он достал бланки для рецептов. «Ты поедешь в больницу Отель-Дье». Я сказала, что хочу в клинику. Он настойчиво повторил: «В Отель-Дье», подразумевая, что больница – самое место для такой, как я. Он велел мне заплатить за вызов. Я не могла подняться. Он открыл ящик моего стола и взял деньги из кошелька.
(Я только что обнаружила среди бумаг эту сцену, уже записанную несколько месяцев назад. Я вижу, что тогда использовала точно эти же слова – «он действительно может бросить меня умирать», и так далее. И когда я думаю о своем аборте в туалете, мне по-прежнему приходят в голову те же сравнения: разрыв снаряда или гранаты, затычка, выскакивающая из бочки. Я не могу описать это другими словами, та реальность намертво связана с этими образами и не оставляет места другим. Наверное, это доказательство того, что я действительно прожила это событие именно так.)
Меня вынесли из комнаты на носилках. Всё было размыто, я забыла очки. Антибиотики, самообладание, которое я проявила в первой части той ночи, – всё оказалось напрасно: я всё равно попала в больницу. У меня было ощущение, что до кровотечения я всё делала правильно. Я пыталась понять, где допустила ошибку. Наверное, пуповина: ее не надо было перереза́ть. Но от меня уже ничего не зависело.
(Думаю, то же самое можно будет сказать, когда я закончу эту книгу. Моя решимость, мои усилия, вся эта тайная, даже подпольная работа – никто ведь не подозревает, что я об этом пишу, – всё тут же исчезнет. Я лишусь всякой власти над своим текстом, он будет выставлен на обозрение, как когда-то мое тело в Отель-Дье.)
Меня положили на каталку в холле перед лифтом. Мимо ходили люди, я ждала своей очереди, а меня всё никак не увозили. Пришла девушка с огромным животом, с ней женщина, должно быть, ее мать. Девушка сказала, что ей пора рожать. Медсестра возразила, что еще рано. Девушка хотела остаться, разгорелся спор, затем они с матерью ушли. Медсестра пожала плечами: «Ходит уже две недели!» Насколько я поняла, этой девушке было двадцать лет, не замужем. Она сохранила ребенка, но обращались с ней не лучше, чем со мной. Девушка, сделавшая аборт, и мать-одиночка из бедных районов Руана были в одной лодке. Возможно, ее презирали даже больше, чем меня.
Я лежала голая в резком свете операционной, мои ноги были согнуты в коленях, широко раздвинуты и привязаны ремнями. Я не понимала, зачем меня оперировать, из моего живота уже нечего было вынимать. Я умоляла молодого хирурга сказать, что́ он собирается со мной делать. Он встал между моими разведенными бедрами и крикнул: «Я вам не сантехник!» Это было последнее, что я слышала перед тем, как подействовал наркоз.
(«Я вам не сантехник!» Эти слова до сих пор эхом отдаются у меня в голове, как и все фразы, сопровождающие это событие. Фразы самые обычные, люди произносили их не думая. Но сколько бы их ни повторяли, сколько бы ни объясняли их социально-политические истоки, ничто не уменьшит жестокости этих слов: я их не «ожидала». На мгновение у меня перед глазами встает мужчина в белом халате и резиновых перчатках, он бьет меня и кричит: «Я вам не сантехник!» Возможно, он взял эту фразу из какого-то скетча Фернана Рейно, над которым в то время смеялась вся Франция. Но она до сих пор определяет для меня иерархию общества, словно дубинкой отгоняя рабочих и женщин, делающих аборт, от врачей. Нижестоящих от вышестоящих.)
Я очнулась, была ночь. Я услышала, как вошла женщина и крикнула, чтобы я наконец умолкла. Я спросила, удалили ли мне яичники. Она грубо ответила, что мне просто сделали выскабливание. Я лежала в палате одна, в больничной рубашке. Слышался плач младенца. Мой живот был бесформенным мешком.
Я поняла, что той ночью потеряла тело, которым обладала с юности. С живой и сокровенной вагиной, которая могла принять мужской член, от этого не меняясь – лишь становясь еще живее и еще сокровеннее. Теперь мою вагину выставили напоказ и истерзали, а живот выскоблили и вывернули наружу. Теперь это тело – как у моей матери.
Я взглянула на бумажку, привязанную к спинке кровати. Там было написано «гравидная матка». Я впервые видело слово «гравидная», и оно мне не понравилось. Но я вспомнила латинское «gravidus» – тяжелый – и всё стало ясно. Я не понимала, почему так написали, ведь я уже не была беременна. Наверное, не хотели предавать огласке то, что со мной произошло.
В полдень мне принесли кусок вареного мяса на тарелке, полной размякшей капусты с прожилками. Я не смогла к ним притронуться. У меня было чувство, что меня кормят моей же плацентой.
Из коридора доносился оживленный гул. Казалось, он исходит от тележки с едой. Периодически слышался громкий женский голос: «Сливки для кормящей мадам X или Y». Какая, должно быть, честь.
Пришел врач-практикант, который ночью делал мне операцию. Он сидел в глубине палаты и выглядел смущенно. Я подумала, что ему стыдно за то, что он плохо обращался со мной в операционной. Мне стало за него неловко. Но я ошибалась. Стыдно ему было лишь за то, что он обошелся со студенткой филологического факультета, как с работницей текстильного завода или с продавщицей из дешевого магазина «Монопри». Я поняла это в тот же вечер.
Свет уже давно был выключен. Седая женщина, дежурившая по ночам, снова вошла ко мне в палату и тихо приблизилась к изголовью кровати. В полумраке ночника ее лицо показалось мне доброжелательным. Она шепотом упрекнула меня: «Почему вы вчера ночью не сказали доктору, что вы как он?» Несколько секунд я недоумевала, а потом поняла, что она имела в виду: «из его круга». Он узнал, что я студентка, уже после операции – вероятно, из моей карточки. Женщина изобразила его изумление и негодование: «Но почему, почему она мне не сказала?!» Казалось, она тоже возмущена моим поведением. Видимо, я должна была согласиться, что она права, а я – сама виновата в том, что врач грубо со мной обошелся: он просто не знал, с кем имеет дело.
Прежде чем уйти, она убежденно сказала насчет моего аборта: «Так вам куда спокойнее!» Это были единственные слова утешения, которые я услышала в Отель-Дье. И прозвучали они не столько из женской солидарности, сколько из согласия «маленьких людей» с правом «элиты» ставить себя выше закона.
(Если бы я знала фамилию врача, дежурившего в ночь на 21 января 1964 года, и вспомнила бы ее, то не устояла бы перед искушением написать ее здесь. Но это была бы ненужная и несправедливая месть: его поведение – лишь пример общего подхода.)
Моя грудь набухла и болела. Мне сказали, что это лактация. Я и не представляла, что мое тело может вырабатывать молоко для трехмесячного мертвого плода. Природа продолжала действовать механически. Мне перевязывали грудь полоской ткани. Каждый оборот сплющивал ее, словно вдавливая внутрь. Я думала, что она уже никогда не выправится. Сиделка поставила на мой ночной столик кувшин с отваром: «Выпейте это, и грудь перестанет болеть!»
Жан Т., Л.Б. и Ж.Б. вместе пришли меня проведать. Я рассказала им о кровотечении и о карательном лечении в Отель-Дье. Я говорила шутливым тоном, и им понравился мой рассказ – в нем не было ни одной из тех деталей, которые я потом вспоминала без конца. Мы с Л.Б. оживленно сравнивали свои аборты. Она узнала в магазинчике на углу, что в Париж можно было и не ездить: совсем рядом жила женщина, которая брала всего триста франков. Мы шутили, что я могла бы сэкономить сотню франков. Теперь можно было смеяться над унижениями и страхом, надо всем, что не помешало нам нарушить закон.
Не помню, чтобы я хоть что-нибудь прочла за те пять дней в Отель-Дье. Приемники были запрещены. Впервые за три месяца я ничего не ждала. Я просто лежала и смотрела в окно на крышу соседнего больничного крыла.
Временами слышался плач новорожденных. В моей палате не было детской кроватки, но я тоже родила. Я ничем не отличалась от женщин в соседней комнате. Мне казалось, что я знаю даже больше, чем они. В туалете университетского общежития я родила жизнь и смерть одновременно. Впервые я чувствовала, что стала звеном в бесконечной цепи женщин, идущих из поколения в поколение. Стояли хмурые зимние дни. Я плыла, окруженная светом, в центре мира.
Я уехала из Отель-Дье в субботу 25 января. Л.Б. и Ж.Б. уладили все формальности и отвезли меня на вокзал. Из ближайшего отделения почты я позвонила доктору Н. и сказала, что дело сделано. Он велел мне еще раз принять пенициллин; в больнице мне вообще не давали лекарств. Я приехала к родителям и, сказавшись больной, тут же легла в постель. Попросила вызвать семейного доктора В. Он знал о моем аборте от доктора Н. и должен был осторожно меня осмотреть и выписать пенициллин.
Как только моя мать отошла, доктор В. принялся взволнованным шепотом допытываться, кто сделал мне аборт. «Зачем же ехать в Париж? – усмехнулся он. – Прямо на вашей улице живет матушка … [имя было мне незнакомо], она отлично это делает». Теперь, когда мне это было уже не нужно, повсюду обнаруживались фабрикантши ангелов. Но я не сомневалась: доктор В., который голосовал за правых и сидел в первом ряду на воскресной службе, не дал бы мне адреса, когда я в нем еще нуждалась. Теперь же ничто не мешало ему демонстрировать свое традиционное сочувствие к хорошей студентке «скромного происхождения», которая могла войти в его круг.
У меня лишь одно воспоминание о тех днях, что я провела после больницы у родителей: я полулежу на кровати у открытого окна и читаю стихотворения Жерара де Нерваля, сборник издательства «10/18». Смотрю на свои ноги в черных колготках, вытянутые на солнце. Это ноги какой-то другой женщины.
Я вернулась в Руан. Стоял холодный и солнечный февраль. Мир вокруг не был прежним. Лица прохожих, машины, подносы в столовой – казалось, всё, на что я смотрю, переполнено смыслами. Но именно этот избыток смыслов мешал мне ухватить хоть один из них. С одной стороны, были вещи и сущности, которые значили слишком много, с другой – фразы и слова, которые не означали ничего. Я была в лихорадке чистого сознания, за пределами языка, и даже ночью она не прекращалась. Я спала легким сном и была уверена, что бодрствую. Перед моими глазами плыла маленькая белая куколка. Так в романе Жюля Верна выброшенный в космос труп собаки продолжает следовать за космонавтами.
Я ходила в библиотеку писать диплом, который забросила в середине декабря. Мне было трудно читать, я словно разгадывала шифр. Моя тема – женщина в сюрреализме – виделась мне в своей сияющей всеобъемлемости, но я не могла разложить это представление на отдельные концепты, последовательно описать то, что являлось мне как виде́ние: без очертаний, но неопровержимо реальное. Более реальное, чем студенты, склонившиеся над книгами, и толстый библиотекарь, который терся возле девушек, пока те рылись в картотеке. Меня пьянило знание без слов.
Я слушала в своей комнате «Страсти по Иоанну» Баха. Когда звучал одинокий голос Евангелиста, повествующий на немецком о страданиях Христа, мне казалось, что это на незнакомом языке рассказывают о моих испытаниях с октября по январь. Затем вступал хор: «Wohin! Wohin!» И открывался необъятный горизонт, и кухня в проходе Кардинет, а с ней и зонд, и кровь становились частью мировых страданий и вечной смерти. Я чувствовала, что спасена.
Я ходила по улицам и, как нечто священное, носила в своем теле тайну ночи с 20-го на 21 января. Я подошла к самой грани, но не знала, была ли то грань кошмара или красоты. Я гордилась собой. Такую же гордость, вероятно, испытывают одинокие моряки, наркозависимые и воры – те, кто зашли так далеко, как другим и не снилось. И, быть может, именно эта гордость заставила меня теперь всё рассказать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.










![Книга Deja Vecu [Уже пережитое] автора Георгий Кузьмин](/books_files/covers/thumbs_100/deja-vecu-uzhe-perezhitoe-139541.jpg)





























