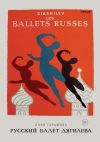Текст книги "Рудольф Нуреев. Неистовый гений"

Автор книги: Ариан Дольфюс
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Во Франции Нуреев танцевал только один спектакль – в октябре 1990 года. По просьбе Жана Гизерикса, уходившего из Оперы, он исполнил «Песнь странствующего подмастерья» с Патриком Дюпоном, который заменил его на посту директора балетной труппы.
Весной 1991 года, через три месяца после мучительного ухода Марго (она умерла в Панаме, от рака, почти в полной нищете), Флемминг Флиндт поставил для Нуреева «Смерть в Венеции». В этом коротком балете было все: Бах (аранжировка), старость, неугасимая страсть к молодому человеку… Рудольф, который всегда говорил: «Балет – это метафора», танцевал с удовольствием, но иногда через силу и в плохом настроении; последнее вылилось в судебное разбирательство с итальянским танцовщиком, которого он сгоряча ударил под зад ногой.
Именно в то время ему на ум пришла еще одна фантазия: дирижировать оркестром. «Когда тело ломается, надо делать что-то другое»21. Поскольку Терпсихора от него отвернулась, он обрел себя в музыке, в этой музе-утешительнице своего детства, подруге одиноких ночей.
Журналистам Рудольф объяснил, что идею дирижировать оркестром ему подкинул сам Герберт фон Караян. В 1980 году молодой и элегантный танцовщик встретился с легендарным австрийским дирижером в кулуарах Парижской оперы. Нуреев высказал свое восхищение. Караян указал ему на пачку партитур, которые держал под мышкой, и произнес: «Молодой человек, всё благодаря этому. Когда-нибудь и вы к этому придете, я уверен…» Вскользь брошенная фраза проросла. Соседом Нуреева по «Дакоте» был Леонард Бернстайн. Он предложил ему посещать его собственный курс дирижерского мастерства, и Рудольф от этой идеи был в восторге. Учиться, учиться без устали, даже в сумеречные предсмертные часы! «Слишком поздно» никогда не бывает – в конце концов, когда он приехал из Уфы в Ленинград, ему тоже говорили, что он «слишком стар»!
Когда идея овладела им по-настоящему, Бернстайн уже полгода как умер. Поэтому Рудольф поехал в Вену, столицу музыки, где работал вместе с Вильгельмом Хюбнером, руководителем Венского филармонического оркестра. Рудольф умел читать партитуры для фортепьяно, но не для оркестра. Чтобы преодолеть пробелы в знаниях, он начал усиленно заниматься. Через три месяца, 26 июня 1991 года, состоялось первое выступление Нуреева-дирижера. В программе были «Охота» Гайдна, скрипичный концерт Моцарта и «Серенада для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского22. На следующий день Нуреев добавил в программу «Аполлона Мусагета» Стравинского. Для него это было очень символично, ведь именно в Вене в 1967 году он впервые танцевал этот балет в постановке Баланчина. Двадцать четыре года спустя, уже в другом качестве, он сумел вдохнуть в исполнение те же чувства, которые когда-то вкладывал в хореографию.
Летом 1991 года состояние здоровья Рудольфа резко ухудшилось. В Вене его прооперировали (начались проблемы с мочеиспусканием), операция оказалась удачной, но несколько дней он провел в палате, ругая всех подряд, и особенно Дус Франсуа, приехавшую ухаживать за ним. Все закончилось тем, что он из госпиталя… сбежал. «Рудольф позвонил мне из телефона-автомата в три часа ночи, чтобы сказать, что он удрал из больницы и у него нет ни гроша в кармане», – вспоминал Шарль Жюд23. Убежать из этого ада – больницы – и отправиться в изнурительное турне по Австралии с «Друзьями» – вот что было для него главное.
«Я был уверен, что он отменит турне, – рассказывал Шарль. – Но когда Рудольф услышал об этом, он стал орать на меня по телефону. Я понял, что придется ехать. Мы должны были танцевать вместе „Песни…“, но мне это казалось немыслимым. Я предложил ему „Послеполуденный отдых…“, и он одобрил мою идею. Вы не поверите, но он танцевал этот балет с пластиковым мешком вместо мочевого пузыря»24.
В конце балета Фавн поднимается на свою скалу и ласкает шарф исчезнувшей нимфы. Увы, Фавна – Нуреева пришлось снимать со скалы на руках. Но дух Фавна остался несломленным. «Конец карьеры Рудольфа – это история человека, знающего, что он скоро умрет, но не желающего лежать и ждать последнего часа», – сказал Марио Буа25.
Покинув Вену на автобусе, Нуреев поехал дирижировать в Польшу, оттуда он вернулся ночным поездом. Теперь он был далек от возможности летать на частных самолетах и останавливаться в роскошных дворцах…
Сразу после «Спящей красавицы» в Берлине, в марте 1992 года, он снова поехал в Россию. Он должен был дирижировать «Ромео и Джульеттой» в Казани, Санкт-Петербурге и Ялте. Казань – родной город его матери. Многие убеждали его в том, что это безумная авантюра, но Рудольф не уставал повторять: «Это ради мамы, ради мамы…»
С музыкантами Нуреев проводил бесконечные вечера в разговорах, пении, пьянстве… После русской бани он заболел. В Санкт-Петербурге[34]34
Решение о переименовании Ленинграда было принято в июне 1991 года.
[Закрыть], где он отмечал свой пятьдесят четвертый день рождения, его госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Танцовщика срочно отправили в Париж, где французские врачи диагностировали перикардит, вызванный цитомегаловирусом, что было гораздо более опасным.
Нуреева снова прооперировали. Он был чрезвычайно слаб, но не сдавался, потому что перед ним стояла очередная цель: 6 мая 1992 года он должен был дирижировать своим балетом «Ромео и Джульетта» в Мерополитен-опера; в роли Джульетты – Сильви Гиллем, в роли Ромео – Лоран Ил ер. У Рудольфа оставался всего месяц, чтобы восстановить силы. Он учил партитуру, когда лежал под капельницами. Своей целью он заразил весь персонал госпиталя Нотр-Дам-дю-Перпетюэль-Секур в парижском пригороде Леваллуа. Врачи боролись за своего пациента, порой пребывавшего в ужасном настроении, но так хотевшего жить. Находясь в неуверенности, руководство Метрополитен-опера готовилось назначить другого дирижера, но это еще больше подталкивало Рудольфа к тому, чтобы бросить вызов судьбе. Попутно скажу, что именно в это время из Чикаго и Лихтенштейна прибыли два адвоката, чтобы начать подготовку к составлению его завещания.
В апреле в сопровождении медицинской сестры, услуги которой стоили двадцать тысяч франков, Нуреев пересек Атлантику. Он репетировал в Линкольн-центре в течение десяти дней, и вечером 6 мая весь Нью-Йорк вдруг увидел своего обожаемого Принца еле передвигающим ноги… Однако Нуреев управлял оркестром с потрясающей убедительностью. Сложная партитура Прокофьева требовала трехчасового присутствия на подиуме, и Нуреев выдержал. Рядом с ним находился настоящий дирижер, незаметно направлявший его и помогавший руководить оркестром в ключевых местах. Но публика присутствия дублера не заметила. По существу, Нуреев сам выиграл это сражение. Уехав из театра, он лег в постель, а все друзья, оставшиеся на ужин, по очереди подходили к нему, чтобы поздравить с успехом.
В конце мая Нуреев выступал в Вене. У него уже не было сил держать палочку, и он дирижировал пальцами…
Уэйн Иглинг, в то время директор Национального балета Нидерландов, предложил ему дирижировать балетом «Петрушка» в Амстердаме 1 января 1993 года. Петрушка – тряпичная кукла, которая умирает и воскресает. Нуреев обещал подумать. В настоящий момент все его помыслы занимала «Баядерка», премьера которой была намечена на 8 октября 1992 года. Ему надо было продержаться еще четыре месяца. В июне он начал первые репетиции и смог создать для солистов несколько новых вариаций.
В конце августа, укрывшись в Галли, Нуреев пытался стоять у перекладины в недавно оборудованной студии. Как рассказывал Эцио Фриджерио, декоратор «Баядерки», он заплакал, увидев это изможденное, слабое тело…
На острове по-прежнему не было водопровода, а холодильник без конца ломался. Молодой австралиец, нанятый в качестве сиделки, должен был также выполнять функции повара. Когда к Рудольфу приехала Виттория Оттоленги, она была в ужасе от того, что увидела, и убедила своего друга немедленно уехать. Через несколько дней вертолет вывез его на материк.
В сентябре, когда артисты вернулись из летних отпусков, Нуреев чувствовал себя несколько лучше; он почти ежедневно приходил в Оперу, устраивался на диване и продолжал работать с танцовщиками. Когда его спрашивали, что нового, он стоически отвечал: «It’s good to be alive» – «Хорошо быть живым».
Присутствовавшие на этих репетициях танцовщики никогда не смогут забыть пронзительный взгляд Рудольфа. Они готовы были на все, чтобы воплотить замысел человека, чье тело сломила болезнь, но дух которого остался несломленным. В этом зале они танцевали только для него.
У Нуреева хватало сил впасть в настоящий гнев, когда он узнал, что за слона, появляющегося во втором акте, запросили слишком дорого. Этот гигант на колесиках был для него жизненно необходим. Как и тигр, покрытый золотыми блестками, – точно такой же был когда-то в Кировском.
А на набережной Вольтера кипела своя жизнь. Там собрались почти все женщины, боготворившие Рудольфа. Мод Гослинг (ей уже было восемьдесят четыре года) и Тесса Кеннеди прилетели из Лондона, из Петербурга приехала Люба Мясникова, из Монте-Карло – Марика Безобразова, из Сан-Франциско прибыла Джанет Хитеридж, из Нью-Йорка – Джейн Хэрман… Приезды-отъезды организовывала Дус Франсуа, которая теперь уже обладала всей информацией о состоянии здоровья своего друга. Роза тоже была там; она отпаивала брата лечебными травами, которыми ее снабдили русские врачи.
Много женщин и совсем мало мужчин, за исключением Уолласа и Шарля Жюда. «Меня обложили со всех сторон, – говорил Рудольф с юмором, невзирая на свое тяжелое состояние. – Даже моя собака – и та женского пола».
К концу сентября Нурееву стало хуже. Его снова положили в госпиталь в Леваллуа-Перре, но он выторговал для себя некоторые привилегии. «Месье Поттс» (его зарегистрировали под таким именем), несмотря на свое тревожное состояние, днем покидал палату, а вечером снова возвращался. Смотреть, как танцуют его артисты, было для него единственным лекарством. «Still alive» («Все еще живой») отвечал он на дежурное «How are you!». Короткая фраза, но какая!
За несколько дней до премьеры Рудольф еще надеялся дирижировать «Баядеркой» из оркестровой ямы, но доктор Канези был вынужден разочаровать его. «Don't shit on my brain!» («Не засирай мне голову!»), – услышал он в ответ.
– It's the end? (Это конец?) – Рудольф задал этот вопрос доктору Канези за несколько дней до премьеры.
– Да, – подтвердил доктор.
В Париже появились адвокаты и нотариусы, и Рудольф высказал им свою волю: он желает быть похороненным на своем любимом Галли. Однако адвокаты отговорили его, потому что у островов после его смерти мог появиться другой владелец. Ему предложили парижские кладбища Монмартр или Монпарнас, где покоятся деятели искусства, или русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Именно этот символичный вариант и избрал Рудольф.
В пригороде Парижа, на Сент-Женевьев-де-Буа, погребено несколько тысяч русских эмигрантов, скончавшихся во Франции. В основном – офицеры белой армии, но также и писатели, художники артисты, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю культуры. Здесь похоронены Матильда Кшесинская, знаменитая танцовщица времен Мариинского театра, любовница будущего императора Николая II, Иван Мозжухин, звезда немого кино, Серж Лифарь, умерший в 1986 году… Нуреев, которому юмора было не занимать до последнего дня, неоднократно повторял тем, кто хотел его выслушать: да, я буду похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа, «but far away from Lifar» («но далеко от Лифаря»)…
Никто точно не знал, что именно видел Рудольф в тот вечер 8 октября 1992 года в Опера Гарнье. Скорее всего, лежа на диване в ложе авансцены, он мог только слышать музыку. Но, несмотря на свое физическое состояние, он захотел обязательно выйти на поклоны.
…К удивлению всех, кто был в зале, занавес вдруг поднялся, и публика увидела Нуреева. Он стоял неподвижно, в черном смокинге, поверх которого была накинута цветастая шаль, и в шапочке а-ля Вольтер; с обеих сторон его поддерживали сильные руки солистов – Изабель Герен и Лорана Илера. По залу прокатилась трепетная волна: публика увидела величайшего танцовщика и… очень больного человека, который не мог стоять без посторонней помощи26. Все встали и начали аплодировать – в знак огромного уважения к той высоте, на которую поднялась карьера Нуреева. Не было ни криков, ни топанья ног, как в шестидесятые годы, – только бесконечные благодарные аплодисменты зрителей, не пытавшихся сдержать слезы. Рудольф Нуреев прощался со сценой, прощался и с жизнью, и со своей публикой, которая всегда была его самым дорогим другом.
Занавес опустился, а потом поднялся снова. На сцене были все артисты, Рудольф восседал на троне раджи. Министр культуры Джек Ланг вручил ему орден Командора Искусства и Литературы. Нуреев не мог ответить, но улыбка в уголках его рта красноречиво говорила о том, что он думал об этой Франции, которая сейчас его чествовала, а три года назад поспешила сбросить со счетов… Для фотографов он сделал рукой широкий приветственный жест.
После этого Рудольф настоял на том, чтобы принять участие в торжественном ужине, устроенном в его честь в большом фойе. Меню было русским, и в этом тоже был глубокий смысл. Весь вечер Нуреев провел в молчании, взгляд был неподвижен, его душа находилась где-то уже далеко. Было видно, что он страдает от физической боли, но Рудольф сдерживал гримасу, которая могла бы выдать его муки. Хотеть – значит мочь… Затем, когда ему пора было отправляться отдыхать, он встал сам и, поддерживаемый Мишелем Канези и Луиджи Пиньотти, медленно пошел к выходу.
Что же, его «Баядерка» появилась на свет, Рудольф мог уйти. Мог покинуть театр, чтобы уже, вероятно, никогда больше не вернуться. Мишелю Канези он шепнул во время спектакля: «Да, я счастлив». А Пьеру Лакотту признался: «Пьер, самое трудное – покинуть это место, где все началось»27.
На следующий день на набережной Вольтера телефон разрывался – звонили из всех уголков мира. Весь мир читал репортажи в газетах и видел фотографии. Мадонна, которой было отказано войти в квартиру, прислала огромный букет лилий, Джекки Кеннеди – охапку красных роз, которую наскоро поставили в пластиковую бутылку. Джером Роббинс звонил каждый день. Также объявился греческий балетоман Ниархос. «Он позвонил через столько лет, – рассказывал Рудольф Руди ван Данцигу. – Он пригласил меня на ужин. Это значит, что я снова стал знаменитым…»28.
Голландский хореограф Руди ван Данциг приехал в Париж по совету Дус Франсуа, которая давала ему те же наставления, что и остальным визитерам: «Не говори, что ты приехал из-за него, он сочтет это подозрительным. Не заостряй внимания на его болезни, он этого не хочет. Подготовься к тому, что он очень сильно изменился, но постарайся не подать виду. Сделай так, чтобы он не заметил, что ты в шоке».
Ван Данциг обнаружил изможденного человека, лежащего в постели, лицо которого исхудало, а в ногах не было силы. Голос был слабым и хриплым. Но вдруг позвонила итальянская танцовщица Карла Фраччи. Воодушевившись, Рудольф сказал ей: «Карла! Когда ты будешь свободна? Что мы можем станцевать с тобой вместе? Что-нибудь новенькое?» Вернувшись к своему собеседнику, Рудольф сказал ему, что у него «столько планов», а потом проронил с улыбкой: «Но у меня есть и незанятые даты…»
Обессиленный, часто впадавший в забытье среди дня на несколько часов, Нуреев все равно не переставал думать о будущем, о танце, который всегда вел его по жизни. Через два дня после премьеры «Баядерки» Рудольф захотел взглянуть на новое произведение Ролана Пети в Опера Комик – прелестный балет о Чаплине, который он мог бы смотреть лежа в ложе. В полудреме он сказал Пети: «Почему бы тебе не пригласить меня дирижировать в Марселе?» Зная наизусть всю программу хореографа, он добавил: «А что ты думаешь о „Коппелии“? Пришли-ка мне партитуру…»
На следующий день Нуреев попросился поехать на Сен-Бартелеми, настаивая на том, чтобы с ним в путешествие отправились Шарль Жюд и его жена Флоранс. Как ни странно, Мишель Канези разрешил ему поехать. В конце концов, Рудольф имел право умереть под жарким солнцем.
В просторном сельском доме на окраине острова этот неугомонный покоритель мира проводил дни, растянувшись в шезлонге. С террасы из тикового дерева он наблюдал за бурными волнами или просматривал с Шарлем видеозаписи концертов, которыми дирижировали знаменитые дирижеры. «Никогда не забуду, как Рудольф смотрел на дирижера Сейджи Озава, – вспоминал Шарль Жюд. – Он объяснял мне, что видел. И я видел, как он плачет».
На остров приехали юристы, чтобы закончить работу над завещанием. Ввиду физического состояния, «Руди нуждался в моральном поручителе, что я и согласился выполнять», – продолжал Шарль Жюд29. Нуреев предлагал ему стать наследником всех его балетов, но Жюд не пожелал этого.
Шарль и Флоранс заботились о Рудольфе, как родители о смертельно больном ребенке. Шарль мыл его, брил и одевал, иногда ложился с ним рядом, чтобы помочь уснуть. «Он знал, что дело идет к концу, но он так не хотел уходить… Он спрашивал меня, верю ли я в Бога и почему. Он был заинтригован тем, что по отцу я католик, а по матери буддист. Сам он был абсолютным атеистом». От Рудольфа Шарль в те последние дни услышал фразу, которую тот часто повторял: «Никогда не надо ни о чем жалеть». И еще одну, когда он невыносимо страдал: «I can't complain» — «Я не могу жаловаться»…
Через две недели Рудольф вернулся в сумрачный Париж. Можно было предположить, что в аэропорту дежурят папарацци, желавшие запечатлеть самого знаменитого танцовщика мира… превратившегося в глубокого старика. Однако Мишелю Канези удалось обмануть их – он сообщил неверную дату прилета. Нуреев, хотя и сидел в инвалидном кресле, почти упрекал доктора за это. «У Рудольфа с прессой были двойственные отношения, – отмечал Канези. – Он часто на нее обижался, но в то же время был готов многое ей дать. С того самого вечера 8 октября он знал, что перешел по другую сторону зеркала. Его внешний образ был ему уже безразличен»30.
В конце октября наступило ухудшение. Нуреев не понимал, где находится, кто что делает рядом с ним. Он уже не мог самостоятельно есть, и женщины кормили его с ложечки. Эти женщины образовали последний круг его друзей, «который резко сократился после 8 октября», как заметил доктор Канези. Обязанности сиделки принял на себя молодой жизнерадостный антилец Франк, вносивший некоторое оживление в гнетущую атмосферу. Если женщины ограждали Рудольфа от всего, задергивали тяжелые шторы в его комнате, кормили в постели, то Франк заставлял Рудольфа садиться и пускал в комнату солнечный свет.
Руди ван Данциг, навестивший Нуреева в конце ноября, оказался лицом к лицу с умирающим. «Я больше не могу есть, – прошептал ему Рудольф. – Я вообще не могу ничего делать. Ты знаешь, что я ощущаю? – Он выпростал из-под одеяла свою истонченную руку, и голландец стал ее потихоньку массировать. – Я не ощущаю ничего. Во мне все умирает…»
20 ноября Рудольфа перевели в госпиталь Нотр-Дам-дю-Перпетюэль-Секур в Леваллуа-Перре, на набережную Вольтера он уже больше не вернулся. Он не мог больше есть, но… продолжал работать над партитурой «Коппелии», слушая музыку в наушниках. Приближалось Рождество, и в Париж приехали две его сестры с детьми. Разида прибыла прямо из Уфы, а Роза – из Ля Тюрби, где она отныне поселилась. Отношения были натянутыми, все находились в ожидании, надеясь и не надеясь на чудо. Визиты друзей в Леваллуа-Перре не прекращались, но перед дверью палаты находился страж, не пускавший «нежелательных лиц», в частности Роберта Трейси, ставшего отныне персоной нон грата. День ото дня танцовщик слабел и наконец впал в кому.
Шестого января 1993 года в 15 часов 30 минут, накануне православного Рождества, Рудольф Нуреев скончался в присутствии Франка и Шарля Жюда. Ему было пятьдесят четыре года. Как и Марии Каллас, когда она испустила последний вздох в Париже.
На следующий день вся мировая пресса поместила материал о кончине Рудольфа Нуреева на первых полосах. Повсюду, от Нью-Йорка до Токио, от Лондона до Йоханнесбурга, от Парижа до Буэнос-Айреса, вспоминали о невероятной судьбе этого человека, покорившего вселенную благодаря своей воле, таланту и красоте. Вспоминали о его рождении в поезде, о его невероятном побеге в 1961 году и особенно – о его танцевальном мастерстве, поднявшем балетное искусство на самую вершину. Только в России не очень-то распространялись на эту тему. В телевизионных новостях диктор скупо упомянула, что «скончался знаменитый танцовщик XX века, начавший свою карьеру в театре имени Кирова и окончивший ее на Западе». Видеорядом это сообщение не сопровождалось…
Вечером 6 января Парижская опера открыла двери публике. В фойе на помосте был установлен громадный портрет и разложены книги для записей. Сотни поклонников приходили поблагодарить того, кто сделал их жизнь лучше. Слова, написанные по-французски, по-английски, по-русски и даже по-японски, переворачивают душу: «Да благословит тебя Бог, прекрасный Принц!», «Твое пребывание на этой Земле было кратким, но ты отдал нам самое лучшее», «Вечного сна в Божьем Царстве!» Или вот слова медсестры по имени Мария: «Я имела честь ухаживать за тобой в последние ночи твоей жизни. Даже в болезни ты остался великим…»
За тридцать лет до этого Нуреев говорил: «Когда артист посвятил свою жизнь театру, он должен иметь право умереть на сцене»31.
Рудольф умер в госпитале, но он, несомненно, имел право на редчайшую привилегию – траурную церемонию в театре. Часто говорят, что сцена – это храм. Храмом Нуреева стала Парижская опера. Нуреев получил то, чего не досталось даже Лифарю, катафалк которого в октябре 1986 года лишь провезли перед зданием Оперы…
Двенадцатого января 1993 года в 10 часов утра гроб Нуреева подняли по ступеням Гранд-опера, засыпанным цветами. На плечах его несли шесть танцовщиков32. Гроб был установлен у подножия парадной мраморной лестницы, ведущей в зрительный зал. Вдоль лестницы выстроились все артисты балета. Здесь были и ученики балетной школы – девочки справа, мальчики слева, – и все преподаватели. У гроба стояли укутанные в тяжелые шубы сестры Нуреева, его племянники и племянницы. В холле и на трех этажах балкона, нависающего над лестницей, толпилась публика. Друзья Рудольфа приехали со всего света: и те, кто танцевал с ним, и те, кто ставил для него балеты, и те, кто просто восхищался его талантом33.
Траурная церемония была исключительно светской. Когда Рудольфа спрашивали, какую религию он исповедует, он всегда с хитрецой отвечал: «Я верую в себя самого!»
О душе Нуреева говорили тексты и музыка. Камерный оркестр исполнял Баха и Чайковского. Нинель Кургапкина прочитала на русском отрывок из «Евгения Онегина». Затем прозвучали строфы из «Манфреда» по-английски. Эцио Фриджерио со слезами на глазах продекламировал сонет Микеланджело на итальянском, а немецкий актер процитировал «Фауста» Гёте.
Джек Ланг, министр национального образования и культуры Франции, произнес одну из лучших речей в своей жизни. Он сравнил Нуреева со звездой – сверкающей, но иногда обжигающей. «17 марта 1938 года звезда родилась. Она осветила землю и ослепляла людей в течение пятидесяти лет. […] В 1961 году звезда покинула свою галактику и обрела свободу перемещения по всему небесному своду. […] И вот 6 января этого года звезда погасла. […] Астрономы, однако, говорят, что свет некоторых звезд идет к нам еще очень долго после их исчезновения…»
Краткую, но насыщенную церемонию завершили прерывистые ноты неоконченной тринадцатой фуги Баха.
Думаю, Нуреев был бы доволен. Пушкин и Байрон, Бах и Чайковский стоили всех Евангелий. И пусть это не прозвучит кощунственно, но Парижская опера была для него дороже собора Парижской Богоматери. Последнее чествование Рудольфа соответствовало его высоте.
Гроб с телом Нуреева вынесли из театра под музыку Малера к балету «Песни странствующего подмастерья». Нуреев покидал театр через главный вход. Не как артист – как зритель. Но на ступенях перед входом ему долго аплодировала толпа, стоявшая под проливным дождем…
Траурная процессия устремилась к самому русскому из французских кладбищ – Сент-Женевьев-де-Буа. Нуреев нашел свою Россию за тысячи километров от нее. Его миссия была завершена.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?