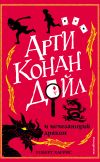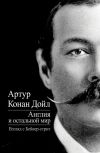Текст книги "Опасная работа"

Автор книги: Артур Дойл
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Капитан «Полярной звезды»
Примечание редактора
Впервые напечатанный в журнале «Темпль-бар» в январе 1883 г., рассказ этот принес успех молодому писателю. Основанный на собственном опыте плаванья в полярных водах в качестве судового врача китобойного судна «Надежда», что стало, по выражению Конан Дойла, «странной и восхитительной главой» его биографии, рассказ этот демонстрирует, как могут жизненные впечатления пробуждать в человеке талант и преобразовываться в произведение искусства. «Темпль-бар» щедро заплатил Конан Дойлу за рассказ десять гиней, Конан Дойл написал другу: «По-моему, им это понравилось», а британская публика после этой публикации увидела в Конан Дойле многообещающего молодого мастера рассказа.
[Отрывок из рукописного журнала Джона Макалистера Рея, студента-медика]
Сентябрь 11-го
Широта 81°40′, долгота 2° вост. Все еще лежим в дрейфе посреди необъятных ледяных полей. Огромная простирающаяся далеко на север льдина, к которой прицеплен наш якорь, размером должна быть никак не меньше английского графства. Справа и слева от нас льды уходят к самому горизонту. Утром помощник капитана доложил, что в южном направлении намечаются признаки плотного льда.
Если эта неодолимая преграда помешает нашему возвращению, положение наше станет опасным, ибо ходят слухи, что запасы провизии нашей на исходе. Сегодня утром впереди по курсу мерцала звездочка – впервые с начала мая. Среди матросов – брожение и недовольство: многим не терпится поскорее оказаться дома, поспеть к началу сельдевой путины, когда каждая пара рабочих рук на шотландском побережье – на вес золота. До поры их недовольство выражается лишь в угрюмых и недобрых взглядах искоса, но от второго помощника я узнал, что после полудня они собираются послать к капитану депутацию и объяснить ему, что их тревожит. Я сильно опасаюсь за исход этой миссии, так как капитан – человек горячий и очень болезненно реагирует на то, что ему кажется попыткой узурпировать его права. После обеда рискну перемолвиться с ним парой слов на эту тему. Я не раз убеждался, что от меня он терпит то, что возмутило бы его, исходи оно от других членов экипажа. На четверть румба справа за кормой видна северо-западная оконечность Шпицбергена – неровная гряда скал вулканической породы с белыми полосами ледников. Странно сознавать, что теперь ближайшее к нам человеческое жилье – это датские поселения в южной части Гренландии, находящиеся в девятистах милях отсюда – дальше этого и вороны не летают. Капитан берет на себя громадную ответственность, рискуя судном в таких условиях. Ведь никто из китобоев до сей поры не достигал этих широт в месяцы столь поздние.
9 часов вечера
Поговорил с капитаном Креги – и хотя результат разговора вряд ли можно назвать удовлетворительным, не могу не признать, что выслушал он мои доводы и спокойно, и даже уважительно. Но когда я закончил свою речь, лицо его приобрело то характерное выражение железной решимости, которое мы столь часто на нем видели, и капитан пустился мерить шагами тесное пространство каюты, шагая по ней взад и вперед, наверное, минут пять. Я даже испугался поначалу, что мог серьезно задеть его самолюбие, но он развеял мои опасения, усевшись и положив руку мне на плечо жестом почти ласковым. В глубине его темных глаз тоже притаилась нежность, что показалось мне странным и даже удивительным.
«Послушайте, доктор, – сказал он. – Мне жаль, что я втянул вас в это дело. Ей-богу, мне жаль, и я отдал бы пятьдесят фунтов, чтоб видеть вас сейчас не здесь, а на набережной в Данди. Но отступать я не могу – момент такой, что либо со щитом, либо на щите. К северу от нас – стадо китов. Да как смеете вы качать головой, когда я собственными глазами видел их с верхушки мачты! – внезапно вспылил он, хотя, по-моему, я ничем не выказал своего сомнения. – Там двадцать два кита, могу дать голову на отсечение – и крупных, ни один не меньше десяти футов в длину. И что ж, доктор, вы думаете, я поверну назад, когда от такой удачи меня отделяет только один жалкий кусочек льда, пропади он пропадом? Если завтра задует северный ветер, мы сможем заполнить трюмы до того, как грянут морозы. Ну, а если уж ветер будет южным; что ж – за то, что они рискуют жизнью, ребятам платят, ну а если речь обо мне – то в ином мире близких у меня больше, чем в этом. Вот вас, сказать по правде, мне жаль. Лучше бы в поход вместо вас я взял старого Энгуса, который был со мной в моем последнем плаванье. По нему бы некому было тосковать, а вы ведь как-то раз сказали, что помолвлены, верно?»
«Да», – сказал я и, щелкнув крышечкой медальона, свисавшего у меня с цепочки от часов, я поднес к его глазам миниатюрный портрет Флоры.
«Черт возьми! – взревел он, вскакивая с такой яростью, что даже борода его, ощетинившись, встала дыбом. – Да мне какое дело до вашего счастья! Что мне до него и зачем вы тычете мне в нос эту фотографию!» На какую-то долю секунды я испугался, что он меня ударит, так неистов был его гнев, но, выругавшись напоследок еще раз, он рывком распахнул дверь и выскочил на палубу, оставив меня в изумлении от этой бешеной вспышки. Впервые он так себя повел со мной – обычно, кроме любезности и доброты, я ничего от него не видел.
Я пишу эти строки под аккомпанемент его шагов, он мечется по палубе, раздраженно бегает по ней взад и вперед.
Мне хотелось бы обрисовать характер этого человека, но наверно, было бы самонадеянностью попытаться перенести на бумагу то, что самому тебе представляется смутным и далеко не ясным. Не раз мне казалось, что я нашел некий ключ, с помощью которого можно проникнуть в этот характер и понять его, но все оканчивалось разочарованием, ибо представал он вдруг в новом свете, обнаруживая свою новую грань. И пусть ничьи глаза, кроме моих собственных, не увидят впредь этих строк, а я все же попытаюсь набросать психологический портрет капитана Николаса Креги.
Обычно внешность человека дает нам некое общее представление о свойствах его души. Капитан высок и хорошо сложен, лицо его смугло и красиво, он имеет привычку слегка подергивать руками и ногами – не то от нервности, не то давая выход избытку энергии. У него решительный подбородок, и все черты его говорят о решительности и мужестве характера. Но самое примечательное в его лице – это глаза, темно-карие, яркие, внимательные, взгляд их выражает сложную гамму чувств – это удивительная смесь бесшабашности с чем-то, что порою кажется мне сродни скорее страху, чем какой-либо иной эмоции. Конечно, бесшабашность обычно превалирует, но временами, и особенно когда он задумывается, по лицу его расползается выражение страха, и страх этот, становясь все заметнее и заслоняя собой все в нем, как бы подменяет характер, полностью меняя и внешность. Именно в эти минуты он более всего раздражителен и гневлив, и, по-видимому, сам это за собой знает, почему он нередко и запирается в каюте и не пускает туда никого, пока не пройдет приступ черной тоски и меланхолии. Спит он плохо, и я слышал, как он стонет и кричит во сне, однако каюта его от моей находится на расстоянии, и потому слов, какие он бормочет или выкрикивает во сне, я никогда расслышать не мог.
Но это лишь одна особенность его характера, самая неприятная из всех, и только долго и близко с ним общаясь, находясь в его обществе много дней кряду, смог я ее заметить. По большей же части он ведет себя как человек милый, покладистый и компанейский, начитанный и занятный; что же касается его моряцких качеств, то моряка храбрее его трудно сыскать. Мне не забыть, как вел он судно, когда в начале апреля мы попали в жестокий шторм и бурю. В ту ночь он выглядел не просто бодрым, он был весел – он энергично вышагивал по мостику, а вокруг него сверкали молнии, и воющий ветер гнал по морю огромные валы. Сколько раз я слышал от него, что мысль о смерти, которая так угнетает человека молодого, ему, капитану, даже приятна. А ведь сам он вряд ли старше тридцати с лишком лет, хотя волосы его и борода уже тронуты сединой. Наверно, ему довелось испытать какое-то горе, навеки оставившее на нем свой след и омрачившее всю его жизнь. Возможно, и я бы стал таким, если б потерял Флору. Одному Господу ведомо, не было бы и мне тогда все равно, какой ветер подует завтра – северный или южный. Слышу сейчас, как он спускается вниз и запирается у себя в каюте – значит, все еще не в духе. Итак, пора на боковую, как сказал бы старый Пепис: свеча догорает – ведь белые ночи теперь кончились, и приходится жечь свечи; – стюард же ушел к себе, и надежды раздобыть новую свечу нет.
12 сентября
Ясный тихий день, а мы дрейфуем все на том же месте. Ветерок юго-восточный и слабенький. Настроение капитана улучшилось, и за завтраком он извинился передо мной за грубость. Однако выглядит он рассеянным, а глаза сохраняют диковатое выражение. В горах про такого сказали бы, что «с ним нехорошо», так, по крайней мере, шепнул мне сейчас старший механик, а он среди кельтской части нашей команды слывет человеком прозорливым и знающим толк в приметах.
Удивительно, какую власть имеют суеверия над народом столь практичным и здравомыслящим. Я бы никогда не поверил, не наблюдай я воочию во время нашего плаванья доказательств великой склонности кельтов к суеверию. Это вроде какой-то эпидемии, и я испытываю сильное желание добавить к успокоительным и стимулирующим снадобьям, которыми я потчую матросов, порцию грога по субботам. Первым симптомом эпидемии стала жалоба штурвальных, поступившая вскоре после нашего отбытия с Шетландов: матросы говорили, что в кильватере слышатся какие-то завыванья и жалобные крики, словно за судном кто-то гонится и не может догнать. Выдумка эта оказалась стойкой и продержалась на протяжении всего нашего пути, а в темные ночи начала нашей охоты на тюленей заставить людей спуститься на лед было не так-то просто. Не подлежит сомнению, что услышанные ими звуки были либо скрипом штурвальных цепей, либо криком какой-нибудь залетной морской птицы.
Несколько раз меня поднимали с постели, чтобы я послушал это сам, но не могу сказать, чтоб в звуках этих я услышал что-либо противоестественное. Однако матросы были так уверены в абсурдных своих предположениях, что разубеждать их и спорить с ними было делом безнадежным. Однажды я заговорил об этом с капитаном, и, к моему удивлению, он отнесся к сообщению весьма серьезно и, как мне показалось, забеспокоился. Я-то думал, что хотя бы он выше глупых предрассудков.
В результате всех этих толков и обсуждений выяснилось, что наш второй помощник мистер Мэнсон прошлой ночью видел призрак, или, по крайней мере, утверждает, что его видел, что в данном случае одно и то же. Как же бодрит и радует душу возникновение новой темы для беседы после рутинных, навязших в зубах за долгие месяцы плаванья историй о медведях и китах! Мэнсон клянется, что судно наше находится во власти злых чар и что, будь у него такая возможность, он сию же минуту покинул бы его. Парень и вправду здорово напуган и я, чтобы немного привести его в чувство, дал ему утром хлористого и бромистого калия. Мое предположение, что, видно, вечером он немного перебрал, Мэнсон с негодованием отверг, и я вынужден был его успокоить и сохранять полную серьезность, слушая историю, которую он нам рассказал тоном самым будничным и прозаическим:
«Я был на мостике, – рассказывал он, – во время второй вахты, когда пробило четыре склянки, а ночь была самая темная. Месяц на небе все время заволакивали тучи, и от корабля далеко видно не было. С баковой надстройки спустился Джон Маклеод, гарпунер, и сказал, что с правого борта поближе к носу слышится странный шум. Я прошел туда с ним, и мы оба это слышали, будто ребенок плачет или девушка стонет от боли. Я семнадцать лет хожу в Арктику и не слыхал, чтоб какой-нибудь тюлень, старый либо молодой, так кричал. Когда мы стояли с ним на баке, из-за туч выглянул месяц, и мы оба с ним увидели, как по льду в том месте, откуда шли звуки, движется белая фигура. Потом мы потеряли ее из вида на время, а потом она возникла вновь – уже у левого борта, спереди, и мы смогли разглядеть ее получше – на льду она казалась тенью. Я послал юнгу за ружьями, и мы с Маклеодом спустились на лед, решив, что, может быть, это медведь. Выйдя на лед, я потерял Маклеода, но продолжал двигаться в том направлении, откуда все еще неслись крики. Я шел на эти крики и прошагал, наверное, с милю, а потом, обойдя небольшой холм, вдруг наткнулся прямо на него; он стоял на вершине и словно ждал меня. И это был, во всяком случае, не медведь – кто-то высокий, белый, прямой, не похожий ни на женщину, ни на мужчину, клянусь всем чем угодно – это было кое-что похуже. И я припустил со всех ног к кораблю и рад был до чертиков, когда взобрался на борт. Я подписал контракт и должен выполнять то, что должен, потому на судне я останусь, но на лед после захода солнца не спущусь, хоть ты тресни!»
Таков был его рассказ, который я записал, по возможности, его же словами. Полагаю, что увиденное им вопреки тому, что он сказал, могло быть молодым медведем, стоящим на задних лапах – в позе, которую они нередко принимают, когда испытывают тревогу. При неверном освещении фигура медведя может быть принята за человеческую, в особенности если нервы увидевшего напряжены и он сам находится в состоянии паники. Как бы там ни было, последствия этого случая были самые печальные, ибо он неприятно подействовал на экипаж. Люди стали угрюмее, а недовольство их стало выражаться более открыто. Переживания, что они не поспевают к ловле сельди, усугубленные еще и сознанием, что застряли они на «нехорошем», как они считали, судне, могли толкнуть их на необдуманные действия. Даже гарпунеры, самые опытные и стойкие в команде, разделяли общее настроение.
Но, не считая этой вспышки абсурдного суеверия, дела наши идут на поправку. Паковый лед к югу от нас частично рассредоточился, льдины стали уходить, а показавшаяся вода такая теплая, что мне пришло даже в голову, что дрейфуем мы в одном из ответвлений Гольфстрима, проходящего между Гренландией и Шпицбергеном. Возле корабля плавают маленькие медузы и «морские лимоны», очень много креветок, так что есть все основания ждать и появления «рыбы». В обед мы и вправду заметили фонтан, но в стороне, куда лодкам было не подойти.
13 сентября
Имел интересный разговор на мостике с первым помощником мистером Милном. Похоже, что наш капитан представляет собой загадку не только для меня, но и для своих товарищей по команде; да и для владельцев судна тоже. Мистер Милн говорит, что после возвращения и получения денег капитан Креги исчезает, а появляется вновь лишь с приближением следующего сезона, когда он как ни в чем не бывало входит в контору и спрашивает, не нуждается ли компания в его услугах. В Данди у него нет друзей, и никто не может похвастаться, что знает, откуда он и как жил раньше. Положением же среди моряков он всецело обязан только своему профессиональному мастерству и слухам о том, как храбро и хладнокровно он себя вел в то время, когда был еще только первым помощником. Все единодушны в мнении, что он не шотландец и что служит он под вымышленной фамилией. Мистер Милн считает, что китобойному промыслу он посвящает жизнь по той причине, что это самое опасное из всех занятий, какие он только мог измыслить, и что он сознательно идет навстречу смерти. В доказательство своих слов Милн приводит примеры некоторых случаев, один из которых, если он не вымышлен, кажется мне особенно любопытным.
Однажды перед началом сезона он так и не появился в конторе, и вместо него пришлось взять другого человека. Дело было во время последней русско-турецкой войны. Когда же следующей весной он появился вновь, на шее у него был шрам, который капитан тщился прикрыть шейным платком. Правильна или нет догадка помощника, что Креги участвовал в военных действиях, сказать не берусь. Но совпадение, согласитесь, странное и наводит на размышления.
Ветер меняется на восточный, но по-прежнему очень слаб. По моему мнению, льды со вчерашнего дня как бы даже сдвинулись и легли теснее. Со всех сторон, куда хватает глаз, простирается чистая белизна, изредка нарушаемая там и сям лишь темным пятнышком одинокого холмика или трещиной. К югу от нас виднеется узкая полоса голубой воды. Это наша единственная возможность спасения, но с каждым днем возможность эта ослабевает. Капитан берет на свои плечи тяжкий груз ответственности, потому что, как я слышал, картофель кончился и даже сухари на исходе, однако он сохраняет все то же неизменное спокойствие, все ту же невозмутимость, проводя большую часть дня в «вороньем гнезде» и обозревая горизонт из своего бинокля. Настроение его переменчиво, и моего общества он, по-видимому, избегает, но вспышки, подобной той, что произошла позавчера, не наблюдается.
7.30 вечера
Я пришел к серьезному заключению, что нами командует безумец. Ничем другим нельзя объяснить неописуемые странности капитана Креги. По счастью, в течение всего плаванья я вел дневник, который послужит нашему оправданию в том случае, если нам придется его вязать или каким-либо иным способом ограничивать его свободу. Впрочем, это возможно только как крайняя мера. Любопытно, что он сам выдвинул версию безумия в качестве объяснения странной эксцентричности своего поведения. Полчаса назад он стоял на мостике, как всегда, глядя в бинокль, я же шагал взад-вперед, разгуливая по шканцам. Команда по большей части находилась внизу за чаем, так как вахтенные часы в последнее время соблюдаются нерегулярно. Утомившись прогулкой, я прислонился к фальшбортам, любуясь картиной озаряющего льды закатного солнца. Из задумчивости меня вывел внезапно раздавшийся над ухом хриплый голос: капитан спустился с мостика и стал рядом. Взгляд его, устремленный куда-то вдаль, поверх голов, выражал ужас и изумление, к которым примешивалось нечто наподобие даже радости, и все эти чувства соперничали друг с другом, борясь за полное господство. Несмотря на холод, по лбу его стекали капли пота, и он казался крайне возбужденным. Он дергал руками и ногами, как человек в преддверии эпилептического припадка, а морщины возле его рта обозначились еще резче и четче.
«Гляди! – выдохнул он, хватая меня за кисть и, по-прежнему, не отрывая взгляда от чего-то вдали, за льдинами, сделал движение подбородком как бы вслед чему-то, видимому лишь ему одному. – Глянь-ка! Вон там! Там! Между холмиками! Вон – вылезает из-за того, дальнего! Видите? Вон же она! Вон, еще там! Уходит, уходит, улетает от меня, Господи! Ушла!»
Последние слова он произнес шепотом, тоном какого-то глубочайшего, затаенного страдания, который никогда не изгладится из моей памяти. Цепляясь за выбленочные тросы, он пытался влезть повыше, на фальшборты, словно в надежде в последний раз увидеть то, что удалялось. Но сил для этого у него оказалось маловато, он отступил назад, к иллюминаторам и там обмяк, совершенно пав духом. Он был мертвенно-бледен, и я испугался, что он вот-вот потеряет сознание, потому, не теряя даром времени, быстро повел его по сходному трапу вниз и уложил на один из диванов в кают-компании. Потом, налив чуточку бренди, дал ему это выпить, поднеся стакан к самым его губам. Алкоголь возымел чудодейственный эффект: к побелевшему лицу вернулась краска, руки и ноги перестали дергаться и трястись. Он поднялся на локте, озираясь, убедился, что мы одни, после чего сделал мне знак приблизиться и сесть с ним рядом.
– Вы видели это, правда, же? – спросил он голосом, все еще приглушенным и исполненным благоговения, столь чуждого натуре этого человека.
– Нет, я ничего не видел.
Голова его вновь упала на подушки.
– Ну да, – пробормотал он, – без бинокля разве увидишь… Вот и я не сам увидел, а бинокль показал мне ее и ее глаза, в которых была любовь. Лик самой любви! Слушайте, док, не пускайте сюда стюарда. Он решит, что я спятил. Закройте дверь на щеколду, ладно?
Я поднялся и исполнил это распоряжение.
Некоторое время он лежал тихо, видимо, погруженный в размышления, потом опять приподнялся на локте и попросил еще бренди.
– Но вы-то, док, не считаете меня безумным, правда же? – спросил он, когда я ставил бутылку обратно в глубину шкафчика.
– Я считаю, – отвечал я, – что у вас на душе лежит что-то, что ее тяготит, будоражит вас и доставляет вам боль.
– Вот это верно, парень, в самую точку попал! Именно что тяготит и доставляет боль. И еще какую боль! Но определять широту и долготу я еще могу, и в состоянии работать с секстантом, и делать расчеты. Доказать, что я невменяем, в суде вам не удалось бы, разве не так?
Было странно слышать, как этот человек, откинувшись на подушки, спокойно обсуждает вопрос о собственной вменяемости или невменяемости.
– Может быть, и не удалось бы, – сказал я, – но все же я думаю, что самое лучшее для вас было бы при первой же возможности отправиться домой, где вы могли бы отдохнуть и некоторое время пожить спокойной размеренной жизнью.
– Домой, говорите? – процедил он, ухмыляясь. – Это не столько для меня, сколько для вас было бы самым лучшим, свить гнездышко с Флорой, прелестной крошкой Флорой. Разве дурные сны – это признак безумия?
– Иногда да, – отвечал я.
– Ну а другие признаки? Какими бывают первые симптомы? – Появляются головные боли, шум в ушах, искры перед глазами, галлюцинации.
– А это что такое? – прервал он меня. – Что вы называете галлюцинациями?
– Галлюцинация – это когда видишь то, чего нет на самом деле.
– Но она была! – тихим стоном отозвался он. – Она была здесь! – Он поднялся, отодвинул дверной засов и медленными неверными шагами прошел к себе в каюту, где, как я думаю, несомненно пробудет один до самого утра. Его нервная система, по-моему, испытала шок, какова бы ни была природа того, что он себе вообразил. Человек этот с каждым днем начинает представлять все большую загадку, хотя боюсь, что выдвинутое им самим решение этой загадки – самое правильное. Но хоть разумом он и повредился, с какой бы то ни было виной или угрызениями совести это никак не связано. И хоть такая мысль все больше завладевает умами всех на корабле, поддержать ее я не имею оснований. На человека, в чем-то виноватого, он не похож, а похож на пострадавшего, на того, кто перенес жестокий удар судьбы, на мученика, а вовсе не на преступника.
Вечером ветер, похоже, меняется. Если он закроет нам единственный узкий проход – тогда помоги нам, Господи! Ведь находящимся у края паковых льдов, или, как называют это китобои, «Барьера» спасение может дать только северный ветер, только он способен разбить льды вокруг нас, в то время как ветер с юга погонит на нас плавучие льдины, что остались позади, и мы окажемся между двумя ледяными массивами.
14 сентября
Воскресенье – день отдыха. Опасения мои подтвердились, и тонкая полоска синей воды на юге исчезла из глаз. Теперь вокруг лишь ледяные поля с причудливой формы холмами и фантастическими пиками вершин. Не слышно ни плеска волн, ни криков чаек, ни трепыханья парусов на ветру – лишь мертвая тишина, безмолвие, царящее над неоглядным белым простором. И это страшно. В такой тишине даже разговор вполголоса, даже скрип матросских башмаков, шаги по выскобленной палубе кажутся неуместными, лишними. Только один гость заявился к нам – полярная лисица, зверь весьма редкий на паковом льду, хотя на северных берегах она встречается то и дело. Однако к кораблю лисица не приблизилась, а, понаблюдав за нами с изрядного расстояния, поспешно скрылась во льдах. И это показалось нам странным, ибо лисы эти непривычны к человеку, не опасаются его, а по природе очень любопытны, что и облегчает охоту на них. В это трудно поверить, но и столь незначительный эпизод смог напугать и расстроить матросов, усугубив их подозрения. «Зверь-то знает, что к чему, нюхом чует, что здесь нечисто», – так выразился один из авторитетных гарпунеров, а другие согласно закивали. Пытаться спорить, выступать противником детских суеверий – дело гиблое. Если уж они решили, что корабль наш проклят, то ничего их не переубедит.
Капитан оставался взаперти весь день, кроме того получаса, когда к вечеру, выйдя на шканцы, он, казалось, обозревал окрестность. Но я заметил, что взгляд он направляет именно туда, где вчера появлялся призрак. Я не удивился бы продолжению вчерашнего буйного припадка, но такового не последовало. Меня капитан не видел, хоть я и находился совсем рядом. Потом была церковная служба – читал, как обычно, первый помощник. Интересно, что на китобойных судах используются молитвенники англиканского обряда, хотя ни среди матросов, ни среди высших чинов на корабле членов англиканской церкви я не встречал. Наш экипаж – сплошь католики либо пресвитерианцы, причем католики в большинстве. Англиканский обряд чужд как тем, так и другим, так что никто не может быть в обиде на то, что его религии предпочли другую; и все присутствующие на службе слушают чтение почтительно и со вниманием, и, следовательно, подобная система себя оправдывает.
Невиданной красоты закат, залив своим сиянием льды, превратил их в недвижные кроваво-красные озера. Не видел ничего прекраснее и в то же время страннее этой картины. Ветер опять меняется. Если двадцать четыре часа он будет дуть с севера, все еще может наладиться.
15 сентября
Сегодня день рождения Флоры. Девочка моя дорогая! Как хорошо, что не видишь ты твоего мальчика, как ты всегда меня называла, на судне, затертом во льдах, правляемом безумным капитаном, и с запасом провизии, которого хватит на считанные недели! Не сомневаюсь, что каждое утро она просматривает «Скотсмен» в поисках сообщения о нашем прибытии на Шетланды. А мне ничего не остается, как являть пример для других и выглядеть веселым и безмятежно уверенным, хотя один Господь знает, как тяжело временами у меня на сердце.
Сегодня на градуснике 19° по Фаренгейту. Ветер очень слабый, да и тот нам не благоприятствует. Капитан же находится в прекрасном расположении духа; думаю, что ночью его посетило видение или же он, бедняга, распознал какой-либо новый знак, потому что рано поутру он заявился ко мне и, наклонившись над моей койкой, шепнул мне: «Это не было галлюцинацией, док! Это правда!» После завтрака он попросил меня выяснить, сколько осталось провизии, и мы со вторым помощником приступили к подсчетам. Оказалось, что провизии даже меньше, чем мы ожидали: пол-ларя сухарей, три барреля солонины и очень небольшой запас кофе и сахара. Вдобавок в рундуках были найдены и припрятанные деликатесы – лосось в банках, банки консервированных супов, баранина с фасолью и тому подобное, но команда из пятидесяти мужчин съест все это роскошество за один миг. В кладовке обнаружили два барреля муки и немерено табака. На всем этом вместе взятом можно продержаться дней восемнадцать-двадцать, и то если порции уменьшить вдвое, больше – никак не получится. Когда мы доложили капитану, как обстоят дела, он приказал свистать всех наверх и со шканцев обратился к экипажу.
Высокий, ладный, с загорелым выразительным лицом, самой природой, кажется, предназначенный отдавать приказы, он говорил сейчас спокойно и по-товарищески просто, заставляя думать, что он хорошо видит опасность и зорко ищет малейшую возможность ее избежать.
«Братцы, – сказал он, – без сомнения, вы считаете меня виновником трудного положения, в котором все мы оказались. Положение действительно угрожающее, и, наверное, кое-кто из вас злится на меня за это. Но вспомните, сколько лет ни одно китобойное судно, возвращаясь домой, не выручало столько денег за китовый жир, как “Полярная звезда”, и каждый из вас имел свою долю от этого. Уходя в море, вы знали, что оставляете своих жен в довольстве и сытости, в то время как другие китобои, возвращаясь из похода, боялись увидеть своих женщин просящими милостыню на паперти. За это вы должны благодарить меня столь же рьяно, как сейчас клянете за нынешнее ваше положение. Так что можно считать, что мы квиты.
Если столько раз мы, смело встречая препятствия, побеждали, то и теперь, потерпев поражение, нечего лить слезы. В самом худшем случае мы покинем корабль и пойдем пешком на поиски тюленьего стада. Найдя его, мы продержимся до весны. Но этого не случится, потому что не пройдет и трех недель, как мы увидим вновь шотландский берег. А сейчас каждый на корабле должен поужаться с едой, получая уменьшенные вдвое порции, все должно делиться поровну и справедливо, никому не следует давать предпочтение. Мужайтесь, и мы выдюжим, пройдем это испытание, как проходили все испытания раньше».
Эта краткая, так просто сказанная речь чудесным образом подействовала на экипаж. Все недовольство им, все обиды были забыты, а старый гарпунер, о котором я уже писал, рассказывая о суевериях моряков, трижды прокричал «ура» капитану, и эту здравицу охотно подхватили остальные.
16 сентября
Ночью задул северный ветер, и лед, похоже, тронулся. Люди, несмотря на скудный рацион, на который их посадили, находятся в благодушном настроении. Разводим пары, чтобы не мешкая воспользоваться открывшейся возможностью, если она возникнет. Капитан радостно возбужден, хотя временами в глазах его мелькает все тот же диковатый «нехороший» огонек. Его веселое возбуждение озадачивает меня даже больше былой угрюмости. Не могу я этого понять. Ранее я уже упоминал в дневнике одну из его странностей – не пускать никого к себе в каюту. Он упорно и стелет постель себе сам, и убирает в каюте, и все-все делает в ней собственноручно. И я очень удивился, когда он вдруг дал мне ключ и попросил спуститься к нему в каюту взглянуть на хронометр, когда в полдень он станет измерять высоту солнца над горизонтом. Каюта его оказалась маленькой, почти без мебели; я увидел в ней умывальник, несколько книг и никакой роскоши, если не считать картин на стенах. Большинство картин – это небольшие дешевые олеографии, но одна обратила на себя мое внимание. Это был портрет, но вовсе не изображение какой-нибудь писаной красотки, наподобие тех, что украшают матросские кубрики. Ни один художник не может выдумать, даже напрягая фантазию, такой образ – воплощение женской слабости и в то же время твердости характера. Задумчивый, мечтательный взгляд осененных длинными ресницами глаз, чистый, открытый лоб, безмятежность которого, кажется, не омрачают ни мысль, ни забота, странно контрастирует с четкими очертаниями выдвинутого вперед подбородка и решительностью рта. В нижнем углу была надпись «М. Б. 19 лет». То, что в нежном 19-летнем возрасте можно выработать в себе такую силу воли, такой твердый характер, какие читались в этом лице, показалось мне невероятным. Должно быть, я видел перед собой портрет женщины необыкновенной. Ее черты, в которые я вглядывался всего лишь краткий миг, запечатлелись во мне с такой ясностью, что, будь я художником, я мог бы нарисовать ее в дневнике по памяти, каждую черточку этого лица. Интересно, какую роль играла эта женщина в жизни нашего капитана. Он повесил ее изображение в изножье койки с тем, чтобы постоянно глядеть на нее. Будь он человеком менее замкнутым, я не преминул бы заговорить с ним о ней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.