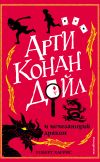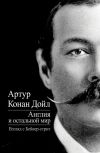Текст книги "Опасная работа"

Автор книги: Артур Дойл
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Что касается перечня вещей в каюте, то они малоинтересны и недостойны даже упоминания – форменные бушлаты, раскладной табурет, маленькое зеркальце, табакерка и целый набор разных трубок, включая восточную «хуку», казалось бы, подкрепляющую версию мистера Милна об участии капитана в войне, хотя напрямую связывать эту вещицу с якобы военным прошлым капитана, на мой взгляд, было бы натяжкой.
11.20 вечера
Капитан только что отправился спать после долгой и интересной беседы со мной на отвлеченные темы. Когда он хочет, он может быть самым занимательным собеседником, начитанный, умеющий выразить любое свое мнение без сухости и педантизма. Рассуждая о душе и ее свойствах, он кратко охарактеризовал взгляды на этот предмет Платона и Аристотеля и говорил очень авторитетно. Он, кажется, склоняется к теории метампсихоза и симпатизирует Пифагору и пифагорейцам. В разговоре коснулись мы и современных спиритуалистов, и я позволил себе пренебрежительную шутку на их счет, сославшись на мошенничество в работах Слейда, но, к моему удивлению, он очень серьезно и внушительно предостерег меня от путаницы понятий и смешивания двух разных вещей, – что было бы так же нелогично, как отрицать христианство из-за того, что ученик Христов Иуда был негодяем. Завершив таким возражением нашу беседу, он вскорости пожелал мне доброй ночи и удалился к себе.
Ветер свежеет и упорно продолжает дуть с севера. Ночи стали теперь совсем темными, не светлее, чем в Англии. Надеюсь, что завтрашний день освободит нас из ледового плена.
17 сентября
Опять этот призрак! Слава Богу, что нервы у меня крепкие. Суеверность этих несчастных парней, обстоятельные рассказы об увиденном, которыми они делятся так серьезно и с такой убежденностью, ужаснули бы всякого, не столь привычного к их нравам человека. Версий много, и детали разнятся, но суть сводится к одному: вокруг судна всю ночь летало что-то странное, и то, что видели Сэнди Макдоналд из Питерхеда и «длинный» Питер Уильямсон с Шетландов, подтверждает увиденное мистером Милном с капитанского мостика. Так что свидетелей теперь трое, и говорят они одно и то же, почему опровергать их стало труднее.
После завтрака я подошел к Милну и сказал, что негоже ему поддерживать нелепые россказни, что ему следует быть выше суеверий и, как старшему по званию, служить примером для остальных. Прошедший огонь и воду ветеран покачал головой и вроде бы поддакивал, но ответил мне довольно осторожно: «Может, это все и так, док, а может, и нет. Я же не говорю, что это непременно дух, в водяных или там иных прочих я не слишком-то верю, но многие клянутся, что видели их. Я не из пугливых, но, может, и вам бы не по себе стало, если б вместо того, чтоб рассуждать об этом днем, вы бы были там со мной ночью и сами увидели, как мелькает то тут, то там эдакое страшное, белое, и воет, и плачет в темноте, вот как ягненок, зовущий свою матку. Тогда бы вы, может, и поостереглись говорить, что все это одни бабьи страхи и выдумки».
Я понял, что пытаться его урезонить – дело безнадежное, и удовольствовался личной просьбой: в следующий раз, когда появится призрак, кликнуть меня, на что он и дал свое согласие, сопроводив это множеством выразительных восклицаний, из которых я понял, как горячо он надеется, что случая звать меня ему не представится.
Как я и надеялся, ледяная пустыня за нами пошла трещинами, и протоки синей воды исчертили лед во всех направлениях. Наша широта сегодня – 80°52′, и это означает, что твердыня пакового льда дрогнула и трещины ползут все южнее. Если благоприятный ветер продержится, то лед стает так же быстро, как образовался. А в настоящее время нам ничего не остается, как пускать пар в машине, ждать и надеяться на лучшее. Я быстро превращаюсь в фаталиста. Зависимость от ветра и льда не может привести ни к чему другому. Наверно, ветры и пески Аравийской пустыни породили у поклонников Магомета их склонность полагаться на волю рока.
Все эти неожиданные страхи и тревоги тяжело отразились на состоянии капитана. Боясь еще больше возбудить его воспаленный разум, я пытался скрыть от него абсурдную историю, но, к несчастью, капитан услышал, как кто-то из матросов упомянул ее в разговоре, и настоял на том, чтобы его ввели в курс дела. Как я и ожидал, услышанное заставило выплеснуться наружу скрытое его безумие, придав ему гиперболическую форму. Было трудно поверить, что это тот самый человек, с которым мы еще вчера вечером говорили на философские темы и суждения которого были столь взвешенны и разумны. Сейчас он метался по шканцам, как тигр в клетке, нетерпеливо оглядывая лед. Он непрестанно что-то бормотал себе под нос, изредка выкрикивая: «Еще немного, милая, еще немного!» Бедняга! Как грустно видеть храброго моряка, с головы до ног джентльмена, дошедшего до такого состояния, горько сознавать, что воображение и галлюцинации могли повредить разум человека, которого не способны были сломить никакие реальные опасности. Бывал ли кто-нибудь в таком положении, как я сейчас: с одной стороны – безумный капитан, с другой – видящий духов помощник? Иногда мне кажется, что я единственный здесь на борту, кто сохранил здравый смысл, не считая второго механика – этот как всегда задумчив и отстранен. Кажется, ополчись на судно все джинны Красного моря, он и бровью не поведет – лишь бы оставили его в покое и не трогали его инструменты.
Лед по-прежнему открывает проходы, и существует большая вероятность, что завтра утром мы сможем тронуться. Когда дома я стану рассказывать о том, что довелось мне пережить, все решат, что это выдумки.
12 часов ночи
Я очень напуган, хотя сейчас и немножко пришел в себя благодаря стаканчику бренди. Но все же я потрясен, о чем свидетельствует и мой почерк. Дело в том, что я пережил странное приключение и начинаю сомневаться, имел ли я право считать безумцами экипаж лишь потому, что люди утверждали, будто видели нечто, недоступное разумному истолкованию. Быть может, и глупо так разнервничаться, но теперь, после всех страхов и тревог, историю эту я воспринимаю гораздо серьезнее, ибо пережитое мною самим не дает мне возможности усомниться в том, что говорил Мэнсон, что подтвердил Милн и над чем я недавно так иронизировал.
Строго говоря, особо пугаться было не из-за чего – слышен был лишь звук, и все. Не могу рассчитывать на то, что кто-нибудь удосужится читать эти строки, посочувствует мне или даже поймет то впечатление, которое все это на меня произвело. Ночь была темной, такой темной, что, стоя на шканцах, нельзя было разглядеть человека на мостике. По-моему, я уже писал о необыкновенной тишине, царящей в этих краях. В любом другом месте, даже самом пустынном, тишину все-таки нарушали бы какие-то звуки – легкая вибрация воздуха от доносящихся издалека отголосков, шума, производимого людьми, шелеста листвы на деревьях, крыльев птиц в полете либо еле слышного шороха травы, тронутой ветром.
Звуки эти ускользают от нашего внимания, мы даже не всегда их слышим, но когда их нет, мы ощущаем их отсутствие и скучаем по ним. Лишь здесь, в холодных арктических морях, начинаешь понимать, что значит подлинная глубокая бездонная тишина, безмолвие, которое обрушивается с неодолимой силой во всей мрачной и торжественной своей красе. Ты ловишь себя на том, что напрягаешь барабанные перепонки в желании услышать хоть слабый звук и с жадностью внимаешь каждому случайному шуму на борту. В подобном настроении я и находился, когда стоял, прислонившись к фальшборту, а тишину ночи разорвал звук, исходивший откуда-то снизу, прямо подо мной – звук пронзительный и казавшийся еще пронзительнее в ночной тишине. Начался он с ноты такой высокой, какую не взять и оперной приме, он становился все выше и выше, пока не превратился в вопль невыносимой боли – так вопит проклятая навек душа. Этот леденящий кровь вопль до сих пор звенит у меня в ушах. Скорбь невыносимая, неизъяснимая и неизбывная – вот что было в этом вопле, и великая тоска, в которую вторгались вдруг странные ликующие нотки. Источник этого звука находился совсем рядом, но, хоть я и вглядывался изо всех сил в темноту, различить в ней ничего не мог. Я прождал еще некоторое время, но звук не повторился, и я спустился вниз, потрясенный, может быть, так сильно, как никогда в жизни. Спускаясь по трапу, я повстречал Милна, шедшего, чтоб заступить на вахту. «Что, док, – обратился он ко мне, – бабьи страхи это были, да? Теперь сами слышали? Так что скажете? Суеверие и невежество и ничего больше, да?» Мне ничего не оставалось, как извиниться перед достойным моряком и признаться, что я так же озадачен, как и он сам. Может быть, завтра происшествие это будет выглядеть и по-другому, но в настоящий момент я даже не могу описать то, что чувствую. Когда-нибудь перечтя это все, уже свободный от прошлого и всех его перипетий, я смогу отрешиться от пережитого, и тогда, возможно, я устыжусь собственной слабости и стану презирать себя за нее.
18 сентября
Провел беспокойную бессонную ночь, в которой мне все время слышался тот странный звук. По виду капитана не скажешь, что он хорошо отдохнул за ночь, потому что лицо у него осунувшееся, а глаза красные. О моем ночном переживании я ему ничего не сказал и не скажу. Он и без того не находит себе места и возбужден – то сядет, то снова вскочит, как будто ему не сидится спокойно.
Утром в массиве льда, как я и предполагал, обозначился хороший проток, и мы смогли поднять наш ледовый якорь и пройти под паром около двенадцати миль в юго-западном направлении, после чего оказались перед громадной плавучей льдиной, такой же массивной, как те, что остались позади. Льдина эта полностью преградила нам путь, так что нам не оставалось ничего другого, как вновь бросить якорь и ждать, когда ветер разобьет лед, что может произойти в пределах этих суток, если ветер продержится и не переменит направления. В воде показалось несколько тюленей-хохлачей, и мы пристрелили одного – громадного, больше 11 футов в длину. Это звери страшные, драчливые, и, говорят, что даже медведю с ними трудно тягаться. По счастью, они довольно медлительны, почему атаковать их на льду особой опасности не представляет.
Судя по всему, капитан не считает, что мы испили до дна всю чашу бед, нам уготованных, хотя мне непонятно, почему он так мрачно оценивает ситуацию сейчас, после нашего чудесного избавления из плена, когда несомненно, что чистой воды мы достигнем очень скоро.
– Наверно, доктор, вы считаете, что теперь все в порядке, не правда ли? – осведомился он, когда мы сидели с ним после обеда.
– Я надеюсь, что это так, – отвечал я.
– Не стоит быть слишком уверенным. Вы, конечно, правы. Еще совсем немного, и нас всех ожидают объятия наших любимых и единственных, ведь правда? И все же слишком уж уверенными быть не стоит, нельзя быть слишком уверенными.
Он промолчал, задумчиво покачивая ногой.
– Знаете, – продолжал он, – это ведь места опасные, даже в хорошую погоду – опасные, гиблые, коварные места. Я знал случаи, когда люди здесь пропадали совершенно неожиданно. Какая-нибудь глупая ошибка – одна единственная ошибка – поскользнулся, оступился – и летишь в трещину, в пучину, и только пузыри по зеленой воде там, где человек был. И странная такая штука, – продолжал он с нервным смешком, – за все эти годы, что я провел в этих краях, я почему-то не подумал написать завещание. Не то чтобы у меня оставались какие-то богатства, особые сокровища, что ли… Но ведь должен же человек, в особенности постоянно подвергающий себя опасностям, все предусмотреть, всем распорядиться, подготовить всё, вы так не считаете?
– Конечно считаю, – подтвердил я, не очень понимая, куда он клонит.
– Ему же будет лучше от сознания, что все устроено, оговорено, – продолжал капитан. – Так вот, теперь, если что-то со мной случится, я надеюсь, что вы окажете мне услугу и позаботитесь о моем имуществе. Вещей в моей каюте совсем немного, но то, что есть, пусть будет продано, а вырученные деньги разделены между всеми членами экипажа, так же, как мы делим выручку за китовый жир. Мой хронометр возьмите себе, в память о нашем плаванье. Конечно, с моей стороны это просто предосторожность, но я решил воспользоваться случаем и поговорить об этом с вами. Наверно, я могу положиться на вас в случае необходимости и…
– Несомненно, можете, – подхватил я, – и если вы совершаете подобный шаг, то и я.
– Вы, вы? – прервал меня капитан. – У вас все хорошо, какого дьявола вы такое говорите! Послушайте. Я не хочу казаться желчным или сердиться на вас, но не желаю я слышать, как молодой, едва начавший жить человек размышляет о смерти! Выйдите на палубу и подышите свежим воздухом вместо того, чтобы пороть чушь, сидя в душной каюте и побуждая меня пороть такую же чушь!
Чем больше думаю я об этом нашем разговоре, тем меньше он мне нравится. Зачем понадобилось человеку улаживать дела и распоряжаться имуществом в момент, когда вроде бы опасность остается позади? Даже в безумии должна быть известная логика. Может быть, он подумывает о самоубийстве. Помнится, был случай, когда он очень серьезно и с большим почтением называл геройством грех самоубийства. Надо будет приглядеть за ним. И хоть нарушать его одиночество, когда он в каюте, я не имею права, но, по крайней мере, я постараюсь оставаться на палубе, пока он не спит.
Мистер Милн развеял мои страхи, сказав, что капитан «просто чудит, как всегда». Сам же Милн оценивает наши перспективы весьма радужно. На его взгляд, послезавтра мы очутимся в чистом, свободном от льдов море, еще через два дня пройдем Ян-Майен, а Шетландов достигнем через неделю с небольшим. Надеюсь, такой его оптимизм не чрезмерен. Мнение Милна – достойный противовес мрачным предосторожностям капитана, ибо моряк он бывалый, опытный, и слов на ветер не бросает.
* * *
Долго назревавшая катастрофа наконец произошла. Даже не знаю, как написать это. Капитан исчез. Может быть, он еще вернется к нам живой, но боюсь, боюсь… Сейчас семь утра 19 сентября, а я с остальными членами экипажа целую ночь обшаривал льдину, что у нас на пути, в надежде отыскать какой-либо след капитана, но все тщетно. Попытаюсь рассказать по порядку все обстоятельства этого исчезновения. Пусть каждый, кому случится прочесть строки, которые я пишу, помнит, что основаны они не на догадках либо слухах, что автор – образованный человек, находящийся в здравом уме, желающий в точности передать то, что происходило на его собственных глазах. Умозаключения – мои, но за факты я отвечаю.
После переданного мной разговора с ним капитан находился в прекрасном расположении духа, но, казалось, нервничал и проявлял нетерпение – постоянно менял позу, бесцельно и беспорядочно дергал руками и ногами, как это бывало порой ему свойственно. За четверть часа он не менее семи раз выходил на палубу и, сделав несколько торопливых шагов по ней, вновь спускался вниз. Всякий раз я следовал за ним, ибо что-то в его лице укрепляло меня в желании держать его в поле зрения. Казалось, он понимал впечатление, которое производят его метания, потому что пытался усыпить мою бдительность преувеличенной веселостью и деланно и шумно хохотал в ответ на шутки. После ужина он в очередной раз вышел на ют, и я вместе с ним. Вечер был темным и тихим – тишину нарушал лишь легкий шелест ветерка, игравшего рангоутным деревом.
С северо-запада наползала туча, и рваные ее края, подобно щупальцам, тянулись к лику луны, застилая его, и луна проглядывала теперь лишь изредка в просветы тучи. Капитан быстро бегал взад-вперед, неожиданно заметил меня, все еще маячившего рядом и, резко обернувшись в мою сторону, настоятельно попросил меня спуститься вниз – так будет лучше. Нет нужды говорить, что эти слова только усилили мою решимость оставаться на палубе.
Думаю, что после этого он забыл о моем присутствии. Он стоял, опершись о гакаборт и вглядываясь в необозримую заснеженную даль, часть которой была сокрыта тьмой, в то время как другая мерцала в лунном свете. Несколько раз я замечал по его движениям, что он словно обращается к кому-то, а однажды до меня донеслась короткая фраза, которую он пробормотал и из которой я уловил лишь одно слово: «готов». Должен сказать, что я испытывал какое-то жуткое чувство, следя за его высокой фигурой, смутно видневшейся в темноте. Я не мог отделаться от ощущения, что он пришел на свидание. Но с кем? Сопоставив факты, я стал подозревать нечто, но оказался совершенно не готовым к тому, что произошло потом.
По внезапной перемене в нем, по его волнению, я вдруг понял, что он что-то увидел. Я тихонько приблизился и встал за его спиной. Он с жадностью и вопросительно вглядывался в туманный завиток, быстро летевший вровень с судном. Это было воздушное нечто, не имевшее определенной формы, то более, то менее видимое, в зависимости от освещения. Луну в этот момент закрыл тонкий, как лепесток анемона, облачный покров.
«Иду, иду, детка!» – вскричал капитан, голосом, полным неизъяснимой нежности и сострадания, – так утешают любимого человека, даруя ему что-то долгожданное, бесконечно желанное.
Все дальнейшее произошло мгновенно, и я не нашел в себе сил помешать этому. В одну секунду он вспрыгнул на фальшборт и в следующую – уже был на льду, почти у ног бледной туманной фигуры. Он простер руки, словно желая что-то схватить, обнять, и ринулся во тьму с распахнутыми для объятия руками, выкрикивая слова нежного привета. Я стоял неподвижно, окаменев, и напрягал глаза вслед удалявшейся во тьму фигуре. Я был уверен, что больше никогда его не увижу, но вдруг луна опять засияла в просвете туч и осветила ледяное поле. И я увидел далеко-далеко темную фигуру, бежавшую с огромной скоростью по заледенелой равнине. Больше мы его не видели и, наверно, никогда не увидим. Сколотили поисковую бригаду, в которую вошел и я, но энтузиазма матросы не проявили, и мы ничего не нашли. Через несколько часов на поиски выйдет другая бригада. Мне трудно поверить, что все это не сон, кажется, что я пишу это, еще не стряхнув с себя бредовые сновидения.
7.30 вечера
Сейчас вернулся совершенно разбитый и измученный вторичными безуспешными поисками капитана. Льдина это огромная, и, хоть мы и прошли по ней миль двадцать, если не больше, конца ей не было видно. Мороз в последнее время стоит ужасный, и снег на поверхности льдины смерзся, став твердым, как гранит – иначе мы могли бы отыскать его по следам. Матросы желают отправляться не мешкая, развести пары и держать путь на юг, так как за ночь лед вскрылся и на горизонте обозначилась вода. Матросы уверяют, что капитан Креги, уж конечно, мертв, а мы рискуем жизнью, теряя время неизвестно зачем и пренебрегая возможностью спастись. Мистеру Милну и мне стоило большого труда уговорить их подождать еще один день до завтрашнего вечера, поклявшись, что дольше этого срока мы здесь не останемся. Мы предложили поспать несколько часов, а потом в последний раз обшарить льдину.
20 сентября, вечер
Утром я с группой матросов вышел на лед и обследовал льдину в южной ее части. Мы прошли миль десять-двенадцать, не встретив и следа какой-либо жизни, не считая одинокой птицы, долгое время кружившей над нашими головами. Судя по полету, это был сокол. На юге льдина вытягивается в длинный и узкий, вдающийся в море мыс. У основания мыса люди остановились, но я упросил их пройти дальше, к оконечности мыса, чтобы почувствовать удовлетворение от сознания, что нами не был упущен ни малейший шанс отыскать капитана.
Мы не прошли и ста ярдов, как Макдональд из Питерхеда, крикнув, что видит что-то впереди, перешел на бег. Мы тоже это увидели и побежали. Поначалу это казалось непонятным темным пятном на белом льду, но по мере нашего приближения оно обретало очертания человеческой фигуры, а потом и очертания того, на чьи поиски мы и отправились. Капитан лежал ничком, уткнувшись лицом в замерзший сугроб.
За время, пока он лежал, его занесло снегом, засыпало кристалликами льда, и, когда мы подошли, порыв ветра закрутил эти кристаллики в маленький снежный столб, взметнул их и опять опустил, а потом, подняв часть этих кристалликов в воздух, подхватил и унес в сторону моря. Мне это показалось лишь снежным вихрем, но многие из моих спутников утверждали, что поначалу вихрь этот имел форму женской фигуры и фигура эта склонилась над трупом, поцеловала его, а потом полетела прочь, паря над льдами. Наученный опытом, я теперь не смеюсь над мнениями других, какими бы странными они подчас мне ни казались. С уверенностью можно сказать лишь одно: смерть капитана Николаса Креги не была мучительной; исхудалое лицо его освещала радостная улыбка, а руки его были все еще простерты, словно для объятия, предназначенного странному гостю, поманившего его в дорогу, в туманную даль загробного мира.
В тот же день мы его похоронили, завернув во флаг корабля и привязав к его ногам тридцатидвухфунтовое пушечное ядро. Я прочел отходную, а грубые матросы плакали, как дети, потому что многие из них были ему благодарны за его доброту; любовь и привязанность их к капитану, подорванные странным его поведением в последние дни, сейчас вспыхнули с новой силой. Тело его, пролетев решетчатый люк, с плеском погрузилось в воду, и я видел, как оно опускается вниз, ниже, ниже, пока не превратилось в белый лоскуток, светлое пятнышко, мерцающее у грани вечного мрака. Потом и оно исчезло, растворилось, и он ушел. Ушел, унеся с собой свою тайну и скорбь, навеки похороненную в его груди, для того великого дня, когда море извергнет из себя мертвецов, и Николас Креги, восстав их мрака, возникнет вновь среди ледяного простора, улыбающийся ясной улыбкой, простирающий руки в приветствии. От всей души молю Бога, чтоб загробная жизнь его была счастливее той, которую он прожил.
Я не стану продолжать мой дневник. Нам предстоит теперь путь домой – прямой и ясный, а великие льды совсем скоро превратятся лишь в воспоминание. Не скоро смогу я оправиться от шока, вызванного недавними событиями. Начиная вести запись нашего плавания, я понятия не имел, каковы будут его последние страницы. И вот я пишу заключительные строки один в моей каюте, и время от времени вздрагиваю, потому что мне чудится, будто с палубы доносятся торопливые и нервные шаги погибшего капитана. Сегодня ночью я вошел к нему в каюту, чтобы, выполняя обещанное, составить опись вещей и внести ее в официальный документ. В каюте все было по-прежнему, все вещи находились на тех же местах, на которых я видел их в первый мой визит, но портрета в изножье его койки, о котором я говорил, не было – у меня сложилось впечатление, что его вырезали из рамки ножом и унесли. Этим последним звеном в цепи странных событий, которым я оказался свидетелем, я и завершу мой дневник плаванья «Полярной звезды».
[Запись, сделанная доктором Джоном Макалистером Реем-старшим.]
Я перечитал это странное повествование, рассказывающее о смерти капитана «Полярной звезды» и содержащееся в дневнике моего сына. Я совершенно уверен в том, что все это происходило именно так, как он пишет. Уверенность мне придает знание характера моего сына – человека разумного и твердого, не склонного к фантазиям. Однако описанные события на первый взгляд так причудливы и невероятны, что долгое время я противился публикации. Впрочем, несколько дней тому назад я имел случай получить независимое мнение на этот счет, и оно стало подтверждением правдивости рассказа, пролив новый свет на описанные события. На собрании Британской медицинской ассоциации в Эдинбурге я встретился с доктором П., давним моим товарищем по колледжу, ныне практикующим в Сэлташе, Девоншир. Выслушав мое повествование о странном приключении сына, он объявил, что был знаком с героем рассказа, и, к удивлению моему, описал его точно так же, как он был описан в дневнике, не считая того, что доктор знал капитана, когда он был моложе. По словам доктора, капитал был помолвлен с молодой женщиной необыкновенной красоты, жившей в Корнуолле на побережье. Когда капитан находился в море, его невеста погибла при обстоятельствах самых загадочных и трагических.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.