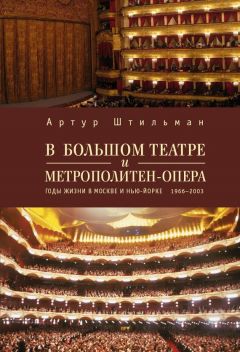
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Конечно, несправедливо было говорить так обо всех восточных немцах. У меня были соученики – студенты из Восточной Германии – и они были людьми совершенно нормальными, интеллигентными и интеллектуальными, искренне осуждавшими наци и их антисемитскую политику, особенно в отношении музыкантов – так как они сами были музыкантами, то и знали обо всех преследованиях германских евреев-профессоров лучше, чем кто бы то ни было. Словом, это были люди другого сорта и что важно – другого поколения. Но сорока-пятидесятилетний немец в середине 60-х, житель маленького города, пожалуй, был именно таким, каким был отец того погибшего ребёнка, потребовавший компенсации своих расходов. Германия раскрывалась по-разному.
* * *
Незадолго до окончания наших концертов в Германии, командующий берлинским гарнизоном полковник В.Я. Селех устроил «сталинский банкет» в честь нашей группы. Он носил форму генеральского покроя, но погоны полковника. Говорили, что приказ о присвоении ему генеральского звания уже был, но не публиковался по политическим соображениям, как бы снижая ранг командования войсками столь недавно ещё «фронтового города». Накануне мы сыграли концерт для небольшой группы солдат и офицеров, охранявших тюрьму Шпандау, где содержался Гесс. Советская охрана несла службу по очереди с американцами и англичанами. Полковник Селех присутствовал на том концерте, и вероятнее всего, также отдал должное нашей певице Маргарите Мирошниковой. Возможно, что главной причиной банкета и было её присутствие на нём. Полковник, воевавший во второй половине Отечественной войны в юном возрасте, был сыном известного генерала Селеха. Вёл он себя совершенно безупречно.
Помимо шикарного банкета он сам нас возил на моторной лодке по озеру Мюгельзее в предместье Берлина. Вокруг озера на побережье и на многочисленных каналах вокруг него было огромное количество дачных домиков берлинцев. Каждый из них выражал собой фантазию хозяев – там были постройки в стиле американских ранчо, в стиле крохотных вилл: итальянских, голландских, французских, классических деревенских немецких – словом это был парад всех стилей в каком-то игрушечном осуществлении. Детям с 12-летнего возраста разрешалось самим управлять лодками с небольшими бензиновыми моторами. Бороздили озеро и солидные яхты с профессиональными матросами. В голове возникали вопросы – откуда такое буржуазное благополучие в стране только недавно восставшей из руин? В голову, конечно, приходили всякие нехорошие мысли о происхождении средств, вложенных в эти постройки, яхты, моторные лодки. Трудно было забыть, где мы находились, трудно было забыть историю войны, трудно было воспринимать всё это в побеждённой стране на фоне убогой жизни в СССР.
Всё это, однако, было реальностью, горькой, но ясно видимой реальностью – восточная Германия жила жизнью хорошо устроенного, процветающего Запада, уровень жизни которого, казалось, никогда не может быть достижимым в стране победительнице – в СССР.
Естественно, что мы в нашей группе об этом говорили, обсуждая всё виденное со всех точек зрения: восточная Германия ничего не тратила на оборону, не делала капитальных вложений в тяжёлую и военную промышленность, а свою лёгкую промышленность развивала весьма успешно, пользуясь бесконкурентным сбытом своих товаров в Восточной Европе и Советском Союзе. И всё же у всех нас, пожалуй, преобладало чувство горечи. Не зависти, а именно горечи.
Возвращаясь назад, вспоминается, как на обратном пути, на последней остановке в Германии – во Франкфурте-на-Одере, нас разбудила Маргарита Мирошникова. Оказалось, что на границу приехал провожать ещё один полковник, поклонник нашей певицы. Приехал с ящиком шампанского, предварительно бросив на подчинённого командование полком на маневрах!
Утром в нашем вагоне мы обнаружили ещё одного старого знакомого по послеконцертным банкетам – подполковника, начальника разведки полка. Он, совершенно потеряв голову, ринулся в отпуск в Москву. О его рассказах в присутствии Мирошниковой и всех нас – лучше бы не вспоминать. Как говорили – болтун – находка для шпионов…
Так закончилось первое лето первого отпуска в Большом театре.
6. Творческий клуб Большого театра
Идея встреч работников Большого театра с выдающимися деятелями культуры – писателями, поэтами, артистами – скорее всего, принадлежала Юлию Марковичу Реентовичу (о нём немного позже). Естественно – с разрешения дирекции театра. Эта идея давала ему приятную возможность знакомства со знаменитостями в процессе подготовки встреч, а потом и представления их публике – артистам балета, музыкантам и певцам театра.
Первым на такую встречу в конце 1966 года был приглашён всемирно известный писатель Илья Эренбург.
Народу пришло очень много – гораздо больше, чем вмещал Бетховенский зал. Так как этот зал, хотя и имел изумительную заднюю комнату, обставленную с королевским шиком – бордовые муаровые стены, позолоченную с красным бархатом мебель в стиле барокко, каминные часы и другие красоты, всё же сам зал имел только один вход, служивший и выходом[3]3
Это было бывшее «Царское фойе» из которого позднее в сталинское время была проделана дверь, ведущая в сталинскую ложу – слева от сцены, если смотреть из зала. Об этом рассказал мне Геннадий Рождественский, севший однажды, в бытность свою главным дирижёром Большого театра, в кресло самого Сталина, на котором он отдыхал между актами оперы. Но в «Царское фойе» Сталин не выходил.
[Закрыть]. Эренбург приехал вовремя и сел за небольшой столик на эстраде зала. Он был великолепен во всём величии своего французского скепсиса и несомненном презрении к явному – по его мнению – невежеству всей собравшейся публики. Илья Григорьевич был сильно раздражён, так как не все зрители уселись – части пришлось стоять в задней комнате, откуда слышно было не так уж хорошо.
Внезапно он встал и сказал: «Пока вы будете тут разбираться со своими мэстами (именно так и сказал – через букву «Э») я почитаю стихи». Позднее мой друг Анатолий Агамиров-Сац, знавший об Эренбурге от своей тёти Розенель-Луначарской всё, что могли знать о нём люди его круга, говорил мне, что Илья Григорьевич всю жизнь в первую очередь считал себя поэтом.
Надо сказать, что кое-что из его стихов я знал из его Собрания сочинений. Эти – новые для большинства из нас стихи, были долгое время неизданными, но читать их здесь, перед, быть может, и не в его глазах, но всё же достаточно элитарной публикой, он счёл не только возможным, но и нужным. Стихи эти были отмечены печатью большого интеллекта, и в меньшей степени, как мне показалось – какими-то особенными поэтическими достоинствами.
Как бы то ни было, но всё это было исключительно интересным. Ведь именно Эренбург своими мемуарами «Люди, годы, жизнь» создал для большинства из нас, так сказать, школу «ликвидации безграмотности по истории искусств XX века». Это было в ту пору совершенно бесценным! Нам открылись впервые в жизни имена Модильяни, Сутина, Цадкина, Пикассо, Шагала, Архипенко, жителей Парижа – представителей русского искусства – художников, поэтов, актёров – словом весь мир искусств обитателей бульвара Монпарнас, как в волшебном театре предстал перед нами воссозданным глазами писателя умного, саркастичного, безмерно требовательного к себе и исключительно эрудированного.
Именно поэтому встреча с Эренбургом была и волнующей и захватывающе интересной. При этом сам Илья Григорьевич, как уже говорилось, не скрывал своего высочайшего презрения к уровню мышления своей аудитории в тот вечер.
После недолгого чтения стихов он произнёс: «Вообще говоря, я не знаю, что я должен здесь делать. Думаю, что лучшей формой этой встречи будут вопросы и ответы».
Ему начали присылать бумажки с вопросами. Их было много – сразу же выросла целая горка. Для начала он всё же спросил, желает ли кто-нибудь задать ему устный вопрос? Среди всех нас нашлась лишь одна смелая – Марина Яблонская-Маркова, которая задала вопрос вполне естественный, как мне кажется и сегодня, к автору романа – «Хулио Хуренито». Вопрос был следующим: «В какой мере прототипом Вашего героя был Диего Ривера?»
Ничего обидного, казалось, для автора в этом вопросе не было. Он, однако, пришёл в большое раздражение и сказал:
«Все мои герои – плод моего литературного вымысла и ничего не имеют общего с реальными прототипами!»
Конечно, у автора романа были для этого утверждения серьёзные аргументы. Много лет спустя, уже после войны, как он сам писал в своих мемуарах, ему часто задавали вопрос: каким образом ещё в 1921 году – задолго до страшных событий века, он с известной точностью предсказал появление Гитлера, Холокост и атомную бомбу? Правда, те вопросы задавали ему заграницей – в Японии, Франции, Западной и Восточной Европе. Здесь перед ним сидели всего-навсего работавшие в Большом театре. Но, вероятно, дело было как в его возрастной раздражительности, так и в его отношении к окружающему миру.
К одному вопросу он отнёсся с мягкой иронией и, элегантно грассируя, ответил: «Ну, этот вопрос наверное написала какая-нибудь прелестная балерина: "Что вы думаете о поэзии Евтушенко?"»
«Я о ней не думаю!» – был его ответ.
И всё же, несмотря на его сарказм, в заключение встречи он сказал нам нечто важное, признав, таким образом, за собравшимися, что и они делают на этой земле что-то заслуживающее внимания.
Вот какими были его заключительные слова: «Вы – представители искусства. Я должен вам сказать, что вижу будущее в очень мрачном свете, и думаю, что только искусство способно создать что-то между людьми всего мира, способствующее сближению, пониманию и возможно более устойчивому миру. Только искусство способно это сделать!» – повторил он.
«И потому – именно на вас лежит эта миссия». Это были его последние слова.
Примерно через полгода Эренбург скончался. Таким образом, мы, пожалуй, были одними из последних его слушателей. Многие оценивают его жизнь и деятельность с очень разных, порой противоположных позиций. Но как бы то ни было Илья Эренбург вошел в историю мировой культуры как автор бессмертного романа «Хулио Хуренито», изданного, без преувеличения – на всех языках мира. Для нас он остался величайшим просветителем в нашем познании мира литературы и искусств XX века.
* * *
Второй знаменитостью, выступавшей в этом клубе, был уже известный в то время, молодой писатель Владимир Солоухин. Он произвёл на меня удивительно симпатичное и обаятельное впечатление – не по-московски «окая», он казался человеком совершенно другого мира – скорее мира старой, дореволюционной России, каким-то персонажем типа «народников» или других ранних революционеров. Солоухин своё выступление посвятил погибшим памятникам архитектуры, и, прежде всего церковной архитектуры Москвы. Памятники эти были снесены по плану реконструкции города, либо разрушены во время самой революции.
В целом, Солоухин конспективно изложил свою талантливо написанную статью, посвящённую памятникам русской старины и опубликованную в журнале «Новый мир». Через несколько лет, случайно оказавшись в доме одного московского литератора, я рассказал о такой приятной встрече с милым и талантливым молодым автором. Реакция на мои слова была совершенно неожиданной: «Артур! – воскликнул хозяин дома. – Вы с ума сошли! Это же охотнорядец, погромщик! Вы этого можете не знать, но поверьте, в литературной среде это знают все!» Я был совершенно огорошен такой характеристикой Солоухина. Только в начале 90-х с наступлением в России свободы слова были опубликованы страницы Солоухина, полностью подтвердившие слова, услышанные мною тогда. Да! Боль Солоухина за утерянные национальные ценности была вполне понятна и даже полностью разделялась тогда его слушателями. Но это было, так сказать, лишь вступлением к главному. А главным стало – «Кто и почему систематически истреблял русскую культуру и её носителей?»
Но тогда ещё можно было писать его ответы на эти вопросы только в стол. Несмотря на продолжавшуюся политику государственного антисемитизма вплоть до 1991 года, некоторые аспекты оставались табуированы для желанного многим истолкования истории в печати. Когда началась эра свободы слова, этой свободой, вполне естественно, воспользовались такие люди как Солоухин и тогда они высказали, вернее, досказали всё то, чего не могли сказать раньше.
Совмещение в одном человеке двух Солоухиных даже сегодня мне кажется чем-то неестественным и ненормальным. И главное – разочаровывающим. Как жаль, что талантливый художник опустился в постсоветское время до низкопробной, действительно «охотнорядской», чуждой интеллекту и таланту, сивушной продукции тошнотворного и примитивного антисемитизма.
* * *
Третьей знаменитостью, выступившей в Бетховенском зале в «Творческом клубе» был Аркадий Райкин. Всегда казалось, что его встречи со зрителями вне спектаклей, были для него достаточно мучительными. Ведь все ожидали от каждого его слова искромётного остроумия и блеска эстрадного выступления – как бы продолжения его спектаклей в ином помещении и с иной публикой.
Этого, конечно, в реальной жизни быть не могло. Райкин не был ни писателем-сатириком, ни автором текстов. Все тексты его эстрадных выступлений отшлифовывались долговременной и тяжёлой работой, наподобие работы музыканта – пианиста или скрипача. Эта работа никогда не видна широкой публике, виден лишь её результат – выступление на эстраде, когда всё кажется совершенно естественным и законченным – никаких следов проделанной месяцами работы!
Вероятно поэтому при встречах с Райкиным, даже на отдыхе в Доме творчества кинематографии в подмосковном Болшеве, он производил впечатление человека заурядного и даже скучного. А он ведь просто отдыхал! Но его прочно осевший в сознании зрителей образ был всегда связан с остроумными текстами, которые цитировались миллионами людей при разных жизненных обстоятельствах.
Так было и на этот раз – Райкин пытался что-то рассказать о своей работе, об отборе текстов для будущих спектаклей, о своём театре… Получалось всё это, как всегда и везде, где он появлялся «просто так», несколько пресно и заурядно.
И вдруг! Вдруг всё вокруг преобразилось! Началось несравненное искусство Аркадия Райкина! Он начал исполнять новую миниатюру и сделал это с таким мастерством и вдохновением, что лица людей сразу стали счастливыми, улыбающимися… Начался «Театр Райкина», к великому нашему огорчению скоро закончившийся. Невозможно было просить артиста исполнить более длинную программу – в конце концов, все мы старались не пропускать ни одного его нового спектакля в Театре эстрады, или в театре сада «Эрмитаж», или в Парке им. Горького в летнее время. Так что нам оставалось только проводить его громовыми аплодисментами и поблагодарить изумительного и уникального артиста за его подарок – у нас «дома», в Большом театре насладиться его несравненным актёрским гением.
* * *
Довольно скоро после встречи с Райкиным выступил в том же Творческом клубе Геннадий Рождественский. Но не в качестве пианиста или дирижёра, а в качестве… искусствоведа!
То была настоящая лекция и называлась она – «Испанское искусство эпохи Возрождения». Трудно было постичь, как дирижёр, руководивший Большим театром и Большим Симфоническим оркестром радио, мог обладать такими глубокими познаниями в испанской поэзии, живописи, танце, архитектуре и литературе! Ведь для того, чтобы делиться такими духовными сокровищами, для начала их следует изучить и узнать самому. И не только узнать, но ощутить преемственность принципов искусства Ренессанса именно в условиях столь своеобычной страны, как Испания. Да, это было большой привилегией для всех нас – работать с Геннадием Рождественским и быть свидетелями подобного уникального выступления. Через много лет, находясь в Испании в дни Фестиваля в Сант-Андере – уже в 1989, во время исполнения подлинного испанского фламенко, я вспомнил слова Рождественского, характеризовавшие этот необычный вид искусства. Как это поразительно совпало с реальностью! Ещё раз, спустя 23 года, я мысленно поблагодарил Геннадия Рождественского за тот удивительный вечер[4]4
Если мне не изменяет память, Г. Рождественский читал тогда текст Федерико Лорки. Когда мне довелось увидеть танец фламенко в его первозданном виде в 1989 году на фестивале в Сант-Андере на севере Испании, слова, прочитанные тогда Рождественским, странным образом всплыли в памяти!
Хотя это и выйдет за рамки воспоминаний о Большом театре, но трудно удержаться от искушения рассказать о глубоком впечатлении от исполнения подлинного фламенко. Специалисты считают, что как слово, так и танец окончательно сформировались в конце XVIII века в Андалусии. Танец, в его первозданном виде – «соло» – одной танцовщицы – впитал в себя элементы цыганские, арабские, сефардские и даже индийские.
Действие начинается обычно двумя певцами, одетыми в белые рубашки и тёмные брюки. Они одни освещаются прожектором, а вся сцена и зал находятся в темноте. Поют они открытыми гортанными голосами в унисон. Это как бы пролог действа. Затем вступают гитаристы, и только теперь высветилась фигура сидящей на стуле с высокой спинкой женщины в длинном платье. В её волосах высокий гребень, с приколотой к нему лёгкой мантильей. Она сидит с прямой спиной боком к публике, совершенно не двигаясь, пока гитаристы играют свои головокружительные пассажи – вариации на народные темы. Внезапно она встает, и её ноги яростно обрушивают на сцену «пассажи» её соло! Мгновенно всё внимание приковано к ней. Работают пока только ступни ног. Что это? Чечётка, столь знакомая по многим американским фильмам? Нет, конечно. Технически, работа её ног, кажется, близка к этому виду танца, но значение его совершенно иное. Кажется, что она сама застыла в ожидании чего-то на фоне бешеной дроби, отражаемой сценой. Теперь приходят в движение её руки – одна рука поднята вверх и её пальцы быстро, по очереди складываются на ладони. Вторая рука либо опущена, либо находится за спиной. Потом обе руки слегка приподнимают подол платья, обнажая ноги до колен. Это никак не сексуальный призыв, это выступили на сцену ещё два актёра – теперь уже ноги от ступней до колен продолжают начатый рассказ.
Вот с этого момента и начинается волшебство фламенко! Без слов совершенно ясно, что это рассказ об испепеляющей любви, её немыслимых экстатических взлётах, об обмане и предательстве. Вся эта гамма эмоций передаётся танцем перед даже не посвящёнными зрителями так ясно, что не требуются никакие объяснения. Темп танца от статического и умеренного начинает постепенно убыстряться, гитаристы создают драматический фон танца. Достигнув большой силы звучности и темпа, танец внезапно обрывается, как бы задыхаясь после «заданных» невидимому партнёру вопросов. Эти драматические паузы производят большое впечатление. Так же внезапно наступает продолжение танца синхронно с гитаристами. Теперь уже всё тело танцовщицы участвует в яростном движении и вращениях, которым, кажется, не будет конца! Танцовщица наступает снова и снова на невидимого партнёра (или возлюбленного?) с такой исступлённой яростью, что в какой-то момент совершенно ясно представляется остро оточенный нож. Но нет! Снова драматическая пауза. Женщина плюёт в лицо обманувшего её возлюбленного и после короткого заключения наступает конец – солистка немного сгибается боком к публике, отвернув лицо… Так окончилась рассказанная танцем драма. Вот таким ожило подлинное фламенко в те минуты на фестивальной сцене, и ярко вспомнились слова поэта, прочитанные за 23 года до этого Геннадием Рождественским, Больше, увы, никогда и нигде мне не довелось увидеть ничего подобного тому выступлению на фестивале в Сант-Андере. Позднее, по местному ТВ мы видели множество танцовщиков и групп фламенко – женских, мужских и смешанных, но всё это уже был, совершенно очевидно, уровень «коммерциализованного» фламенко. До того уровня драматического танца этим артистам было очень далеко, но публика и особенно туристы охотно принимали это за подлинное испанское фламенко.
[Закрыть].
Последним «всплеском» Творческого клуба в смысле выступлений внетеатральных знаменитостей, была встреча с всемирно известным французским мимом Марселем Марсо (Marcel Marceau) (1923–2007) – настоящее имя которого – Исер Иоселович. Его отец – кошерный мясник, поменял во Франции фамилию на «Манжель», что не спасло его семью и его самого от газовой камеры в Освенциме. Погибли все, кроме Марселя и его брата, уцелевших в Сопротивлении и переправленных в самое опасное время в Швейцарию.
Помнится, это был третий приезде Марсо в Советский Союз. «Мини-концерт» в Творческом клубе дал достаточно полное представление о его несравненном искусстве и созданном им герое «Бипе», оказавшем влияние на самых знаменитых артистов французской эстрады и кино, хотя сам артист всегда подчёркивал, что его работа своими корнями связана с искусством Чарли Чаплина. Его миниатюры «В мастерской масок», «Юность, Зрелость, Старость, Смерть» остались в нашей памяти навсегда.
А вскоре внезапно иссякли все знаменитости – разом! Теперь, только иногда выступали знаменитости наши местные – профессор Консерватории солистка-арфистка оркестра Большого театра Вера Георгиевна Дулова, трубач Тимофей Докшицер, фортепианный секстет солистов оркестра во главе с талантливым Григорием Заборовым, также аранжировщиком всего репертуара для ансамбля скрипачей Реентовича. Частым «гостем» стал именно этот ансамбль, использовавший сцену Бетховенского зала для «обыгрывания» новых пьес своего репертуара.
«Клубные» встречи стали со временем больше походить на консерваторские «закрытые вечера» – прослушивания студентов по тому или иному поводу.
Впрочем, для многих молодых артистов оркестра это было прекрасной возможностью для первого исполнения новых произведений перед высококвалифицированной и требовательной публикой. Так что эта идея сохранилась на довольно долгие годы, но те первые встречи остались в памяти, как главные события жизни театра вне сферы его основной деятельности.
7. Юлий Маркович Реентович (1914–1982)
О Юлии Марковиче Реентовиче нужно писать новеллы, конечно юмористического толка, но для описания его игры на скрипке необходимо перо большого сатирика. Строго говоря, «академий», как и Чапаев, он не заканчивал. Занимался в Тамбовском муз. училище у своего отца. Что правда – Реентович был старейшим скрипачом Большого театра – он проработал там с 1931-го по год смерти – в 1982-м, то есть пробыл в театре 51 год. Долгие годы был рядовым скрипачом, лишь через много лет став концертмейстером благодаря своим редким дипломатическим и администраторским способностям, а также умению хорошо «читать» людей.
Вновь поступившие в оркестр молодые музыканты, и не только скрипачи, не понимали, как вообще скрипач такого уровня, хотя и видный мужчина, мог попасть в Большой театр? Ведь там всегда работали лучшие скрипачи не только Москвы, но всего Советского Союза.
Юлий Маркович начал работать в оркестре Большого театра, как уже говорилось в 1931 году, когда существовали всякие возможности вроде «путёвок профсоюзов на производство», по «общественной линии», то есть через членство в профсоюзе или партийности. Но старые музыканты рассказывали, что самое главное было в том, что дядя молодого тогда скрипача, был инспектором оркестра Большого театра. Для него не представляло большого труда помочь племяннику сначала поступить, а потом и утвердиться в оркестре театра.
С самого начала 30-х годов Реентович, естественно, принимал участие в правительственных концертах, как правило, проходивших в Большом театре. В таких концертах он видел много полезного. Почти на каждом таком мероприятии ещё с довоенных пор, принимал участие унисон юных скрипачей Центральной музыкальной школы при Консерватории. Это было умилительное для вождей зрелище – совсем ещё дети, некоторые из них, правда, уже отмеченные на всесоюзных и даже международных конкурсах, играли какую-нибудь эффектную пьесу. Успех был всегда исключительно большим. А Юлий Маркович пока что размышлял и строил в своей незаурядной голове будущие планы.
В своих мемуарах знаменитый дирижёр Юрий Файер описывает обстоятельства создания унисона скрипачей Большого театра. Юлий Маркович тактично привлёк его к самому тесному сотрудничеству – об этом эпизоде в мемуарах Файера[5]5
«…родился ансамбль в дни знаменательного события – XX съезда партии… Идея исполнить „Perpetuum mobile“ Паганини понравилась всем. Взялись за дело, в котором я, вовлечённый в него с самого начала, продолжал принимать участие в качестве, так сказать, музыкального консультанта и работал вместе со скрипачами над этим номером так, как если бы мне предстояло дирижировать его исполнением на концерте. Выступление прошло с большим успехом, и с 1956 года, со дня закрытия исторического XX съезда партии, Ансамбль скрипачей Большого театра вот уже второе десятилетие живёт насыщенной концертной жизнью. Я продолжал внимательно следить за каждой новинкой в репертуаре Ансамбля и долгое время не оставлял своих „консультативных“ функций… Специально для этого популярного Ансамбля стали писать известные композиторы. Так, пьесу „На русском празднике“ сочинил для наших скрипачей директор Большого театра композитор Михаил Чулаки». Следует добавить, что и другие новые сочинения для Ансамбля написали либо главный дирижёр Евг. Светланов, либо новый директор-композитор – Кирилл Молчанов – А.Ш.
[Закрыть].
К середине 50-х годов Юлий Маркович ясно понял, что сам он, как солист оркестра никак не мог сделать себе какое-нибудь имя за стенами театра, но как организатор, «художественный руководитель» Ансамбля скрипачей Большого театра, как это пышно именовалось, играя в одном унисоне с действительно выдающимися скрипачами театра, он может создать себе даже концертное имя, никогда не играя ни одной ноты соло. Пригласив лучших скрипачей оркестра, поставив в нужных местах среди мужчин во фраках красивых женщин-скрипачек в эффектных концертных платьях, играя популярные мелодии и даже некоторые скрипичные сочинения Сарасате, Паганини, Чайковского, Баха, Моцарта, а также пьесы русских и советских авторов, «Ансамбль» начал быстро завоёвывать популярность. Это было очень приятное развлекательное зрелище для любителей музыки. Именно широкая аудитория с умело «подключённым» телевидением создавала популярность как ансамблю, так и главным образом – самому Реентовичу.
Эту музыкальную деятельность нельзя было назвать музыкальным просветительством, но в качестве эффектного «шоу», иногда и со знаменитыми певцами, советские зрители полюбили эти выступления и многие, даже достаточно интеллигентные люди, искренне верили в то, что Реентович и сам знаменитый скрипач, где-то очень близко, или почти что рядом с Давидом Ойстрахом! Мне приходилось довольно часто лишать таких драгоценных иллюзий многих людей, веривших в музыкальную значимость столь известного артиста. Нужно отдать должное Юлию Марковичу – он без особой помощи со стороны создал широкую рекламу самому себе с помощью игры лучших скрипачей Большого театра, имя и аура которого также играли значительную роль в росте популярности ансамбля и его собственного имени.
Обычно, после окончания выступлений ансамбля, Реентович оставался один на сцене, раскланиваясь с большой серьёзностью во все стороны и один пожинал лавры коллективного труда. О, если бы в такие моменты кто-нибудь попросил бы его сыграть хоть какой-нибудь пустяк! Но умный человек на то и умный, чтобы никогда в такие ловушки не попадаться. А вообще, такие «финалы» были зрелищем не лучшего вкуса, но это не имело значения – Реентович действительно умело создал себе имя знаменитого артиста.
* * *
В 1972 году второй концертмейстер оркестра Большого театра Ю.М. Реентович должен был участвовать в новой постановке оперы «Руслан и Людмила». Знаменитое скрипичное соло в «Руслане» он мог бы сыграть в то время, мягко говоря, в высшей степени скромно, как впрочем играл всё, что ему иногда всё же приходилось исполнять. С одной стороны Реентович не хотел остаться в стороне от постановки с новым главным дирижёром Юрием Симоновым, а с другой – не имел желания знакомить нового «хозяина», тем более бывшего скрипача и альтиста со своим скрипичным уровнем игры.
В сценическом решении знаменитого режиссёра Б.А. Покровского на этот раз обнаружились некоторая странность: женщина-скрипачка, а не концертмейстер оркестра, играла скрипичное соло из оркестровой ямы, находясь недалеко от сцены на довольно высокой тумбе, а певица, исполнявшая роль Людмилы подходила к краю сцены и должна была изображать своё удивление как музыкой, так и скрипачкой. Этот нелепый и довольно смешной эпизод совершенно выпадал из стиля всей постановки. Скорее всего, сам Юлий Маркович и придумал этот почти гениальный ход – «новое видение» скрипичного соло сняло с него тяжёлую ответственность, и создало довольно смешную мизансцену. Исполнительницы этого соло – Элла Браккер (в будущем – член лучшего в мире оркестра «Чикаго-симфони») и Ираида Бровцына были на высоте положения и их игра не оставляла желать лучшего. Мы же не переставали удивляться находчивости Юлия Марковича и его незаурядному умению преподносить свои идеи таким образом, что людям, принимавшим решения, эти идеи казались их собственными.
* * *
Ко времени моего прихода в театр в 1966 году, его игра была столь невероятной, что мы часто менялись спектаклями, чтобы «насладиться» его соло в балете «Бахчисарайский фонтан» Асафьева. Встав в величественную позу во весь свой прекрасный рост перед началом исполнения соло, Юлий Маркович уверенно ставил на гриф палец для извлечения из своего инструмента первой ноты. С началом игры он энергичными короткими усилиями раскачивал эту ноту несколько раз, пытаясь изобразить скрипичную вибрацию. При этом, такую же процедуру он производил и со всеми последующими, относительно длинными нотами, которых к нашему восторгу оказывалось в соло довольно много. То есть, нормальный ход классической игры на скрипке с вибрацией, по крайней мере в эти годы был ему уже недоступен. К этому нужно добавить то, что его длинные ногти на левой руке, цепляясь за струны, производили дополнительные щёлкающие звуки, что и было главным развлечением скрипичной группы оркестра. Ко всему этому в быстрых пассажах добавлялись неловкие и тяжёлые переходы из-за скованности мышц и ограниченной подвижности пальцев левой руки. Всё это вместе дополняло общую картину нашего веселья. При всём этом, Юлий Маркович сохранял, на удивление, по-настоящему хорошую интонацию! То есть при всех немыслимых огрехах игры, его интонация, как правило, оставалась чистой. За одним исключением: в скрипичном соло, сопровождающем арию Фауста в опере Гуно «Фауст» («Какое чувствую волненье…») это качество ему здесь изменяло. В конце этой арии Шарль Гуно написал последние такты скрипичного соло в высокой позиции. Юлий Маркович, как уже говорилось, испытывал скованность мышц пальцев левой руки и добираясь до этих высоких нот начинал понижать и понижать строй, что было особенно хорошо слышно, так как в последних тактах скрипка находится почти в полном одиночестве… Самого Реентовича это нимало не смущало. Он всегда оставался в прекрасном настроении.
В целом, конечно, его фигура как в масштабе театра, так и в масштабе всей музыкальной Москвы, была при всех приведённых выше обстоятельствах с одной стороны достаточно комичной, с другой – весьма незаурядной.
Мне довелось узнать его ближе, когда в 1971-м году во время гастролей Большого театра в Вене он начал со мной осторожные переговоры относительно моего участия в его ансамбле. Понятно, что для меня это не представляло ни малейшего творческого интереса. Выступая как солист, в концертах Московской Филармонии с 1962 года, я был постоянно в сольной форме, держа в памяти довольно значительный репертуар, так что игра популярных пьес в унисон, напоминавшая мне детские годы в Центральной музыкальной школе, не была для меня сколько-нибудь привлекательным занятием. Но опять же – Реентович не был бы самим собой, если бы он не добивался поставленных перед собою задач любой ценой. «Цена» оказалась для него совсем небольшой. Со мной начали вести доверительные разговоры участники его ансамбля, соблазняя тем, что ансамбль довольно часто выезжает заграницу. Слаб человек – кто мог в СССР отказаться от заграничных поездок? Через год – в 1972-м – я не устоял и начал играть в его ансамбле. Но я начинал терять свои концерты в Филармонии. Каждый, кто занимался сольной работой на любом уровне в любой концертной организации, знает, что отказаться от работы можно раз, это простят. Ну, два. А потом будут стараться найти замену, и восстановить своё прежнее положение потребует уже значительного времени и усилий.
Как-то мне удавалось с большими трудами увязывать текущую нелёгкую работу в оркестре с концертами в Филармонии. Теперь к этому прибавились концерты с Реентовичем. После первого же сезона возник конфликт: в мае 1973 года Большой театр выехал на три недели на гастроли в Чехословакию, после чего отправлялся в двухмесячный тур в Японию с балетом. Но до Японии ансамбль с Реентовичем должен был поехать на короткое время в Австрию. Туда по неизвестным причинам я не был назначен. Я тут же сказал Реентовичу, что в таком случае моё сотрудничество можно считать законченным. И опять – осенью 1973 года Реентович сумел меня уговорить сыграть ещё один сезон. Весной 1974 года я себя проклинал за то, что дал ему тогда себя уговорить. Но в конце концов всё было к лучшему. В 1974 году весной ансамбль должен был отправиться на гастроли в США. Перед последней репетицией Реентович сообщил мне, что я «в числе ещё нескольких скрипачей с этой поездки снят». Таким образом, до своей эмиграции в 1979 году, я в США не бывал, и тем самым облегчил в будущем своим ведущим из ХИАСа (Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) и себе самому совершенно плавный въезд в Америку в качестве нового иммигранта (наши заграничные выезды тщательно проверялись, когда мы находились ещё в Риме в ожидании въезда в США – по крайней мере, нам это говорилось официально).
Ещё до 1972-го года некоторые друзья в оркестре меня предостерегали о том, что Юлий Маркович – человек исключительно опасный и если это будет в его интересах, подставит под удар своего даже самого лучшего друга. Кого же ещё сняли с той памятной поездки? Самого близкого друга Реентовича – Йоэля Семёновича Таргонского. Другого очень близкого ему человека – Григория Терпогосова. И, наконец, вообще лучшего скрипача его ансамбля, да и всего оркестра – Даниила Шиндарёва! (С 1975 года он резидент Лос-Анджелеса, был за годы своей жизни в США концертмейстером многих оркестров, а сегодня в 89 лет успешно продолжает выступать с сольными концертами, в том числе и с оркестрами.)
Реентович проявил бдительность – на каждого из нас лично дал соответствующие «рекомендации». Когда я посетил одного из секретарей райкома, где территориально находился Большой театр, то секретарь, по-видимому, по «спецотделу» – Игорь Александрович Глинский, человек с военной выправкой, сказал мне прямо: «Чего вы от нас хотите? Реентович на вас показал! Он показал, что вы дружили и дружите с лицами, покинувшими Советский Союз. Я ведь с вами не работаю! Мы вынуждены доверять Реентовичу, хотя мы знаем, что вы человек порядочный и нас не подводили». Вот так! «Реентович «показал». То есть дал на меня показания, как при следственном деле. Впрочем, таковым оно и было. Счастье ещё, что это были уже «вегетарианские времена», и что такое положение не грозило ничем, кроме запрета на выезд заграницу. А могло бы быть лет так на двадцать раньше и по-другому… И очень даже могло!
Незадолго до моей эмиграции мой друг, о котором уже здесь упоминалось – музыкальный журналист Анатолий Агамиров-Сац – попросил своего близкого приятеля, вхожего в «инстанции», выяснить, что же ещё Реентович «показал» на меня? Оказалось, что он также доложил о том, что «Штильман владеет иностранными языками, в том числе и ивритом, что скрывает. Он нелоялен и дружит с людьми, уже эмигрировавшими и собирающимися эмигрировать из СССР». Вот, примерно в таких словах приятель моего друга довёл до моего сведения «показания» на меня Народного артиста РСФСР.









































