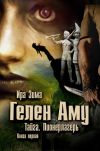Текст книги "Давайте помолимся! (сборник)"
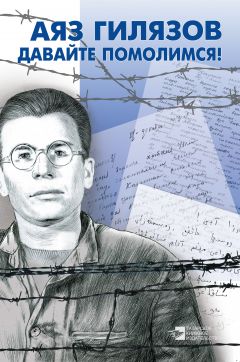
Автор книги: Аяз Гилязов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
На работу не ходим. Днём ворота барака открыты, слоняемся по двору, пинаем воздух, ищем земляков, разговариваем. Вечера, когда двери барака снаружи запирают на замок, особо приятная пора. Трое из бригадников замечательно поют. У Николая Лаврентьевича Новикова из закарпатского города Мукачево дивный бас. Слегка гнусавый (из-за полипов в носу), одрябший русский дедок знает наизусть сотни песен, долго упрашивать себя не заставляет, на заказ может и озорными частушками сыпануть.
У власовца Володи Кондакова своеобразные манеры поведения и походка! Шагает так, будто у него обе ноги левые, а когда преодолевает сильный встречный ветер, сгибается в три погибели, вот-вот носом чиркнет по земле. Через каждые два-три слова смеётся, демонстрируя всему миру гнилые зубы и бледные, обескровленные дёсны. Этот человек, превращающий в шутку каждую фразу, желанен в любой компании. Точно определить возраст Володи весьма затруднительно. Рассмеётся и сразу молодеет, перестанет улыбаться – старик стариком. Но певун Володя знатный, заслушаешься! Москвич Павел Токмаков – интеллигент, изящные, тонкие пальцы, высокий, и голос у него тонкий, тонюсенький, словно нить. Интересно наблюдать, как он берёт пальцами ломоть хлеба. Мы, к примеру, «хап!» полкуска зараз в рот отправим, из железной миски половину баланды уплетём такими быстрыми движениями, что ложка, кажется, не успевает погружаться в суп, а он ещё и не приступил к еде…
Токмаков, Новиков, Кондаков – «трио», старинные русские и современные песни, открывшие неизбывную печаль военных лет, они исполняют проникновенно и душещипательно, проникая в сердце каждого слушателя. Людей, равнодушных к песне, нет, окрылившись задушевным исполнением, каждый из нас улетает в своё прошлое, ударяется в воспоминания. Нам, молодёжи, проще жить – мы холостые, ни жены, как говорится, ни детей, и родители сумели благополучно избежать нашей участи. Хорошо, что можно успокаивать себя тем, что впереди, мол, длинная жизнь. Только сейчас, когда я поднял и поженил детей, обзавёлся внуками, я, кажется, начинаю понимать, какие чувства испытывали в Карабасе пожилые и семейные, глядя на нас, юных арестантов. Почти всю сознательную жизнь проведший в русских тюрьмах, под старость вынужденный переносить лишения в Казахстане грузин Хуродзе был страстным поклонником русских песен и романсов. Укрыв острые, худые колени старым, порванным одеялом, подперев мощный подбородок лёгкими кулачками, он мог часами отрешённо слушать. Хотя мы и живём бок о бок со старшими, но понимать их до конца я ещё не умел. Хуродзе о своей семье не рассказывал, а я не расспрашивал. Была, наверное, и жена осталась на воле, и дети… Взрослым в три, в пять раз тяжелее, чем нам было в те времена! Новиков пожилой, ему лет шестьдесят, наверное, было, немного открывался, молодел и светлел лицом только во время пения. Его, певшего до изнеможения и ходившего от упадка сил под себя после таких изнурительных концертов, ни разу никто не попрекнул, не обматерил. Певец в тюрьме – утешение, богатство, сокровище.
Однажды Миша Пермяков и Митя Шорохов позвали меня в коридор поговорить без свидетелей и сказали, что намереваются сегодня ночью убить Павла Токмакова, как, мол, я смотрю на это. Я удивился, хотя старался виду не подавать. «За что?» – спрашиваю. То ли парни сами выследили, то ли им кто-то настучал, в ответ я услышал: «Он москвич! А они все продажные шкуры… Токмакова два раза вызывал к себе кум!» «Кумом» на зоне называли МГБшника. Я задумался. Понимаю, эти парни шутить не станут… Кум и меня вызывал, пытался струнки мои подёргать. Говорю парням: «Работа у него такая – вызывать!» – и советую не спешить, предлагаю рассмотреть вопрос со всех сторон.
Почему они решили посоветоваться со мной? Почему прислушались к моим словам и не тронули Токмакова? До сих пор я не могу понять этого и вразумительно объяснить. Может, опять свою роль сыграл университет, моя к нему принадлежность? Или они поверили сверстнику? Как бы то ни было, кажется, именно мне удалось спасти жизнь Павла Ивановича.
В Карабасе я сдружился с Николаем Ильичом Градобоевым. Мы стали вместе кушать. В лагере, если хотят узнать, что за человек перед тобой, спрашивают: «Ты с кем ешь?» или «С кем ты кушал?» Это очень значимый вопрос! Важнее самого страшного вопроса советских анкет! На зоне каждый с утра до вечера ищет, чем прокормиться. А кто ищет, тот находит, даже в самых непредсказуемых местах. Появились и свои купи-продайцы – барыги. Особо искусными были молдаване. Именно они потихонечку «проглотили» всю нашу одежду. Зимний бешмет я сменял на жестяную кружку овса. За рубашку дали двенадцать картофелин. Носки и платки тоже уплыли в руки барыг. Они, в свою очередь, выискали себе подобных среди надзирателей и снюхались с ними. Куда ушли наши одежды, выйдя за лагерный забор, одному богу известно, торговля день ото дня набирала обороты.
И вот эту, с такими трудностями обретённую еду никогда не ели в одиночку, потому что сегодня ты нашёл что-нибудь, завтра твой напарник. Дружба, скреплённая едой, наиболее крепка в таких местах!
За давностью лет забылся момент знакомства с Градобоевым. Русский мужик из Нижнего Тагила, хотя мне он больше напоминал скуластых марийцев, тридцати пяти – сорока лет, воевал, попал в плен, Германию видел только через лагерный забор. Пройдя через тысячи тягот, заработав огромный букет болезней, он возвращается домой, но и здесь не обретает покой! Когда шумиха немного поутихла, он устроился на работу слесарем, женился. О семье и делах амурных на зоне секретов практически не держат, немногословный Николай Ильич в минуты тоски по дому рассказывал: «Девушка моя не первой молодости, почти старая дева, да и сам я не молодею, оттягивать дальше не было смысла! Жить негде, надежды мало, живу в постоянном страхе, как бы чего не случилось плохого, но всё-таки мы, надеясь на лучшее, поженились. Привожу невесту в свою каморку. Первая брачная ночь, незабываемое событие… Ложимся спать. А «кровать»… две табуретки, а на них доска топчана. Через некоторое время оба слетаем на пол… Она плачет, я тоже присоединяюсь к ней, реву. Ни разу я так не рыдал от собственной беспомощности. А она… успокаивает меня. Отбросили топчан в угол и устроились на полу. Не обиделась, вошла в моё положение. Открытая, честная женщина… Как там она одна сейчас, очень уж любили мы друг друга!»
Сейчас мы вместе, всем, что нашли или приобрели, делимся по-братски. Мастеровитым был русский парень из Нижнего Тагила. С некоторых пор мы стали собирать старые зубные щётки, разжились маленькой ножовкой. Я распиливаю щётки, а Николай дырявит эти куски, шлифует и нанизывает на металлический стержень, получается мундштук. Цветные мундштуки охотно покупают конвоиры. Бригадиры, повара, хлеборезы тоже неравнодушны к ним. Лишь бы старых щёток хватило! Я трусоват, он смелый. Он мастер, я подмастерье. Вот так и живём!
Карабас остался в моей памяти очень узко, запомнился лишь людьми из нашей секции. Хуродзе, сибиряки, бандеровцы. Певческое «трио», наконец, Градобоев. За что он вынужден хлебать тюремную баланду, я ни разу не спрашивал и не знаю до сих пор. Скажу только, что Николай Ильич был отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь, настоящим мужчиной!..
Каждый подбрасывает в общий костёр веточки-щепочки, с каждой подброшенной новостью огонь разгорается всё сильнее, потрескивает, слово за слово, рождается мысль. У всех у нас одна тревога: для чего на казахстанской земле собирают политических? Отколупали даже тех, кто, казалось бы, надёжно спрятался глубоко во льдах, нужных им людей выискали и в Европе, и в Марий Эл, и в Коми, достали из таёжных погребов. В Карабас прибыл этап из Тернополя, западниками из львовских тюрем забили все камеры. Прибыли «путешественники» и из Минска, они в один голос повторили предсказание майора Столярова: «Положение политических арестантов должно улучшиться!» Плохо искал, может быть, но в Карабасе я не встретил ни одного татарина. К тому же мы – татары, словно улитка, спешащая укрыться в своей раковине, не торопимся обнаруживаться и не спешим обнаружить других!
«Скоро нас увезут из Карабаса!» – с каждым днём всё чаще стали слышать мы эту новость, начали готовиться к большому этапу. Моя отправка с этой первой зоны была насыщена происшествиями и поучительными событиями.
3
Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли, истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли.
Виктор Гюго
Весна приближается, вот-вот наступит март! Маленький юбилей моего заключения – один год! Тяжелейших испытаний, невыносимых страданий на мою долю пока не выпадало. Уважаемый читатель! Не подумай, пожалуйста: «Ба, да он в раю обитал, а не в тюрьме!» Просто мои страдания в той или иной степени скрашены плотным душевным общением с людьми, повидавшими жизнь, хлебнувшими немало лиха, мудрыми и опытными. Вкусившие Магадан-Колыму, прошедшие немецкие лагеря оставили там своё здоровье, мучаются и страдают из-за этого, а я здоров, у меня подобных проблем пока что нет. Какой бы скверной и жестокой ни была тюрьма, для меня она – поучительная школа. Именно здесь я нашёл точные и справедливые, на мой взгляд, ответы на терзавшие меня смолоду вопросы, не позволявшие мне свободно вздохнуть. И я частично счастлив. Беспокойная душа, намеревавшаяся удивить народ немыслимыми по своей значимости произведениями, именно в тюрьме нашла наконец-то своё место, уготованное ей Всевышним и матерью всех чудес земных – Природой, обрела точку опоры и роста! Был бы я более успешным и счастливым, обретя эту точку в другой жизненной сфере, при других условиях, как знать? С высоты прожитых лет мне видится следующее: в эпоху Сталина сохранить целостность и свободу духа, закалить его можно было только в тюремных застенках! Там не разбазариваешь жизнь на заучивание всяких дрянных, лживых цитат. Хочешь чему-нибудь научиться, пожалуйста, к твоим услугам сотни специалистов, учёных, профессоров и просто интересных личностей, согнанных сюда со всех концов света. Подробностей тюремного дела никто из них до конца не раскроет, дорога туда заказана, но у каждого за душой огромный путь, позволяющий тебе утолить жажду познания жизни. Каждый из них – непрочитанная книга приключений, тугой клубок тяжёлой судьбы. Дотронься до него, он и покатится…
В Карабасе работа только в подсобном хозяйстве. Кого-то водят в подвалы на переборку запасов картофеля и лука. Нашу бригаду поставили на сборку деревянных домиков из трёх или четырёх комплектов модулей, пришедших аж из самой Финляндии. Так неожиданно нашлась и для нас работа в подсобном хозяйстве. Некоторые члены нашей бригады открылись с новой стороны: прежде тихий, как предрассветный ветерок, худолицый, чугунно-чёрный хохол Иванюк оказался мастером-строителем! Мастером, в истинном смысле этого слова, на все руки! Пришедшие в отдельных ящиках деревянные конструкции он собирал на глазок, интуитивно, безо всяких чертежей. Соберёт, разберёт, совместит пазы и сложит, выровнив намётанным глазом доски. И нам работы хватает, только успевай поворачиваться! Все соскучились по настоящему делу. Есть и ещё одно немаловажное обстоятельство – нам увеличили хлебную пайку. Меня поставили крыть крышу, подавать снизу черепицу. Положишь пять-шесть штук на согнутые запястья и взмываешь вверх по наклонной доске. Останавливаться нельзя, сзади на тебя уже напирают… Наверху другие наколачивают черепицу на деревянную обрешётку. Когда дома будут готовы, их заберут у приусадебного хозяйства, жить в них будут офицеры – наша охрана. Из четырёх комплектов мы смогли собрать только два дома. Работавшая до нас на сборке домов бригада не стала утруждать себя рытьём мёрзлой, твёрдой, как кремень, казахстанской земли, предшественники жгли, не жалея, деревянные модули и затем копали оттаявший грунт. Иванюк, настоящий трудяга, искренне переживал, а остальные тихонько посмеивались. Два дома из четырёх комплектов? Каждый, кто знаком с социалистическими порядками, скажет: это ещё нормально! Поэтому и сменили ту бригаду, отправив по этапу куда-то к чёрту на кулички. То ли это была подброшенная чекистами «параша», чтобы мы ударно трудились? Не знаю.
Нас тоже продержали недолго. Бригадники в делах, связанных с продуктами, пускаются во все тяжкие. То и дело тайком устраивают набеги на залежи картофеля и лука. Иштвана Полачека, обжору-боксёра с тяжёлой поступью, поймали, когда он воровал картошку, на три дня закрыли в карцер, а нас оставили без ужина.
Февраль подходит к концу. По утрам уже заметно светлее. Днём покидаем неприглядные бараки и разбредаемся кто куда. Греемся в затрапезных, худых одеждах, сгрудившись на солнечных местах, словно облезлая во время линьки скотина, впервые выпущенная из зимника, пытаемся «урвать» как можно больше солнечной благодати. Год не видел солнца! Сначала в тюрьме, потом на зоне… А солнце не спешит порадовать, словно не желает дарить свои скудные пока ещё лучи таким ненормальным, как я. Солнце оно такое, всё понимает!
Я, любящая солнце душа, с нетерпением жду, когда откроют двери барака. Поскорее хочется убежать на свежий воздух, подальше от ядовитой вони, наполняющей барак: запахи пота, старой прелой одежды, полусгнивших портянок и носков. На солнце высоченные заборы, обнимающие зону, сети из колючей проволоки, именуемые сталинской паутиной, не кажутся столь безобразными, мир словно становится шире.
И в тот день всё было точно так же. Замок едва загрохотал, а я уже стоял возле двери. Дверь нехотя открылась, и ворвавшийся поток света ослепил меня. Пока надзиратель, поигрывая замком, проходил внутрь, я, прошмыгнув у него под рукой, вырвался наружу. Не успели мои глаза привыкнуть к свету, как за спиной раздалось сердитое: «А ну-ка назад!» Я вздрогнул и оглянулся по сторонам. «Кому так грозно кричит этот заика?» Оказывается, этот свеклолицый русский в белом тулупе на меня кричит! Ничего не понимая, следом за заикой возвращаюсь в секцию. «Где бригадир?» – спрашивает разозлённый охранник. Предчувствуя недоброе, из угла неохотно поднимается Хохун. «Вот он! – Надзиратель тычет в мою сторону. – Нарушил порядок! Я его забираю в карцер!» Руки-клещи уже вцепились в меня. Сокамерники, прекрасно видя, что я ничего не нарушал, просто поторопился выскочить на улицу, промолчали. От неожиданности я и сам онемел. В эту минуту, кромсая предательскую тишину, раздаётся болезненный хрип Хуродзе: «Как нарушил? Это же самый дисциплинированный парень. Отпустите его, гражданин сержант!» Старый грузин, частенько коверкающий и более простые русские слова, в этот раз сильно помучился со словом «дисциплинированный».
Заика, стиснув мой локоть, повёл в неизведанный прежде тёмный угол, в карцер. Дверь открылась и закрылась, загрохотали запираемые засовы. Оглядевшись, я понял, что оказался в цементном бункере, на дверях которого не было даже волчка. Над дверью, аккурат на стыке с потолком, робко пыталась светить из-под толстого слоя пыли болезненно-тусклая лампа. Я шаркнул ногой по полу. Он оказался холодным, бездушным и шершавым.
Клянусь, на какое-то время я обрадовался своему уединению. Год миновал, а сколько минут я провёл за этот срок в одиночестве? Надеялся, может, что немного посижу тут один, а потом кто-нибудь да заберёт меня отсюда? Пока ещё не замечаю ни изморози на стенах, ни отсутствия парашы в углу и кормушки в железной двери. Наоборот, чувствую прилив тепла и энергии, меряю камеру крупными шагами, типа, не сдаюсь! В голову полезли какие-то творческие задумки, захотелось сесть и что-нибудь написать, удивить людей и убедиться самому в неповторимости и величии замыслов, а также личности, их придумавшей и претворившей. Расстегнув бушлат и потянув за полы, завязываю их потуже узлом на поясе и хожу, хожу, дыхание выровнялось и успокоилось, взгляд уплотнился и сфокусировался, пробив бетонные стены и железные двери, он устремился далеко-далеко. Верите-нет, безграничную радость одиночества я впервые почувствовал именно здесь… Удивительный факт, в пятьдесят четвёртом году, когда, «соскучившись» по Чёрному озеру, я снова оказался в этой тюрьме, два месяца пребывания в одиночной камере были для меня счастливейшим временем! В голове совершенно неожиданно созрел замысел повести «Росинка». Начало и конец повести, примерная канва событий, несколько живых образов. Если бы мне тогда дали бумагу и ручку, я написал бы это произведение. Но ещё удивительнее: освободившись, я ни разу не вспомнил об этой задумке, а через некоторое время лишь усмехнулся тому, что в памяти не осталось ни строчки…
Холод и здесь показывает свою власть! Присев на корточки, прислоняюсь спиной к стене – леденит! На ботинки на тонкой подошве боюсь глядеть. Те галоши, в которых меня арестовали, я оставил в свердловской тюрьме, чтобы не таскать лишнюю тяжесть. Сейчас бы ох как пригодились они, верой и правдой прослужившие мне галоши! Чтобы не чувствовать холода, я решил отвлечься на раздумья: вот сейчас бригада отправилась в столовую… поела… вернулась… Желудок несколько раз судорожно сжался. Значит, время я определил правильно. Сейчас они всей компанией травят анекдоты, болтают. Барыга-молдаван, как обычно, что-нибудь вынюхивает. Ненасытная душа! Раздевает бригаду за бесценок. За спичечный коробок табака забирает рубаху. Ко мне он уже потерял интерес, когда я за пять рублей продал ему последнюю сменную рубашку, широко улыбнувшись, он похлопал меня по спине: «Пока такие добрые люди есть, жить можно!» После этой последней оценки, я брезгую общаться с ним. Обидел он меня, показал, что я наивный простофиля, которого можно запросто обмануть. Именно этот барыга первым вспомнился в карцере и разозлил меня! Попадись он мне под руку, тут же придушил бы!
Почему так запоздало пришло ко мне чувство мести, и душа моя вскипела в таком неподходящем месте? До сих пор не пойму. Разозлился, потрогал лоб, влажный! В голову пришла странная мысль: сколько тепла может поместиться в человеческом теле? И где находится мой источник тепла? Даже самое маленькое движение требует затрат тепловой энергии. Надо ли беречь её, чтобы не околеть от холода? Конечно, меня не станут долго тут держать, придёт дежурный офицер… А кто сегодня заступил на дежурство-то? Среди них тоже попадаются разные люди. А может, и сам начальник лагеря следит за теми, кого посадили в карцер? Придёт и, увидев, что я ни в чём не виноват, отпустит. Хорошо бы, если бы Градобоев забрал мою хлебную пайку. Суп-то он не сможет принести…
Чтобы не тратить понапрасну тепло, я боюсь делать лишние движения, стоя на месте, тихонечко поворачиваюсь, руки в варежках засунул в рукава, натянул поглубже шапку, поднял куцый воротник. Я должен выдержать, не сдаться! Проведя почти год в неволе, наслушавшись великое множество историй о том, что сталинские надзиратели в сто, в тысячу раз злее немецких фашистов, где-то в маленькой расщелине груди всё равно храню я искорку надежды на добросердечность и отзывчивость советских людей! Ежедневная многолетняя пропаганда не могла пройти бесследно, прочтённые книги, просмотренные фильмы и спектакли о Чапаеве, Щорсе, Левинсоне109 и прочих доброхотах-коммунистах прилично затуманили моё сознание. И даже дрожа от холода в наивысшей точке бессмысленной коммунистической жестокости, я продолжал верить в то, что придёт начальник лагеря и облегчит моё положение! Сомнительно воспитанный, живущий под непрекращающимися ливнями провокаций разум сумел вытянуть во время допросов на Чёрном озере по одному, по два запретных слова. Хитрость, обман, угрозы, запугивания, заморочка мозгов… Заходишь к следователю. Ты – кролик, он – удав. Юля вокруг да около, он начинает допрос: «Аха… твой отец ведь учитель? Аха…» И ни слова больше не добавляет. Сердце твоё дрожит, как заячий хвостик… В руках у следователя есть оружие помощнее: «Так, так… Учитель! В Заинском районе он преподаёт, да? Так, так». Внутри тебя вспыхивает огонь, его сменяет лёд. Если это грязное дело докатится и до отца?.. Чего только не знает этот следователь! «Он ведь сын муллы? Сын муллы Сарманова?.. Потомок расстрелянного в Елабужской тюрьме Сахабетдина?.. Ваш род, ваши предки в конце XIX века в Турцию переселились, да?.. Аха! У тебя же, оказывается, и старший брат учитель?!»
Следователь давит меня, прессует, топчет яловым сапогом, торжествует. «Да тебя только за это можно навечно в тюрьму упрятать. Но пойми, дубовая твоя голова! Советская власть – самая гуманная, самая справедливая власть в мире… Мы строители коммунизма. А коммунизм – это тысячелетняя мечта всех трудящихся, жаждущих социальной справедливости, воспетой великими произведениями Кампанеллы, Томаса Мора, Шарля Фурье110 и позднее положенной на научную основу Марксом и Энгельсом111… А ты – букашка, пытающаяся воспрепятствовать этому великому течению. Партия коммунистов щедро одаряет трудящихся вниманием и тёплой заботой…» И пошёл, я тебе скажу, пошёл! Любит мой следователь нотации читать!.. Его агитации накладываются на те, что влетали в твои уши на протяжении двадцати двух лет… В итоге вся твёрдость, которую ты вырабатывал в камере, повторяя: «Быть сильным, не поддаваться! Не произносить ни одного лишнего слова!» – быстро размякает, ты сам превращаешься в податливое тесто, а лицемерный, бездушный чекист, умеющий заставить поверить тебя и подобных тебе покорных овечек в абсолютную ложь, уводит свою «отару» в нужном ему направлении… Сломает, каким бы сильным ты ни был!
Ну ты глянь-ка, они меня безо всякой вины в карцер упекли, а я от них жду справедливости! И всё же, и всё же… Я и не замечаю, как ускоряются мои шаги, как занимается и разгорается огонь мести, вот-вот готовый спалить всё живое вокруг, из моих ноздрей вырывается гейзер пара.
Сколько же времени прошло? Холод прежде всего проник в спину, бегал по ней вверх-вниз и выгнал из клеток тепло, устроился на его месте. Ни прогнать его, ни развеять. Стучу варежками по спине, насколько рук хватает. А в это время холод охватывает левую ногу. Вскоре прикусывает нос и щёки. На грудь мою ложится холод, окружает, захватывает и сковывает плечи. Вокруг ни звука, пробую колотить в железную дверь, пытаюсь кричать, еле шевеля замёрзшими губами. И язык, и губы, и вырывающиеся из них слова промёрзли! Осевший на стенах иней вроде бы немного подтаял и заблестел поначалу от моего дыхания, но сейчас стал толще прежнего. Я почувствовал себя лежащим в ледяном гробу. В голову закралась пугающая мысль: «Неужели это конец?!» Безголосый и обессиленный, я принялся петь! Понимаю: если сейчас дать волю подступившему страху, он тут же спутает меня и кинет в пропасть! Я пою! Хотя голосом я и не наделён, но когда пас скот на дорогих моему сердцу, благодатных склонах Верхнего Баргяжа, скрадывал одиночество только песней. Теперь вот в карцере пою, очарованный собственным голосом. Как сказал прославленный нынче поэт Гамил Афзал112: «Не осталось песни ни одной, не спетой!»
Счёт времени потерялся, желудочные спазмы утихли, в это время бесшумно отворилась дверь и вошёл, нет, не надзиратель, а невзрачный паренёк в жёлтом бушлате и шапке-ушанке. «Чего воешь, волчара голодный?» – спросил он. И тут меня озарило – вспомнилось услышанное от вышедшего из карцера Иштвана: «Надзиратели не заходят, если и зайдут, ничего страшного! Там есть один дневальный, цыган, вот он издевается так, что невмоготу становится!»
Да, это был он – дневальный. Я, не задумываясь о цели визита цыгана, как можно более мягким голосом спрашиваю: «Когда меня выпустят отсюда?» И даже с надеждой посмотрел на его руки: не принёс ли он чего-нибудь съестного?! Эх, наивное дитя!.. С нас нужно по несколько шкур содрать, жаром-холодом морить, чтобы вразумить хоть немного!.. Цыган, сверкнув угольками глаз, смачно выругался. Чувствую, передо мной классик этого жанра! Есть такие люди, классики матерных ругательств, им даже к лицу эти слова, они их произносят, словно концертный номер дают, цыган же обрушил на моё продрогшее тело поток словесной грязи, глубоко оскорбив: «Сиди, сиди, фраер! Грей карцер! Будешь знать, как порядок нарушать!» После этого он обложил десяти-, двадцатиэтажным матом светлые могилы всех матерей, отцов, дедушек и бабушек. Матерится – значит, хозяин, ему разрешено марать таких, как мы. Я запрятал язык за зубами и стою перед жёлтым бушлатом величиной с бельевой валёк.
Возле лагерных надзирателей всегда увивается свора псов, готовых подобострастно лизнуть, всячески угодить. Всю чёрную работу делают они. Что уж так не понравилось цыгану, моя несгибаемая поза или что-то другое разозлило его, я не разобрал: он пяткой ударил меня в живот! Я согнулся и упал. Цыган подбежал ко мне и с обеих ног стал охаживать. «Ты думал, что тебя выпустят прежде, чем познаешь всю прелесть карцера…! Вкушай, чтобы на всю жизнь запомнилось, падла!» Хочу что-то сказать, но язык не ворочается, лежу на бетонном полу и стону. От резких движений лицо цыгана стало кумачовым, и я согрелся, клянусь! Долго, видимо, избивал он, я сознание потерял… Бесконтрольно обмочился в штаны! И что теперь делать? Как уберечь от холода намокшие органы?.. В первые минуты пребывания я не обратил особого внимания на отсутствие параши. Дурак, зайду, мол, и вскоре выйду! Когда подпёрла нужда, я увидел, что с опорожнением здесь проблема, но и тогда эта мысль не задержалась надолго в моей голове… На секунду я подумал было: «А может, в угол мне пустить струю?» Но тут же перед глазами встал тот несчастный бедолага, чьим кровоточащим телом вытирали пол в вагоне. А если меня начнут возить по шершавому бетону…
Положение моё крайне тяжёлое. Желая успокоиться, прийти в себя, я направляю свои мысли далеко-далеко, в счастливое детство, в родимое пристанище. Но это облегчение, этот самообман длится недолго. Действительность опять с силой впихивает меня в карцер. Проклятый цыган отбил мне коленные чашки, боль в животе до самых коленей спускается, и сразу плохо становится, дышать тяжело, пар с трудом выходит из ноздрей, замерзает и исчезает. Тишина. Ни одного обнадёживающего шороха. И стоять-то не могу, сажусь, раздвинув бёдра, на корточки, роняя на пол набравшиеся в паху крупинки изморози. Глотка горит, наскребаю со стен пригоршню инея и отправляю в рот. Проснулся желудок, болезненно сжимается и бунтует, требует пищи. Ноет! Не вставая с колен, набиваю рот изморозью. Встав на ноги, первым делом выцарапываю на стене: «Ах, судьба-злодейка, устал я от тебя!» и размашисто подписываюсь. Тут же закралось подозрение: не сделают ли чего плохого за эту надпись? Правда, мне теперь разве не всё ли равно?.. Сняв с шеи шарф, зажимаю его между ног… Лишь бы только не упасть. Время течёт, торопится! Хоть и написал я, что устал от жизни, но сам-то абсолютно не устал от неё!..
В карцере я просидел, оказывается, больше суток. За год пребывания в заключении впервые впадаю в отчаяние. Мечусь, как прищемленный в щели бревна Шурале, кто же выдернет меня отсюда? В голову полезли мысли о вере, о Коране. Оказавшись в безнадёжном положении среди людей, мы всегда устремляемся к Аллаху. В такие минуты помолиться бы, преклонить голову перед Всевышним, облегчить душу… Но не знаю ведь ни одной молитвы-то, ни одной! Своими словами пытаюсь по-татарски обратиться к Всевышнему, благодарю его, прошу защитить. И вдруг, субханалла, мои заложенные уши как будто бы открылись. От громкого шума где-то поблизости настораживаюсь и пытаюсь вслушаться. Гул не стихает довольно долго, словно большая толпа народа одновременно разговаривает. Этап пришёл, что ли?.. Неожиданно совсем рядом слышу, как ко мне обращаются по имени: «Аяз! Я твои вещи взял!» Градобоев! Николай Ильич! О чём это он?.. Ничего не объяснил… (Позже я узнал, Градобоева на секунду впустили во двор перед карцером!)
Значит, меня отправляют по этапу. Так я трактовал его слова. Не иначе. Жду, переминаюсь в нетерпении, о холоде и голоде забыл. Раз мне отправляться на этап, значит, скоро за мной должны прийти. Но нет, никто не идёт, я не заметил, как прилип к двери…
Пинками меня приводят в чувство, хромая и спотыкаясь бегу за конвоем! Когда я подбежал к вахте, последняя машина с плотно набитым арестантами кузовом готовилась тронуться. Перед отправкой на этап всем выдали по паре валенок. Я с болью и завистью смотрел на старые, протёртые до дыр, залатанные не только на подошвах, но и на голенищах, траченные молью валенки. Раз выдали валенки, значит, этап предстоит длинный! К тому же я попал в чужую компанию, товарищи из нашей бригады нашли бы, наверное, какой-нибудь выход. Два солдата в толстых, мягких тулупах с огромными воротниками залезли в кузов, прислонились спинами к кабине, и мы, оставив за спиной лагерь-тюрьму Карабас, отправляемся, разрывая гудящие ночные ветра, к новым коммунистическим берегам. Мои попутчики не сразу замечают, что я без валенок, кто-то из них прошептал: «Давай-ка затащим в середину этого фраера!» А нам приказано не шевелиться, стараясь не выдать себя, я пытаюсь потихоньку переползти на другое место, но тут же нарываюсь на ледяную сталь окрика: «Куда, куда, контрик! Сиди, падла!» Оказывается, не все мои попутчики «разучились говорить», один из них, почти не разжимая губ, чтобы не увидели, кто говорит, коротко выкрикивает: «Ему валенок не досталось, отморозит ноги-то!» Конвоиры о чём-то переговариваются между собой и один из них кричит: «Перебирайся сюда, к кабине, фашист проклятый! Чтоб ты подох, паскуда!» Иногда и матюги звучат слаще соловьиных трелей, стараясь не сильно подниматься, я, пятясь задом, давя согнутые, застывшие в невероятных позах ноги товарищей, добираюсь до солдатского тулупа и укрываюсь за источающим родной запах овчины подолом. О счастье! Благодарю тебя, солдат-краснопогонник! В этот раз ты не забил меня ногами до полусмерти. Прямо там, в тёплом закутке, я засыпаю. Открыв через какое-то время глаза, вижу, что борта кузова откинуты, а мои товарищи скатываются небольшими группками на снег. В открывшиеся с некоторой натугой жидковатые ворота я вхожу последним, заметно прихрамывая. По головам бежит шепоток: «Актас это, лагерь Актаса!»
4
Дорогой читатель! Хотелось бы, что бы ты прочитал эту главу не торопясь, усвоил все рассуждения, которые я счёл необходимым привести! В основном это мои личные умозаключения. Я сделал их, опираясь на многочисленные наблюдения на долгом тюремном пути, или услышал, общаясь с сотнями дорогих попутчиков, умных людей: репатриантов, офицеров-власовцев, согнанных со всех концов страны учёных. Аллах свидетель, я и после освобождения более тридцати пяти лет жил в самой гуще событий. Короче говоря, к некоторым выводам я подобрался потихоньку, на протяжении полувекового отрезка сознательной жизни. Пойти в архивы КГБ и засесть за изучение собранных там документов не получилось, да и желания особого не было. Однако я надеюсь, что приведённые в этой главе выводы справедливо и по праву окажутся для вас чем-то новым или обновят ваши взгляды на ранее известные вещи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?