Читать книгу "Давайте помолимся! (сборник)"
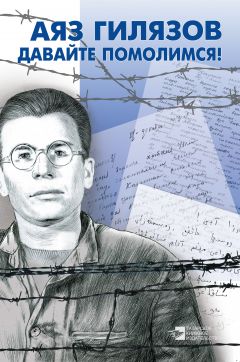
Автор книги: Аяз Гилязов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В каждом доме квартируют по семь-восемь учеников, парней либо девушек. Все знают, в дом Питрухи Чатыра подселяют только девушек, и все знают, почему: у них самих целый выводок красавиц подрастает. Несмотря на то, что живут в небольших, в два-три окна, домишках, багряжские кряшены радушные, всегда готовые потесниться хозяева. При таком количестве народа жизнь в селе протекала мирно, без склок и шумных разборок, без пьянства и драк. Что в прежние времена, что в нынешние. Посиделки в домах, различные игры, маленькие и большие праздники, песни во всё горло и пляски до упаду – вот на чём держалось это добрососедство. Ученики в то время сильно различались по возрасту. Если один одноклассник был на три года старше меня, то у другого уже вовсю росли пышные усы. А когда мы перешли в пятый класс, с нами вместе учились несколько девушек на выданье.
Татары, кряшены! Молодёжь из тридцати с лишним аулов собралась здесь. Довоенные мальчики и девочки, юноши и девушки. Среди них выделялась одна группа: умом, внешним видом, походкой, манерой держать себя. Как я оказался среди них, чем они мне понравились, почему эти старшеклассники не прогнали меня? В общем, стал я свидетелем и участником их разговоров о политике. Возможно, причина моей смелости в авторитете среди сверстников, пусть небольшом, но вполне заслуженном: с четвёртого класса я начал сочинять стихи и поэмы, в пятом взялся за написание повести «Когда он рос», в моём багаже было множество коротеньких пьес, я участвовал почти во всех театральных постановках, соревновался в шахматах, занимал четвёртые-пятые места в лыжных кроссах. А может, мне помог авторитет отца? Ведь он был уважаемым учителем в нашей школе. Так или иначе, взрослые парни приняли меня в коллектив. Я очень быстро стал своим. Видимо, они решили не связываться с малолеткой, мол, пусть приходит, слушает, нам он никак не помешает. Теперь я не подкрадываюсь, увязавшись за одноклассниками, на большой перемене, чтобы дёрнуть дерзких девчонок за косички и отскочить в сторону, курильщикам мха, нащипанного между брёвен бани, тоже не заманить меня к себе. Сразу после звонка я выбегаю из кабинета и поджидаю старших. Наши собрания на больших переменах проходили, помнится, в глухом конце коридора, а осенью – в пришкольном саду. Сад большой, посредине горделиво возвышается старинная деревянная церковь. Чуть поодаль – массивные дубовые кресты, растущая на могильных холмиках черёмуха. Парни облюбовали этот укромный уголок. Кишащая на спортплощадке и школьном дворе малышня побаивается подходить к крестам, да и те, кто повзрослее, боязливо косятся, предпочитая держаться на почтительном расстоянии. Мои обязанности во время бесед пока одни и те же: не шмыгать громко носом и внимательно слушать. Что я и делаю, каждое слово, произнесённое смелыми, беспокойными парнями, впитывается в моё чистое, ничем не запятнанное сознание. Багряж – удалённое на значительное расстояние от большака село на границе Сармановского и Заинского районов. Однако все значимые изменения-события в жизни страны, благодаря этим живым парням, доходят и до Багряжа. Ребята ведут разговоры по-крупному, с пониманием, со знанием дела. Мне с каждым днём всё больше нравятся злые, сердитые словечки, отпускаемые членами этой более или менее организованной группы в адрес происходящих событий! Понимаю, сейчас накинутся на меня: «Опять хвастается, ну да, это по-Аязовски!» Но в моих словах нет ни грамма преувеличения, рисования или позёрства. Бог свидетель, я не хочу бросить и тени подозрения на решительных парней, учивших меня, мальчишку, уму-разуму! Я пишу лишь о тех событиях, в которых принимал участие, о том, что знаю и помню. В общем, я смолоду не был умнее остальных, не умел рассуждать по-взрослому, мог и приврать, и приукрасить. Но я, по выражению Гаяза Исхаки, видимо, родился писателем. В поисках новых тайн и событий душа моя улетала на край света, металась, переживала. Богом мне были ниспосланы цепкая память и беспокойный аналитический ум. Спасибо вам, Небеса, тысячу раз спасибо!
На наших встречах, где бы они ни проходили, верховодил симпатичный, по-мужски аскетично-красивый юноша из села Бегишева. Хабир Зайнуллин не бросал слов на ветер, умел преподнести самую суть своих рассуждений, отжав всё лишнее и наносное. По сравнению с другими он больше знал, по-русски говорил бойко и грамотно, в общем, редкий для наших краёв экземпляр авторитетного вожака. Не помню, чтобы кто-то пререкался с ним или спорил. Когда остальные распалялись, он молчал, терпел, а потом веским доводом прекращал всякие недоразумения, недопонимания.
Когда я впервые обмолвился о Хабире Зайнуллине, мол, мне интересна его судьба, наша невестка Энже, жена моего младшего брата Алмаза, уроженка Бегишева, сказала: «А я ждала, когда же вы начнёте расспрашивать о Хабир-абый». Значит, и Энже выделяет его, хранит в душе уважение. Перед тем как приступить к сбору материала, я написал Энже письмо, в котором спросил: «Не осталось ли кого-нибудь в живых из окружения Хабира?» У меня были сведения, что все ребята ушли на фронт и пропали там без вести. Но должны быть какие-то следы, обязательно должны. Видимо, рассказать об этих гордых и смелых орлах Всевышний поручил мне. Оказалось, что всё-таки есть один выживший из кружка отважных вольнодумцев – Гарай Гараев…
Невестка Энже расспросила женщин, учившихся в школе приблизительно в одно время с Хабиром, и написала мне о результатах: «В Багряже училось с десяток бегишевских парней, среди них: Хасанов Камал, Исмагилов Ибрагим, Муллин Ахмет, Шамгунов Файзи, Калимуллин Абрар. Когда ввели плату за обучение, многие, бросив учёбу, вернулись домой. У нас не смогли вспомнить, кто ещё общался с Хабиром Зайнуллиным и Гараем Гараевым. Но говорят, что, возможно, близкими друзьями Хабира были Кашипов Рауф из села Дурт-Мунча и Нигматуллин Галимзян из Ашита. Они хорошо учились, были отчаянными, в школе считались одними из лучших учеников. Я пыталась подробно расспросить Уркию Гараеву, которая в те годы училась в Багряже, но она почти ничего не помнит. Очень уж давно это было! Ждала, не приедет ли в деревню Гарай Гараев (он живёт в Челнах), не приехал. А больше мне написать не о чем».
С высоты прожитых лет оцениваю и понимаю: введение платного образования вызвало большой протест среди татарского крестьянства, и без того еле-еле сводящего концы с концами! Не на этой ли волне появились небезразличные к происходящему, думающие люди, каким был Хабир Зайнуллин? Не эту ли проблему, дальнейшей учёбы, обсуждали парни из окружения Хабира, строившие грандиозные планы на будущее, которые рушились у них на глазах?
Углубляясь в воспоминания, могу сказать: споры-разговоры в основном шли о творящейся в мире несправедливости – сельский люд голодает, бедняки становятся ещё беднее, в каждой семье по четверо-пятеро детей, у многих из них нет возможности учиться – одежда худая, обуви нет. Учиться отдают самых смышлёных, прикинув, смогут ли прокормить будущего школьника: мало того что на одного работника меньше становится, так ему же надо всё самое лучшее отдавать, обделяя себя и оставшихся детей… И тут – на тебе! Оказывается, ещё и за учёбу нужно платить! А молодёжь-то отчаянная, решительная, каждый пытается развить в себе личность, и личность неординарную. В разговорах парней Хабира часто сквозило изумление внезапным исчезновением людей. «В таком-то ауле среди ночи увели такого-то человека, и теперь его не могут найти!» Примеров предостаточно, почти каждый день кто-нибудь из парней приносил очередную новость о пропаже. Сегодня один пропал, завтра – второй, а на третий день парни стараются делать выводы!
Самое странное: все ребята как один верили в то, что от великого вождя Сталина скрывают правду, что его окружение – сплошь коварные враги народа. Вот если бы он узнал! Задал бы им товарищ Сталин жару, мало не показалось бы!.. Говорят, школьник из какой-то деревни написал письмо Надежде Константиновне Крупской51, в котором рассказал о творящихся у них злодеяниях… так его за это орденом наградили! А разве нам не о чем рассказать, разве у нас всё хорошо? Так почему же мы бездействуем в таком случае?!
При каждой встрече эти разговоры возобновляются, обрастая новыми подробностями. Не обходится, конечно, и без домыслов-слухов, побуждающих вспыливших ребят воинственно засучивать рукава и пускать в ход разящие молнии кулаков!
Вот такие уроки политической зрелости получил я в детстве. Это вам не хитрые лисы Рыклин и Заславский, напялившие маски беззаботности: «Ничего не видели, ничего не знаем!» Ученики Верхне-Багряжской школы на самом высоком уровне обсуждали положение дел в стране, хорошо понимали, что творится в политике, и научили понимать меня. Не знаю, встречались ли парни вне школы, не помню за давностью лет. Их серьёзные «мужские» разговоры я воспринимал как некую тайную игру, наверное. Помню, как во время летних каникул я писал письма в Бегишево, Гараю Гараеву, прострочив края бумажного треугольника на швейной машинке. «Про то писать не буду», – предостерегал я в письме. Да, было и такое. А вот про что, «про то», хоть убей, не помню.
Услышанная в один из дней новость потрясла не только Хабира Зайнуллина, но и меня. Деревенских парней будут увозить в город для получения какой-нибудь профессии! Предполагалось, что они должны пройти обучение в ремесленных училищах, ФЗО52 и других подобных заведениях. Парни очень тяжело восприняли такую новость. Если прежние злодеяния обходили их стороной или задевали по касательной, то эта била непосредственно по ним. «Татарстанских парней собирают для работы на Донбассе. Если нам не дадут окончить десять классов – по прибытии взорвём одну из шахт!»
И это были не пустые слова! Это – конкретный план жизни молодёжи на будущее. Чтобы установить, когда было принято такое решение, я обратился к истории.
Указ «О государственных трудовых резервах СССР» был принят в 1940 году. В нём говорилось: «Обязать председателей колхозов ежегодно выделять в порядке призыва (мобилизации) по 2 человека молодёжи мужского пола в возрасте 14–15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16–17 лет в школы ФЗО на каждые 100 членов колхозов, считая мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 лет!» Этот Указ был опубликован в газете «Правда» 3 октября 1940 года. Значит, осенью сорокового года Хабир Зайнуллин, сотоварищи учились в десятом классе. И о массовых арестах тридцать седьмого, тридцать восьмого годов им тоже должно быть в той или иной степени известно. А в сороковом от одного аула к другому стремительно летела весть: «Татарских парней насильно сгоняют на Донбасс грызть уголь».
Ну кто может возразить, что среди нас не было отчаянных голов, способных написать Крупской для того, чтобы раскрыть глаза Сталину и членам Политбюро?! Подытожив все мнения, Гарай Гараев пишет длинное, подробное письмо Сталину и опускает в ящик. Письмо-то длинное, да вот дорога у него короткой оказалась: насмерть перепуганный почтальон незамедлительно вручает конверт директору школы Кашшафу Хамитову. Тот открывает… начинает читать… дочитывает до конца (!!!), и глаза его делаются не круглыми даже, а квадратными. В руководимой им школе ЧП! Бунт! Идеологический бунт! Предыдущий директор Хаернас Валиев бесследно исчез!.. Теперь его очередь, что ли?.. Если письмо попадёт в соответствующие органы… Фу, откуда только берётся столько холодного пота?!. Умным, образованным был Кашшаф-ага, жизненного опыта ему не занимать… Но в этот раз и он растерялся: что делать, как поступить? Не зная, с какого обрыва сбросить своё несчастное тело, он выходит на школьный двор. Со сведёнными за спиной руками он бродит по двору, по-рыбьи заглатывая воздух, и натыкается на беззаботно гуляющего юного бунтаря Гарая Гараева! Вот он, собственной персоной! Идёт прямо ему навстречу. Директор смотрит на Гарая, а Гарай его не замечает… «Ух, безмозглый карась!» – думает, наверное, Кашшаф-ага. Но начинать разговор не спешит, осторожничает. Знает этот мудрый человек, что творится в мире. (После смерти Кашшаф-ага его дочь Лейла передала мне многолетний увесистый архив отца. Много толстых тетрадей… Стихи… Воспоминания. Свидетель трудных лет, Кашшаф-ага был очень осторожным человеком, дул даже на холодную воду. Меня тронула одна запись: «Сегодня на рассвете из деревни выслали кулаков. Они погрузились в повозки и уехали. Удивительно: никто из них не плакал, ни одной слезинки не проронил». Кашшаф-ага, Кашшаф-ага!.. Одно ваше предложение стоит целого мира, спасибо вам за него! Более подробно описать и зафиксировать бы вам это историческое событие!)
Мне, конечно же, неведомо, о чём думал Гарай, глядя на побледневшего директора. Но наверняка не догадывался, что письмо к Сталину находится у него. Растерянный Кашшаф-ага уцепился за проплывающую мимо соломинку – увидев торчащий из кустов обрезок доски, сказал: «Гараев, отнеси-ка эту штуковину в учительскую!» И сам пошёл следом. Там, оставшись с глазу на глаз, Кашшаф Хамитов с мольбой в глазах обратился к ученику. Нет, он не ругался, не кричал, не найдя в себе сил скрыть волнение, он умолял его. Тихим, вкрадчивым голосом. «Больше не пиши такого, а если напишешь – покажи мне. Иначе не сносить тебе головы. Давай порвём это письмо и забудем о нём». Не откладывая в долгий ящик, они вкладывают конверт в глотку печки. Директор, даже не думая о том, что нужно бы приоткрыть дверь, чиркает спичкой и поджигает смертоносную бумагу. В секунду комната наполняется едким дымом, но Кашшаф-ага не мигая смотрит в зев печи до тех пор, пока от письма не останется кучка пепла. Позже, споткнувшись о прислонённый к стене огрызок доски и растянувшись на полу, он отчаянно взвоет: «Какой идиот притащил сюда эту рухлядь!..»
Эту историю несколько лет спустя, в 1947 году, я тогда уже работал в райкоме комсомола, а Гарай заведовал культурой, поведал мне непосредственный её участник, Гарай Гараев, когда мы оба жили на квартире у Ксении Фёдоровны Роксман. Помнишь, друг мой Гарай?!
8
Умение видеть жизнь людей в целостности – редкий подарок судьбы, не каждому выпадает. По мере взросления, когда расширяется твой кругозор, ты уже можешь, глядя на течение народной жизни, и сам понять, и другим объяснить, чем живёт отдельно взятый человек. В юном возрасте, когда твоя душа мечется во всех направлениях, когда ты ещё не видел и не мог видеть ничего, кроме жизни отдельных людей, ты стараешься понять и усвоить законы глобального сосуществования, наблюдая именно эту, доступную тебе частную жизнь. Какой бы насыщенной, содержательной и познавательной ни была для меня жизнь в кряшенском селе, удалённом от центров культуры, от бурлящих событиями городов, не сумел я смолоду получить глубоких, всеохватных знаний. Причин этому много, они разнообразны. Однако дарованная мне природой чуткая душа очень рано ощутила, что на земле есть несправедливость и неравноправие. Хотя мы в ту пору ещё неясно представляли всё коварство и продажность государственного строя, способного до нитки обобрать и практически уничтожить крестьянство. Но с одним из проявлений несправедливости – голодом сталкивались постоянно.
Голод, изголодаться, голодные… Может, и не самое главное в жизни, но очень и очень страшное слово – голод. Трудно писать об этом. И читать не веселее будет. Но сойти с этой борозды я не могу, слишком уж многое в моей жизни было связано с голодом. На одной из недавних встреч меня спросили: «Вы очень рано стали понимать жизнь и судьбу татарского народа. В чём причина?» После недолгого раздумья я ответил: «Видимо, голод, свидетелем которого я был с самого рождения!»
Про голод много написано. В татарской литературе самое сильное произведение на эту тему «Адәмнәр»53 («Люди») Галимджана Ибрагимова54. В детстве я успел прочесть только это его произведение, а вскоре писателя сжили со свету. Помню, как мы с односельчанином и однокашником Гурием Тавлиным бродили от одного дома к другому, спрашивая у хозяев: «А не осталось ли у вас книг Галимджана Ибрагимова?» К колхозным активистам не заходим, партийных обходим стороной, а вот к согнанным из добротных домов в каменные амбары да тесные бани стучимся с удовольствием, вот ведь как бывает! Что они о нас думали, интересно?
Слово «голод» я впервые услышал от мамы, и оно намертво впиталось в меня. Помню, кто-то с болью и горечью, обливаясь слезами, вспоминал своих близких: «В двадцать первом году люди глину ели». По книжкам да по рассказам людей до конца не понять, что же это такое – голод. Вскоре я лицом к лицу начал сталкиваться с настоящим голодом, жил рядом с голодающими, и только тогда понял, насколько это великая беда, большое несчастье. И будет правильным сказать, что голод, голодающие люди сделали из меня писателя…
В Верхнем Багряже мы жили на площади перед церковью в доме плотника дяди Андриана (вообще-то, кряшены говорят не «дядя», а «дэдэй», а «тётя» по-кряшенски – «тюти», с ударением на второй слог). Когда из тех краёв, куда уехала когда-то семья Андриан-дэдэя, вернулся воспитывавшийся в детдоме Федот, мы вынуждены были переселиться на Среднюю улицу. В домах напротив церкви жили семьи с более или менее крепким достатком, а на новом месте – слабые, изнурённые жизнью люди. Напротив нас, на запущенном дворе стоял полуразвалившийся, неприютный дом с одним окном, в котором жила семья Роман-дэдэя по кличке Үткен (Шустрый). С их сыном Яковом (по-кряшенски Джэкэу), который старше меня на три года, мы учимся в одном классе. Роман-дэдэй сухощавый, юркий, что называется – ничего лишнего. Он сапожник. Всю кожаную обувь в деревне, требующую ремонта: сапоги, ботинки несут к нему. То ли оттого что деревенские в основном ходили в лаптях и труд сапожника не был востребован, то ли по какой-то другой причине, но я ни разу не слышал, чтобы со двора Роман-дэдэя слышались детские голоса, дружный смех, хотя детей у него было не то пятеро, не то шестеро. Когда я начал общаться с Яковом, мама строго-настрого предупредила: «Смотри у меня, пострелёныш, в дом к Роман-дэдэю – ни ногой, понял?!» Может, я и не стал бы прислушиваться к словам матери, но однажды Яков, когда, устав играть на улице, мы подошли к их дому, не впустил меня во двор. «Жди здесь, я сейчас выйду!» Яков – старше, его слово – закон. Протяжно шмыгнув носом, я остался возле калитки. Силясь разглядеть в единственное окно, что происходит внутри, я вставал на цыпочки и даже подпрыгивал… Мне так хотелось войти в дом и увидеть сапожный инструмент Роман-дэдэя: шило, иголки… и что там ещё у него есть-то? А ведь я всё-таки сумел однажды, воспользовавшись тем, что мама меня не видит, в отсутствие Якова проникнуть внутрь. Дело было весной, озимые уже взошли, картофельные поля тоже успели приукраситься зелёными метёлочками молодых побегов… Я вошёл и приник к дверному проёму. Яков куда-то ушёл, а остальные, рассевшись вокруг стола, едят. Посреди стола – чугунок с отколотым краем, в нём – буро-зелёная масса… Так вот откуда идёт этот кислый запах!.. Это же похлёбка из картофельных листьев! А я днём-то случайно увидел, как жена Роман-дэдэя то наклонится над картофельными побегами, то распрямится, и долго недоумевал: что же там можно собирать в эту пору? На столе больше ничего нет. Ни хлеба, ни молока. Но тем не менее большие кленовые ложки споро порхают между чугунком и ртами. До меня никому нет дела… Когда чугунок опустел, а от похлёбки остался только стойкий кислый запах, хозяйка ковшиком с отломанной ручкой принялась зачерпывать из казанка кипяток и разливать по видавшим виды, много раз залатанным кружкам. Это они так чай пьют, оказывается. А у самих даже самовара нет!.. Обжигая губы и пальцы, они дружно начали тянуть крутой кипяток, без сахара, без хлеба… Долго они «чаёвничали», аж на лбах капельки пота проступили. Я за это время успел осмотреть весь дом изнутри. Кроме лежащих в углу на крохотном столе инструментов Роман-дэдэя и прочей сапожной мелочёвки, никаких ценностей я не обнаружил. Мало того, не увидел я и постельных принадлежностей: подушек и перин. Нары были застелены старыми, облезлыми шкурами, а вместо одеял – верхняя одежда: старые чекмени, латанные-перелатанные бешметы из пестрядины. Очень бедно жили, оказывается, Шустряки!..
Таким было родовое прозвище, а фамилия этой семьи – Байковы. Роман-дэдэй – не пожелавший вступать в колхоз «нищий гордец». (Мамино выражение!) Частников обкладывали непомерными налогами, все жилы из них вытягивали. Душили займами. Понимать это я начал только теперь! Но и в то далёкое время тоже о многом догадывался. Не дождавшись Якова, я, понуро склонив голову, тихонько вышел на улицу, по пути ещё раз оглянувшись на хозяйство Шустрого Романа. У них ведь даже сеней нет! Как же я раньше-то не замечал. К задней стене дома прислонено несколько осиновых жердей, снаружи накрытых соломой. В этом «загоне» зимуют их коза и единственная овца. Несмотря на наличие в хозяйстве козы и овцы, я не помню, чтобы в этой семье пили чай с молоком или варили мясной бульон. Всё уходило на налоги!
Взрослые наверняка знали о плачевном положении семьи Роман-дэдэя, но от их детей мы никогда не слышали жалоб. Я не помню, чтобы Яков говорил: «Есть нечего, дрова закончились, скотине не хватает корма». Он изредка бывал у нас в доме. Попадал и в такие минуты, когда мы собирались обедать или ужинать. Но чтобы уговорить его сесть вместе с нами и угоститься – даже не думай! Ни за что не сядет. Если попробуешь за руку подтащить, ноги раздвинет и в пол ими упрётся. «Спасибо, я сыт, я только что из-за стола».
В тот раз я не смог быстро уйти от калитки, мне хотелось увидеть Якова, что-то ему сказать, как-то утешить… Я уже собирался пойти домой после долгого ожидания, как заметил вдалеке возвращающегося друга. У него на поясе была пристёгнута небольшая котомка. Увидев меня, он резко свернул в сторону и, стараясь быть незамеченным, сделал большой крюк, обогнул гумно и скрытно вошёл в дом. Я поделился увиденным с мамой. Тяжело вздохнув, она сказала: «Бедняжка, он же милостыню просить ходил. Дома-то у них еды не осталось. Не помирать же с голоду».
Я сын учителей. Папа получает зарплату деньгами, иногда перепадает продовольственный паёк – мука, крупы. Мама швея. Шьёт платья местным девушкам, получает хоть небольшой, но доход. Мы не голодаем. Обуты-одеты. Но у нас в соседях – семья Шустрого Романа. Когда-то давным-давно, когда их род ещё был мусульманским, дали им это прозвище – Шустрый, Проворный. А ведь народ просто так не станет навешивать прозвищ. Видимо, и вправду были шустрыми предки Роман-дэдэя… До наших времён дожило только прозвище. Роман-дэдэй сгорбленный, измождённый, подавленный, о каком проворстве может идти речь?! Всякий раз, когда смотрел в окно, мне хотелось плакать. Я до сих пор хорошо помню этого человека, благодаря которому впервые увидел воочию, что такое голод и неравноправие. Помню и его лихо подкрученные кверху усы, смазанные воском для фиксации. Яков в первые дни войны был призван в армию и умер от болезни желудка в лагерях Суслонгера55, так и не попав на фронт…
Сейчас на небосклоне истории много можно встретить сорок, трещащих на всех углах: «А мы же да-а-авно об этом знали!» – когда речь заходит об учении Карла Маркса, которое русский художник Илья Глазунов56 назвал «величайшим злом XX века», о кровавых злодеяниях Ленина, об антинародном режиме большевиков… Знать-то мы знаем, но не всё, особенно о тридцатых годах. На Украине голод57. Специально устроенный большевиками. В Казахстане тотальный голод58. Миллионы крестьян пухнут с голоду, умирают от истощения дети. Земля остаётся без хозяина. Крепко стоящие на ногах крестьяне, сливки деревенского общества, сосланы на каторгу, во главе дел встают «комбеды»59 – бестолковые оборванцы, ненасытные, ленивые блохи на теле крестьянства. Они жестоко мстят зажиточному сословию! Есть ли в татарской литературе произведения, в которых подробно была бы показана трагедия тридцатых годов, дана беспристрастная историческая оценка тем временам? Нет таких произведений. Я так считаю. И не раз с горечью писал об этом. Татарские писатели, взявшись за руки, дружно вступили в колхозы да так в них и остались. А русская литература оставила высокие примеры для подражания. Поэт Николай Клюев60 утверждал: «Социализм принесёт крестьянству разорение и гибель». Андрей Платонов61 предсказывал, что социализм разорит страну, поставит народ на грань выживания. Даже когда большевизм делал более или менее уверенные шаги, он отчётливо видел, сколь безнадёжен и бессмыслен этот путь.
1 мая 1991 года. В день моего отъезда из писательского дома творчества Переделкино, позавтракав, я вышел на прогулку с достопочтенным Амирхан-ага Еники62. Он тоже писал там какое-то произведение. Более двух часов бродили мы с ним по лесным тропинкам, о многом я успел расспросить старшего товарища. Задал я, к слову, и такой вопрос: «А вас в те годы тоже вызывали на Чёрное озеро? Ощущали ли вы тревожность той эпохи?» Амирхан-ага с присущими ему серьёзностью и ответственностью за каждое слово ответил: «А как не ощущать-то, ещё как чувствовал! Если к двум беседующим приближался кто-нибудь третий, те двое сразу же «поднимали паруса»… Что касается Чёрного озера, да, однажды вызвали и меня. В 1934 году. Долго не мучили, задали всего один вопрос. «Как вы относитесь к творчеству поэта Сирина63?» Приказав подготовить обстоятельный ответ, в качестве примера привели одно его стихотворение следующего содержания: жёны сосланных и бесследно пропавших крестьян приходят с полным выводком детей в Казань и просят милостыню в центре города, возле речки Булак, горько плачут и причитают. «Видите ли вы в этом стихотворении антисоветские мотивы?» – более конкретно поставили они вопрос. Свои рассуждения я представил в письменном виде, как они и требовали. «Не вижу, – написал я, – в этих строках поэт всего лишь выражает личную солидарность с этими женщинами и их детьми». Больше меня на Чёрное озеро не вызывали. А вскоре я уехал в Ташкент, след мой потерялся. Возможно, эта поездка в далёкие края спасла меня от многих проблем и бед…»
Значит, в писательской среде были люди, понимавшие трагедию тридцатых годов, и даже находились отдельные личности, открыто протестовавшие против такого положения вещей! Изредка, но встречались. Но большинство писателей, как убедительно доказал учёный и писатель Мухаммат Магдеев, старательно готовились к тридцать седьмому году, писали оды наркому Ежову64 и его окружению, чем собственноручно рыли себе могилы. О возвеличивании Ленина-Сталина и козлобородого Калинина я и не говорю…
У Амирхан-ага память ясная и цепкая, слово острое. После разговора в Переделкино моя душа переполнилась гордостью. Переполняющая гордость – это ведь тоже характеристика внутреннего мира!..
Поэт Сирин понял трагедию той эпохи. И зафиксировал её в литературе. Но кто он, этот Сирин? Где жил? Как и когда умер? Мы старательно делали вид, что и слышать не слышали об этом великом человеке, умершем уже в наши дни. Его современники сделали всё, чтобы мы забыли несчастного поэта. А мы с удовольствием готовы забыть, только прикажите. Опять с горечью приходится повторяться: татарин мудр задним числом! Сохранилось ли, интересно, стихотворение Сирина, всполошившее людей Чёрного озера?
Ежедневно, ежеминутно приносящие горе татарскому народу годы войны… Достигшая последнего предела безнадёжность послевоенного лихолетья!.. Об этом периоде много произведений создано татарскими писателями. И хотя многие из произведений не лишены искажений и приукрашиваний, но в них встречаются и правильные, отчётливые мысли, зоркий взгляд на действительность, горькие выводы. Что ни говори, крестьянство хлебнуло немало горя из-за принудительной коллективизации и перегибов власти!
Живший в 116–27 годах до нашей эры римский писатель и учёный Марк Теренций Варрон65 в известном трактате «О сельском хозяйстве» пишет: «Орудия труда делятся на три группы: говорящие, мычащие и немые. Говорящие – это рабы, мычащие – быки, а немые – телеги». В истерзавших крестьянство колхозах эти понятия поменялись местами. Телеги – заговорили, они постоянно скрипят, просят смазки. «Немыми» стали собственно крестьяне, раз и навсегда замолкшие в тридцатые годы. И только быки не отдали свою позицию, хотя нет, вру, они, позабыв своё главное предназначение – страстно любить прекрасных тёлочек, впряглись в хомут, превратившись в безропотных меринов.
Со времён установления советской власти в стране голод стал постоянным спутником крестьян, мёртвой хваткой вцепился он в горло деревенскому люду и отпускать не собирался.
Рассказывает моя современница Мунира Гатауллина, жительница села Мелля-Тамак Муслюмовского района. Умная, образованная, искренняя женщина!
«Тёплые майские дни 1944 года… Нет мужчин, нет тракторов. Телеги, сани разбиты. С осени большая часть урожая осталась на корню. Всем строго-настрого запретили приближаться к колосьям, не разрешалось даже охапку унести. Осень. Льют дожди, падает снег, старики и старухи в голос рыдают на краю поля. По полю ездит лишь тарантас, на котором гордо восседают председатель и уполномоченный из района. Если завидят старух, баб, ребятишек, вышедших с мешками под мышками набрать немного зерна, живо затопчут. Больше половины даже убранного в скирды урожая осталось мокнуть под дождём на полях. Мы, детвора, в то время не понимали масштабов трагедии, но наши родители, глядя на осиротевшие нивы, не могли сдержать слёз… В зиму вошли с пустыми амбарами. Ох и длинными, ох и тяжкими были зимы в эпоху Сталина! У нас очень большая семья. Отцу Мухаметхану пятьдесят исполнилось, он инвалид финской войны, хроменький. Миловидный и добрый. Когда мама умерла, папа женился на молодой. С нашей новой мамой в дом пришла и её дочка двадцать девятого года рождения. И нас пятеро! Потом у них народилось ещё два ребёнка. Сейчас уже не помню, как мы пережили зиму, что ели. Страшные будни той зимы забылись, были перекрыты трагедией, разыгравшейся по весне. Наконец-то появилось солнышко, по которому все успели соскучиться за зиму. Освободилась от снежного гнёта земля. На рассвете мама, повязав фартук, выходит в поля, мешки-котомки брать не решается, боится, бедняжка! Хорошая память была у нашей мамы, она всегда знала, где что лежит: там остатки стога находятся, тут скирду не до конца вывезли. Не решаясь идти по дороге, женщины идут к остаткам скирды, по колено утопая в грязи. Зубами отрывая колоски от сырой соломы, обливаясь потом от напряжения и страха, набивают они подолы. Волоча налипшие на лапти огромные ошмётки грязи, окружными путями возвращаются домой и падают в изнеможении. Мы, ребятня, быстро-быстро принимаемся мять и провеивать колоски. Чтобы стукачи не пожаловали, активисты-коммунисты не увидели, остатки соломы сжигаем в печи. Положив в нагретую печь лист жести, сушим зерно. Почти в каждом доме есть ручная мельница. Её тщательно прячут от чужого глаза. Чтобы не было слышно, зерно мелем в погребе. И как вознаграждение за все страхи и старания – праздник: распространяя кисловатый запах по всему дому, в старом чугунке варится каша. Восемь детей в шестнадцать голодных глаз неотрывно смотрят на котелок…









































