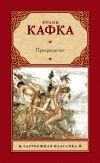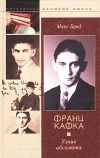Автор книги: Бенджамин Балинт
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Семантика высказываний учёных с обеих сторон – все эти «обиды», «возмутительные притязания», «культурные войны» – лишний раз свидетельствует о том, какое напряженное соперничество разворачивается между немцами и израильтянами в борьбе за общее для них литературное наследие.
На самом деле борьба за сохранение архива Брода в Израиле является одной из самых важных проблем в борьбе за всё наше дальнейшее существование на этой земле.
На следующем слушании в Семейном суде Тель-Авива, вскоре после перекрестного допроса Коэн, настал черед Евы отстаивать свою позицию. После «засады», в которую сестры Ева и Руфь попали на первом слушании, они прежде всего обратились к Арнану Габриели, одному из ведущих израильских юристов в области интеллектуальной собственности. Раньше Габриели представлял в судах интересы их матери Эстер, а также вёл переговоры по поводу спорной продажи в Йельский университет архивов иерусалимского поэта Иехуды Амихая. По словам Евы, Руфь до такой степени надоела Габриели, многократно названивая ему домой, что он отказался взяться за это дело. Тогда вместо Габриели Ева обратилась к адвокатам Ури Цфату и Йешаяху Этгару. (В 1975 году Цфат, 24-летний студент юридического факультета Университета Бар-Илан, стажировался у судьи Шило).
С самого начала оба адвоката представили позицию Национальной библиотеки как попытку национализировать частную собственность. Они утверждали, что решение судьи Шило от 1974 года, направленное против попытки государства присвоить себе рукописи Кафки, должно оставаться в силе. Они напомнили судье Копельман-Пардо, что, в отличие от нынешнего разбирательства, судья Шило имел преимущество: он выслушивал показания непосредственно Эстер Хоффе. «Притязания библиотеки уже рассматривались в рамках судебного процесса… и были отклонены таким образом, который не оставлял возможности для их повторной подачи».
Ури Цфат отметил, что документы Кафки вообще не должны считаться частью наследства Брода. Тот факт, что Брод не упомянул в своем завещании бумаги Кафки, сообщил Цфат, свидетельствует, что он прекрасно понимал: они больше не являются частью его наследства, он уже передал их в дар Эстер Хоффе. Наконец, заметил Цфат, когда в течение многих лет Национальная библиотека вела с Эстер Хоффе переговоры о коллекции Кафки, она никогда не действовала так, будто считала себя законным наследником этих рукописей.
Положение о том, что Национальная библиотека должна получить рукописи без компенсации Еве Хоффе, адвокат отверг как «абсурдное».
Шмулик Кассуто, назначенный судом адвокат по наследству Эстер Хоффе и автор книги «Подпись на долговых обязательствах» (1997), добавил, что попытка государства захватить рукописи представляет собой «открытый патернализм» и «не приличествует демократическому государству, которым любит выставлять себя Израиль». «Не наше дело определять, оставил ли Брод свое наследство наиболее „подходящему“ для этого человеку, – сказал Кассуто. – И не наше дело ставить под сомнение сокровенные желания его души. Возможно, государство и право, утверждая, что Брод поступил бы лучше, если бы не был так глубоко связан с госпожой Хоффе, и что было бы лучше, если бы он оставил свое „сокровище“ более подходящему наследнику – а нет более подходящего наследника, чем само государство Израиль. Но Брод был привязан к госпоже Хоффе. Он видел в ней единственного оставшегося в живых члена семьи, единственного близкого человека, и захотел отдать ей всё, что у него было. Это желание нужно уважать».
А поскольку Брод подарил Эстер рукописи Кафки ещё при жизни, утверждал Кассуто, то и де-факто, и де-юре эти рукописи не являются частью наследства Брода и, следовательно, не могут быть предметом интерпретаций его завещания. Что же касается собственно наследия Брода, сказал Кассуто, его завещание явно оставляет за Эстер Хоффе право определять, куда оно должно быть передано и на каких условиях. Более того, если Национальная библиотека захотела бы вести себя честно, сказал он, то ей следовало бы предложить Еве Хоффе переговоры о приобретении рукописей, а не пытаться оказать на неё давление. Положение о том, что Национальная библиотека должна получить рукописи без компенсации Еве Хоффе, адвокат отверг как «абсурдное».
Помимо юридических нюансов, на слушаниях в Тель-Авивском суде по семейным делам приводились и более общие соображения относительно того, кому должно принадлежать наследие Кафки и Брода. «Мы полагаем, что он, его наследие… его рукописи, – сказал Меир Хеллер о Кафке, – как и наследие многих других евреев, которые внесли свой вклад в западную цивилизацию, должны находиться здесь, в еврейском государстве». Эхуд Соль (из престижной израильской юридической фирмы Herzog, Fox and Neeman), назначенный судом исполнитель по наследству Брода, также утверждал, что при принятии решения в споре между Марбахом и Национальной библиотекой суд должен учитывать отношение Кафки и Брода «к еврейскому миру и Земле Израиля», а также взгляды Брода на Германию после Шоа, Катастрофы. Значимость еврейского народа и его политических устремлений для Кафки и Брода, по его мнению, должны главенствовать и в ходе судебного процесса, и в вердиктах судей.
4. Флирт с Землёй Обетованной
Пусть я бы и не переселился в Палестину, но хоть провёл бы пальцем по карте.
Франц Кафка в письме к Максу Броду, март 1918 года1
Бальный зал в Hotel Central, Прага, 20 января 1909 года
Богослов Мартин Бубер, апостол нового, духовно-динамичного иудаизма, выступал в Пражском Hotel Central. Сюда его пригласила Ассоциация «Бар-Кохба», сионистская группа во главе с Хуго Бергманом (1883–1975), учившемся вместе с Кафкой с первого по двенадцатый класс. Здесь же присутствовали Феликс Вельч (1884–1964) и Ханс Кон (1891–1971)2. Бубер, автор популярных антологий традиционных хасидских рассказов XVIII века, читал первую из трёх своих лекций о возрождении иудаизма (январь 1909, апрель и декабрь 1910 года)3. Это была не первая его встреча с пражскими сионистами (Бубер был здесь в 1903 году на праздновании десятой годовщины создания «Бар-Кохбы»), но именно она оказалась для него самой важной.
В бальном зале отеля 25-летний Макс Брод наслаждался прелюдией к вечеру: здесь 16-летняя актриса Лиа Розен пленительным голосом читала стихи Гуго Гофмансталя (которому Райнер Мария Рильке представил её в Вене в ноябре 1907 года). Она также спела «Колыбельную для Мириам» (Schlaflied für Mirjam) Рихарда Бер-Гофмана, в которой были такие строки:
Was ich gewonnen gräbt man mit mir ein.
Keiner kann Keinem ein Erbe hier sein.
Всё, что обрёл, – похоронят со мной,
Нет нам наследников в жизни земной4.
У вышедшего на сцену Бубера глаза сверкали умом и страстью. Брод пришёл в восторг от риторики мудреца, призывавшего к самоопределению евреев и их духовному обновлению. Что значит называть себя евреями? – бросал в зал Бубер. – И какие требования предъявляет еврейство к нашей внутренней жизни?
Встреча с Бубером перевернула отношение Брода к еврейской жизни и, как следствие, к Кафке и его сочинениям.
Брод позже говорил, что он пришёл на эту лекцию как «гость и оппонент», а ушёл с неё сионистом. До этого он считал, что не испытывал никакого самоненавистничества по отношению к евреям, но и не чувствовал особой еврейской гордости. Встреча с Бубером перевернула отношение Брода к еврейской жизни и, как следствие, к Кафке и его сочинениям. Здесь началось то, что Брод назвал своей «борьбой с иудаизмом и за иудаизм». Лекции Бубера побудили Брода сформулировать для себя то, что он и многие другие немецкоязычные евреи смутно чувствовали: их попытки отождествлять себя с deutscher Geist, немецким духом, терпели неудачу. И по причине этой неудачи Брода всё больше стала занимать проблема, которую Роберт Вельч мог бы назвать die persoenliche Judenfrage, «личным еврейским вопросом». Брод «перешёл от почти исключительной и преднамеренной озабоченности эстетическими аспектами к полной самоидентификации с еврейским народом», – отмечал Вельч5.
Сам этот вопрос возникал из ощущения странности. «Немецкий еврей в чешской Праге был, можно сказать, воплощением странности и инаковости, – писал Павел Эйснер. – Он был врагом народа без собственно народа». Некоторые пражские евреи бежали от этой странности бытия в места, где, как они надеялись, их «пороговость» могла бы исчезнуть: в Вену (Франц Верфель), в Берлин (Вилли Хаас) или в Америку (например, родители Луи Брандеса). Другие увлекались радикальным социализмом (как Эгон Эрвин Киш, который заявлял, что «моя родина – это рабочий класс») или принимали крещение. Некоторые из пражских евреев воспринимали сионизм больше как модный стиль (Mode-Zionismus), нежели как фундаментальную идею. Другие же, такие как Макс Брод, отнеслись к сионизму предельно серьёзно.
Ходила шутка о том, что если бы в определённое время в одном кафе рухнул бы потолок, то всё сионистское движение Праги было бы уничтожено одним ударом.
Самые известные сионистские кружки Праги группировались в основном вокруг Ассоциации «Бар-Кохба», названной так в честь лидера последнего восстания евреев против власти Рима6. Тогда по городу ходила шутка о том, что если бы в определённое время в одном кафе рухнул бы потолок, то всё сионистское движение Праги было бы уничтожено одним ударом. Тем не менее численно маленькое движение сумело успешно создать такое опьяняющее сочетание сионизма и социализма, что после 1918 года сионисты получили два мандата в Городском совете Праги. Лидеры сионистского движения в Праге, писал Брод:
…были молодыми людьми самого светлого ума и исключительной чистоты характера. Это была группа, состоявшая из таких ярких типажей, которые я никогда больше в своей жизни не встречал. И центром кристаллизации для них была студенческая организация «Бар-Кохба»… Все мы были едины в убеждении, что наше дело должно было быть реализовано посредством личных жертв и поступков; не статьями на первых полосах газет или подстрекательскими выступлениями, но посредством мирных усилий, предпринимаемых среди людей. Наша первая цель состояла в обновлении и повышении этики и морали униженной и оклеветанной еврейской общины, которая в диаспоре заметно разложилась… Еврейское государство, создание которого мы хотели подготовить «там», в Палестине, должно было быть основано на справедливости и бескорыстной любви между людьми, что, конечно же, подразумевало дружеские отношения и помощь нашим ближайшим соседям – арабам.
Десять лет, с 1900 по 1909 годы, Брод оставался равнодушным к сионистскому рвению «Бар-Кохбы». По его словам, в 1905 году он и слыхом не слыхивал имени Теодора Герцля, отца-основателя политического сионизма. (А ещё Брод вспоминал, как впервые увидел портрет Герцля на стене в гостиной квартиры Хуго Бергмана в пражском районе Подбаба. «Кто это?» – спросил тогда Брод.)
Только с 1909 года Брод начал искать смысл в еврейской идентичности и моральных обязательствах, которые она влечёт за собой. После распада Австро-Венгерской империи и создания Чехословакии Брод будет избран почётным членом (alter /?еггД<Бар-Кохбы» и заместителем председателя Еврейского национального совета. Он также станет одним из ведущих выразителей взглядов чешских евреев в недавно учреждённой республике и будет способствовать переговорам, в результате которых президент Масарик предоставит чехословацкому еврейству значительную автономию. Брод рассказывал, что в деятельности сиониста он вдохновлялся строками из рассказа Кафки «Певица Жозефина, или мышиный народ»:
Наш народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, практически в облике мастера, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, – народ продолжает идти своим путём7.
Герой этого рассказа Кафки сообщает, что история Жозефины, певицы-мышки, это «лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа». Мышиный народ, добавляет рассказчик, всегда «вызволял себя из беды, пусть и ценою жертв, от которых у учёного историка волосы становятся дыбом»8.
Брод обратился к культурному сионизму не только для переосмысления своей связи с еврейским народом, но и с целью критики размывания коллективных идентичностей меньшинств в новых национальных государствах. «Для меня, – писал он в сионистском еженедельнике Selbstwehr, – не существует никаких сомнений касательно того, что „еврейский националист“ не может быть „националистом“ в том смысле слова, который обычно используется сегодня. Миссия еврейского национального движения, сионизма, состоит в том, чтобы дать слову „нация“ новое значение». Возрождение иудаизма и воскрешение иврита могут состояться только в том случае, если они укоренятся в Земле Израилевой. «Прежде всего, – писал Брод пражской писательнице Августе Хаушнер (1850–1924), – «еврейский национализм не должен создавать ещё одну шовинистическую нацию. Его единственная цель – вернуть к жизни примиряющий, всеобъемлющий гуманный гений евреев, который сегодня выродился».
Национализм, разраставшийся после падения династии Габсбургов, придал миссии Брода новую актуальность. «Еврей, который серьёзно относится к национальной проблеме, – писал Брод, – обнаруживает себя сегодня в центре следующего парадокса: он должен бороться с национализмом с целью установления вселенского братства людей… и одновременно он должен быть вместе с молодым еврейским национальным движением».
Национализм, разраставшийся после падения династии Габсбургов, придал миссии Брода новую актуальность.
Во время Первой мировой войны Брод читал лекции о всемирной литературе – то, что сегодня можно было назвать «чтением великих книг», – для молодых еврейских женщин, которые бежали из Восточной Европы, спасаясь от ужасов войны. В первом номере журнала Der Jude он назвал этот опыт своим «единственным утешением в это бездуховное время». «Очаровательная свежесть и наивность исходят от этих девушек», – пишет он. Они для него являются «насквозь духовными». В своём эссе Брод сравнивает учениц с более поверхностными «западными еврейками». «Галицкие девушки в целом намного более свежи, более развиты духовно и здоровее, чем наши девушки».
Объяснению того, почему иудаизм всё более становится центром его жизни, Брод посвятил 600-страничный трактат, который он назвал «Язычество, христианство, иудаизм» (1921, на английском языке опубликован в 1971 году). В этом опусе (наверное, его можно назвать opus magnum, главным трудом жизни) он различает три
вида отношения к миру: восприятие этого мира как он есть (язычество); отрицание этого грешного мира в пользу «будущего мира» (христианское «Царство Моё не от мира сего»); и подтверждение того, что грехи этого несовершенного мира можно искупить (иудаизм). Последнее отношение Брод называет Diesseitswunder, «чудо этого мира». Роберт Вельч отмечал, что для Брода «язычество – это религия Diesseits: человек, живя в этом мире, игнорирует то, что находится вне его чувственного опыта. Христианство – это религия Jenseits, мира за пределами человека. Иудаизм же… это религия, которая объемлет оба этих мира и верит в совпадение таких противоположностей, как Милосердие и Свобода».
Брод как человек, которого привлекала и чувственность, и духовность, выбрал иудаизм.
Брод как человек, которого привлекала и чувственность, и духовность, выбрал иудаизм. И этот выбор повлек за собой выбор сионизма. «Сионизм обеспечивает еврейскую религиозность телом, которую та потеряла», – пишет Брод на заключительных страницах книги «Язычество, христианство, иудаизм». Сионизм не только предоставил Броду убежище от неоязычества, угрожавшего затопить Европу тем, что философ называл «политическим озверением». Сионизм также спас ему жизнь.
13 августа 1912 года Кафка на час опоздал на встречу, назначенную в квартире Макса Брода на пражской улице Скоржепка. Он хотел обсудить окончательный порядок произведений в грядущем первом сборнике Кафки под названием «Созерцание». Зайдя в квартиру, Кафка сразу заметил, что за столом сидит 24-летняя женщина, дальняя родственница Брода. «Непокрытая шея, – записывает он в своём дневнике. – Накинутая кофта. Выглядела одетой совсем по-домашнему, хотя, как позже выяснилось, это было не так. (Я немного отчуждаюсь от неё, так близко подступаясь к ней…) Почти сломанный нос. Светлые, жестковатые, непривлекательные волосы, крепкий подбородок. Усаживаясь, я впервые внимательнее посмотрел на неё, а усевшись, уже составил себе неколебимое мнение»9.
В ходе их первого разговора молодая женщина сообщила, что она работала в берлинских офисах компании Carl Lindstrom AG, продавая новое устройство для диктовки. Она также отметила, что изучала иврит, и упомянула о своих сионистских настроениях. «И это мне очень понравилось», – говорит Кафка. Он взял на себя смелость предложить ей следующим летом совместную поездку в Палестину. Она согласилась, и они обменялись рукопожатиями. В тот вечер в кармане пиджака Кафки лежал августовский номер журнала Palästina за 1912 год с переводом на немецкий эссе культуролога и сиониста Ахада ха-Ама о его недавнем путешествии в Палестину. Прежде чем проводить гостью в отель (а это был тот самый Zum Blaueri Stern, в котором в 1866 году Бисмарк подписал мирный договор между Королевством Пруссия и Австрийской империей), Кафка записал её берлинский адрес на титульном листе журнала.
Это и была Фелиция Бауэр, женщина, на которой Кафка никогда не женится. В течение следующих пяти лет благодаря сотням пылких писем (Кафка иногда переписывал отрывки из своих писем к Фелиции в письма Брода и цитировал письма Брода в своих письмах к ней) он завоюет её привязанность, а потом решит, что она его подавляет, и сбежит от неё прочь. Да, он её любил, и он от неё сбежал. Разделённые шестью часами путешествия на поезде между Прагой и Берлином, они будут дважды помолвлены и дважды разойдутся.
Амбивалентность Кафки по отношению к сионизму можно рассматривать как подтекст его амбивалентности по отношению к Фелиции – и другим женщинам, которых он любил как бы на расстоянии. Он вёл себя так, как будто сионизм и брак были двумя аспектами одной озабоченности, двумя способами сказать «мы» для человека, который страдал от тяжелой формы «мы-слабости» (Wir-Schwäche). Брод, похоже, интуитивно понимал этот подтекст: после первой помолвки Кафки и Фелиции Брод принёс им в подарок книгу Рихарда Лихтхейма «Программа сионизма» (Das Programm des Zionismus, 1911)10. Но амбивалентность Кафки со временем только усиливалась. В 1914 году в письме к Грете Блох, близкой подруге Фелиции, Кафка признавался: «Я восхищаюсь сионизмом, и меня от него тошнит».
Нога Кафки так никогда и не ступила на землю Палестины, но уже в первых строках первого письма, которое он написал Фелиции через пять недель после встречи с ней в квартире Брода, Кафка использует фантазию о Палестине как гамбит, открывающий начало флирта:
На тот – легко допустимый – случай, если Вы обо мне совсем ничего не вспомните, представлюсь ещё раз: меня зовут Франц Кафка, я тот самый человек, который впервые имел возможность поздороваться с Вами в Праге в доме господина директора Брода и который затем весь вечер протягивал Вам через стол одну за одной фотографии талийского путешествия, а в конце концов вот этой же рукой, которая сейчас выстукивает по клавишам, сжимал Вашу ладонь, коим рукопожатием было скреплено Ваше намерение и даже обещание на следующий год совершить вместе с ним путешествие в Палестину11.
Это обещание что-то высвободило в Кафке. Накануне Иом-Киппура, через две ночи после написания этого письма, он в экстазе, единым махом написал свой знаковый рассказ «Приговор», просидев за столом с десяти вечера до шести часов утра. Этот рассказ он посвятил Фелиции…
Джудит Батлер, профессор Калифорнийского университета в Беркли, отмечает, что для Кафки «Палестина – это фигуральное „куда-то“, это метафора любого места, куда едут любящие друг друга, это открытое будущее, это название неизвестного места назначения». И всё время переписки в сознании Кафки с этим «куда-то» ассоциируется Фелиция. В феврале 1913 года Кафка сообщает Фелиции о том, как он случайно столкнулся с молодым знакомым сионистом, и тот пригласил его прийти на важную сионистскую встречу. «В этот момент моё безразличие к его личности и к любому роду сионизма стало безграничным и невыразимым», – пишет Кафка. Он пошёл вместе с этим молодым человеком на собрание, но дошёл только «до двери кафе» и не позволил себе «зайти с ним внутрь». Похоже, что с отношением к Фелиции дело у Кафки обстояло так же, как и с его отношением к еврейским национальным амбициям или к собственному литературному творчеству: он останавливался на пороге завершения дела и бесконечно долго колебался.
Через две ночи после написания этого письма он в экстазе, единым махом написал свой знаковый рассказ «Приговор», просидев за столом с десяти вечера до шести часов утра.
Наиболее ярким выражением этой особенности является поздний незавершённый рассказ Кафки «Нора», написанный зимой 1923 года (Название Der Bau дал произведению Макс Брод). В рассказе изображено одинокое существо, похожее на барсука, которое посвятило свою жизнь созданию сложной подземной крепости, и теперь себя с ней идентифицирует: «Уязвимость моего жилья сделала и меня уязвимым, его повреждения причиняют мне боль, словно это повреждения моего собственного тела»12. В результате существо не обитает в этом хорошо защищённом убежище, но бдит снаружи, на пороге:
Дело дошло до того, что у меня иногда возникало ребяческое желание никогда больше не возвращаться в нору, а поселиться здесь, вблизи входа, провести остаток жизни, созерцая этот вход, и постоянно напоминать себе – испытывая при этом счастье, – насколько надежно моё жильё и что если бы я укрылся в нём, как хорошо оно защитило бы меня от всякой опасности13.
После разрыва второй помолвки с Фелицией Кафка и дальше связывал образ человека, находящегося «вблизи входа» в сионизм, со своими влюбленностями. Так, в 1919 году Кафка познакомился и вскоре обручился
с Юлией Вохрызек, простой девушкой, дочерью бедного сапожника и смотрителя синагоги. Эта женщина «обладает неисчерпаемым запасом самых ярких выражений на идиш, которые из неё так и сыплются», – говорил Кафка Броду. (Впрочем, ни её происхождение, ни её идиш не нравились отцу Кафки, который посчитал девушку déclassé, безродной.) Юлия, чей первый жених, молодой сионист, был убит в окопах Первой мировой войны, присутствовала на лекциях Брода по сионизму. Почти сразу после первой встречи с Юлией Кафка попросил Брода отправить ей экземпляр его эссе «Три фазы сионизма», написанного в 1917 году14.
Благодаря Броду Кафка ещё до встречи с Фелицией соприкасался – правда, по касательной – с сионистскими кругами. Так, в 1910 году он начал вместе с Бродом ходить на собрания и лекции, которые проводила группа «Бар-Кохба». В отличие от Теодора Герцля, члены «Бар-Кохбы» больше интересовались возрождением еврейской культуры, чем политикой создания еврейского государства. Они понимали сионизм не как свою цель, а как средство духовного обновления. В августе 1916 года Кафка упомянул об этом в открытке, адресованной Фелиции: «Сионизм, доступный сегодня большинству евреев, по крайней мере у его внешних пределов, – это лишь вход в нечто гораздо более важное».
Диалог по этому вопросу начался у Кафки много лет раньше, – он вёл его со своим другом Хуго Бергманом. Тот примкнул к группе «Бар-Кохба» ещё в 1899 году, когда ему было 16 лет, а в 18 лет уже был избран главой этого объединения. Однажды, в 1902 году, 19-летний Кафка выразил недоумение по поводу приверженности его друга сионизму, на что Бергман ему ответил:
Разумеется, в твоем письме не хватает обязательной издевки над моим сионизмом… Меня всякий раз удивляет, почему ты, который так долго был моим одноклассником, не понимаешь моей приверженности сионизму. Но если бы передо мной стоял сумасшедший со своей idee fixe, то я бы не стал над ним смеяться, потому что для него эта идея – это часть его жизни. Ты считаешь, что сионизм – это моя idee fixe… Но у меня не хватило сил остаться в одиночестве, как это сделал ты.
В 1920 году Бергман выехал из Праги в Палестину, где в конце концов стал первым директором Национальной библиотеки Израиля (с 1920 по 1935 годы). Как отметил Макс Брод, под руководством Бергмана она стала «самой большой, самой богатой и самой современной библиотекой на Ближнем Востоке». Затем Бергман был назначен ректором Еврейского университета в Иерусалиме. Кафка с большим интересом следил за его карьерой. В 1923 году Бергман заехал в Прагу чтобы выступить с лекцией в сионистском клубе «Керен ха-Иесод». «Ты прочитал свою лекцию специально для меня», – сказал ему потом Кафка.
Можно предположить, что Бергман рассказывал Кафке об истории создания библиотеки. Началась она с того, что в 1872 году раввин Иошуа Хешель Левин из Воложина напечатал в первом еврейском еженедельнике Hachavazelet, издававшемся в Иерусалиме, призыв «основать библиотеку, которая станет точкой фокуса, где будут собираться книги нашего народа – и ни одну из них нельзя пропустить». С помощью британского финансиста и филантропа сэра Мозеса Монтефиоре были собраны средства и нанят персонал библиотеки, в который попал и Элиэзер Бен-Иехуда, отец современного иврита. В 1905 году такая библиотека была создана под эгидой Сионистского конгресса в Базеле, но по-настоящему её время ещё не пришло: Национальная библиотека по определению требует наличия нации, сосредоточенной в одной стране и говорящей на одном языке.
Именно на встрече «Бар-Кохбы» в январе 1912 года Кафка прослушал лекцию о народных песнях на идиш, которую читал 47-летний венский литератор Натан Бирнбаум – тот самый, кто за двадцать лет до этого изобрел сам термин «сионизм». «Кафка жадно ловил каждое слово лекции Бирнбаума», – пишет Райнер Штах. Кафка также приходил в «Бар-Кохбу», чтобы послушать лекции таких сионистов, как Феликс Зальтен (будущий автор детской книги «Бэмби») или Курт Блюменфельд, генеральный секретарь Всемирной сионистской организации. Он также слушал сиониста Дэвиса Тритча, ведущего деятеля еврейской культуры, основателя издательства Jüdische Verlag и редактора журнала Palästina, в котором рассказывалось о еврейских поселениях в Палестине.
В сентябре 1913 года Кафка вместе с примерно десятью тысячами других участников (включая его будущего издателя Залмана Шокена и будущего первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона) принял участие в одиннадцатом Всемирном сионистском конгрессе, проходившем в Вене. (Главная цель поездки в Вену была связана у Кафки с работой: там проходил второй Международный конгресс работников спасательных служб по предотвращению несчастных случаев). Кафка слушал выступления Нахума Соколова, Менахема Усышкина, Артура Руппина и других ведущих сионистских ораторов. Делегаты посетили премьеру 78-минутного немого документального фильма, созданного Ноем Соколовским. В фильме показывались панорамные виды недавно построенного Тель-Авива, достопримечательности Иерусалима и еврейские сельскохозяйственные поселения в Иудее, Кармеле и Галилее15.
«На устах у них всё время маккавейцы, и они хотят походить на них».
Шумное собрание оставило Кафку равнодушным. «Я присутствовал на съезде сионистов, – писал он Фелиции, – с таким ощущением, как будто это было совершенно чуждое мне событие, я чувствовал себя стеснённым и расстроенным многим из того, что происходило». «Трудно представить себе что-нибудь более бесполезное, чем такой съезд», – сказал он Броду. В своих дневниках Кафка высмеивал Palästinafahrer, «палестинских ездоков», то есть тех, кто совершал путешествия в Палестину: «На устах у них всё время маккавейцы, и они хотят походить на них»16.
Находясь в Праге, среди противопотоков культурных течений, Кафка не менее Брода и его друзей-сионистов опасался окружающего антисемитизма. Как и они, Кафка слишком хорошо знал, что чехи видели в евреях немцев, а немцы – евреев. «Что они делали, – писал в 1897 году Теодор Герцль, – эти маленькие пражские евреи, эти честные торговцы средней руки, эти самые миролюбивые из всех миролюбивых граждан?.. Некоторые из них пытались быть чехами – и на них нападали немцы; другие, которые пытались быть немцами, подвергались нападению со стороны чехов – ну и немцев тоже»17.
Как и Брод, Кафка читал полные ненависти антиеврейские статьи в чешской газете Venkov («Деревня») и не раз сталкивался с «будничной» травлей евреев. Так, однажды вечером, когда Кафка посетил салон, хозяйкой которого была жена его начальника, один из её гостей заметил: «Вы что, и евреев пригласили?»
«В одном месте я даже вынужден был прервать чтение, сел на кушетку и расплакался, – писал Кафка Фелиции. – Я уже много лет не плакал».
Два пражских писателя имели несхожие характеры, у них по-разному сложились судьбы, но оба испытали горький опыт принадлежности к еврейскому меньшинству в пределах немецкоговорящего меньшинства внутри ещё одного, чешского меньшинства в неоднородной Австро-Венгерской империи, раздираемой центробежными силами соперничающих видов национализма. И оба на личном опыте ощутили рост антисемитизма, который сопровождал распад этой империи.
В декабре 1897 года, в возрасте четырнадцати лет, Кафка был свидетелем трёхдневных беспорядков в Праге. В течение так называемой «декабрьской бури» мародёры разрушали синагоги, грабили еврейские магазины и нападали на дома евреев, в том числе на дом Брода. «В моём доме тоже били окна по ночам, – вспоминал Брод. – Дрожа от страха, мы перебежали из детской, которая выходила на улицу, в спальню родителей. Я и сейчас помню, как отец выхватил из кроватки мою маленькую сестру а утром на её постельке нашли большой булыжник, выломанный из брусчатки».
Два года спустя, в 1899 году, Кафка внимательно следил за делом Леопольда Хилснера, молодого еврея из городка в Богемии, обвинённого в ритуальном убийстве чешской девушки-католички. Он читал рассказ очевидца о погроме 1906 года, написанный его другом Абрамом Грюнбергом. Он видел в пражском сионистском еженедельнике Selbstwehr сообщения о кровавом навете на Бейлиса в Киеве (1911–1913) и, как свидетельствует Брод, написал короткий рассказ об этом печально известном деле (рассказ по просьбе Кафки сожгла его последняя любовница Дора Диамант)18. Он был потрясён драмой Арнольда Цвейга «Ритуальное убийство в Венгрии» (Ritualmord in Ungarn), написанной в 1914 году, в которой автор излагал историю кровавого навета, известного как Тисаэсларское дело. «В одном месте я даже вынужден был прервать чтение, сел на кушетку и расплакался, – писал Кафка Фелиции. – Я уже много лет не плакал»19.