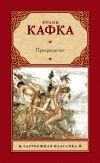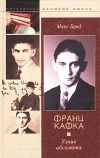Автор книги: Бенджамин Балинт
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В 1922 году Кафка наблюдал, как студенты Немецкого университета в Праге начали беспорядки, отказываясь получать дипломы из рук ректора университета, еврея. В том же году Кафка был вынужден ответить на длинную антисемитскую статью Ганса Блюхера Secessio Judaica, в которой тот осуждал «еврейскую мимикрию» и рекомендовал «отделять» евреев от немцев20. Кафка видел всю эту бешеную ненависть без всяких иллюзий. Так, например, когда в 1922 году был убит министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау, еврей, то Кафка заметил, что «непонятно, как это они вообще позволили ему прожить так долго».
Кафка, который обладал сильной восприимчивостью к закипавшему антисемитизму, продолжал обсуждать с Бергманом и Бродом вопрос о шатком статусе евреев в Европе. Так, в 1920 году он внимательно прочитал исследование Брода «Социализм в сионизме». Правда, в отличие от двух своих друзей, Кафка, отвечая на этот вопрос, не обращался к идеологии сионизма. «Весь день я провёл на улицах, купавшихся в антисемитизме, – пишет 30-летний Кафка в апреле 1920 года, во время погромов в Праге. – Prašivé plemeno – паршивое племя – так при мне называли евреев. Не правда ли, было бы естественно покинуть место, в котором тебя так яростно ненавидят?.. Героизм, который требуется для того, чтобы остаться несмотря ни на что, – героизм таракана, которого тоже ничем не выжить из ванной»21.
Кафка отмечает «тёмную сложность иудаизма, в котором скрыто так много непроницаемых тайн».
В открытке, отправленной в сентябре 1916 года своей невесте Фелиции, Кафка отмечает «тёмную сложность иудаизма, в котором скрыто так много непроницаемых тайн». Чтобы начать понимать эти тайны и разбираться в грамматике языка, на котором они были выражены, Кафка в 1917 году начал серьёзно изучать иврит. В этом он следовал совету Хуго Бергмана: «Если вы хотите узнать еврейский народ, – подчеркивал Бергман, – если вы хотите участвовать в обсуждении вопросов, которые определяют его судьбу, тогда сначала научитесь понимать его язык!»
В изучении иврита Кафке помогали популярный тогда учебник Мозеса Рата22 и уроки разговорного языка, которые давали ему друзья – Фридрих Тибергер (1888–1938) и Георг (Иржи) Мордехай Лангер (1894–1943)23. Лангер, гомосексуал, который познакомился с Кафкой в 1913 году через их общего друга Макса Брода, в возрасте девятнадцати лет ушёл из семьи, принадлежащей к среднему классу, и стал последователем хасидского ребе. Лангер был автором книги «Эротика Каббалы» (Die Erotik der Kabbala, 1923), которую редактировал (и написал на неё хвалебную рецензию) Макс Брод. В 1929 году Лангер написал на иврите элегию по Кафке. В 1941 году за два года до своей безвременной кончины, Лангер, который к тому времени жил в Тель-Авиве недалеко от Брода, так вспоминал радость своего ученика, когда тот говорил на иврите:
Да, Кафка говорил на иврите. В последние годы жизни Кафки мы разговаривали только на иврите. Человек, который всегда настаивал на том, что не является сионистом, уже в зрелом возрасте и с большим усердием учил наш язык. И, в отличие от пражских сионистов, он свободно говорил на иврите, что приносило ему особое удовлетворение. Думаю, я не преувеличу, если скажу, что он втайне гордился этим… Однажды, когда мы ехали на трамвае и рассуждали об аэропланах, которые в тот момент кружили над Прагой, некоторые чехи, которые ехали вместе с нами… начали расспрашивать нас, на каком это языке мы говорим…
И когда мы сказали им, на каком именно, то они страшно удивились, что на иврите можно говорить даже о самолётах… Как же засветилось тогда от счастья и гордости лицо Кафки!24
В то же время Лангер добавляет, что Кафка «не был сионистом, но сильно завидовал тем, кто выполнял великую заповедь сионизма, то есть просто тем, кто иммигрировал в Eretz Yisrael (Землю Израилеву. – Прим. авт.). Он не был сионистом, но всё, что происходило на нашей земле, сильно его волновало».
В 1918 году Кафка предложил Максу Броду начать переписываться на иврите. Брод тоже изо всех сил пытался овладеть этим языком. «Будучи примерным сионистом, – пишет Брод в своих мемуарах, – я начал изучать иврит и возвращался к нему снова и снова, год за годом, всегда начиная с самого начала. И я всегда увязал в нём, как только добирался до Hifil (форма побудительного залога глагола в иврите). В поэтический сборник 1917 года «Земля Обетованная» Брод включил стихотворение «Урок иврита» (Hebraische Lektion), которое открывается такими строками:
Dreissig Jahre alt bin ich geworden,
Eh ich begann, die Sprache meines Volkes zu lernen
war es mir, als sei ich dreissig Jahre taub gewesen.
Когда мне исполнилось тридцать,
Я обратился к языку народа моего
И понял, что все эти годы был я глух.
Брод замечает, что Кафка изучал язык «с особым рвением». «Глубоко изучив иврит, – вспоминал Брод, – в этой области он оставил меня далеко позади».
К осени 1922 года, несмотря на пошатнувшееся здоровье, Кафка продолжал изучать иврит и дважды в неделю занимался с девятнадцатилетней студенткой из Иерусалима. Пуа Бен-Товим – или «маленькая палестинка», как он её называл, – приехала в Прагу с матерью Хуго Бергмана. Родители Пуа прибыли в Палестину в 1880-х годах с волной иммигрантов из России. В течение десяти лет она помогала своему отцу, выдающемуся гебраисту, вести уроки в первой иерусалимской школе для слепых. После Первой мировой войны она стала одной из первых выпускниц первой гимназии Иерусалима, в которой преподавание велось на иврите. Ещё старшеклассницей она вызвалась помочь Хуго Бергману составить каталог немецких книг для Национальной библиотеки.
«Очень часто у него начинались болезненные приступы кашля, из-за которых мне всегда хотелось прекратить урок, – вспоминала Пуа. – И тогда он смотрел на меня, не в силах сказать ни слова, своими огромными тёмными глазами и умолял повторить хотя бы одно слово, а потом другое, а потом ещё и ещё. Казалось, он считал эти уроки разновидностью чудодейственного лекарства».
С помощью Пуа Кафка своим округлым детским почерком заполнял словами на иврите и их немецкими эквивалентами целые тетради: фашистское движение, туберкулёз, святость, победа, гений. Он также переписывал на иврите целые фразы, например, «Да покарает вас Б-г!». (По словам Рафаэля Вайзера, бывшего директора отдела рукописей и архивных документов Национальной библиотеки, 18-страничный блокнот, который я видел в Национальной библиотеке, был подарен им семейством Шоке н.)«Нет сомнений, что я его привлекала, – вспоминала Пуа, – но привлекала скорее как идеал, чем как реальная девушка; привлекала как образ далекого Иерусалима. Он постоянно расспрашивал меня об Иерусалиме и хотел уехать со мной, когда я соберусь туда возвращаться». «Когда я впервые его увидела, – говорила Пуа о Кафке, – он уже знал, что умирает, и отчаянно хотел жить. Он постоянно грезил о Палестине, а я только что оттуда приехала, и он видел в этом нечто мистическое… Я скоро поняла, что он эмоционально раздавлен и ведёт себя как утопающий – готов цепляться за любого, кто оказался с ним рядом»25.
Кафка, чей писательский талант родился из невозможности причастности к чему-либо, отстранялся и от любых предложений вступить в какую-то группу.
Но Кафка, чей писательский талант родился из невозможности причастности к чему-либо, отстранялся и от любых предложений вступить в какую-то группу. «Стремление быть причастным к чему-либо и тем самым завоевать уверенность в себе, которая сопутствует любой принадлежности, влекло его к сионизму, – говорит Вивьен Лиска, профессор немецкой литературы и директор Института еврейских исследований Антверпенского университета. – Но страх перед потерей своего „я“ в группе удерживал его от полной принадлежности». Ганс Дитер Циммерман, ведущий немецкий переводчик Кафки, выразил подобную же мысль более чётко: «Он никоим образом не был сионистом… Он – „разнузданный“ индивидуалист. Так он себя однажды назвал».
В 1922 году Брод предложил Кафке подумать о том, чтобы стать редактором Der Jude, ежемесячного журнала сионистов, издававшегося Мартином Бубером на деньги Залмана Шокена. За пять лет до этого, в 1917 году, Кафка опубликовал в этом журнале два рассказа – «Отчёт для академии» и «Шакалы и арабы». В июне 1916 года Брод написал Буберу, что глубокая тоска Кафки по обществу и стремление избежать неприкаянности и одиночества сделали его «самым еврейским» писателем.
Для Бренера и Земля Израиля – это ещё одна диаспора.
Как и следовало ожидать, Кафка отказался от этого предложения, сославшись на слабое здоровье. «Как я могу даже подумать об этом, – ответил Кафка, – с моим безграничным незнанием вещей, с неумением ладить с людьми, с отсутствием твердой еврейской почвы под ногами? Нет, нет»26.
Таким образом, и Земля Обетованная, и те, кто обещал её, остались для Кафки в недосягаемой дали. «Ведь что такое иврит, – писал Кафка в 1923 году Роберту Клопштоку, тоже больному туберкулёзом, – если не весть издалека?»
В последний год жизни Кафка, наконец, съехал с квартиры родителей и сошел с орбиты их влияния. С сентября 1923 по март 1924 года он жил, как писал Брод, «полусельской жизнью» в отдалённом районе Штеглиц на окраине Берлина. Он переехал туда, чтобы остаться с Дорой Диамант, женщиной, которая была младше его на 21 год, и которая нарушила строгие хасидские традиции своей семьи. «То, что Дора была наследницей сокровищ польской еврейской религиозной традиции, – писал Брод, который несколько раз посещал их берлинский дом, – являлось для Франца постоянным источником восхищения». До января 1924 года, когда здоровье Кафки резко ухудшилось, он вместе с Дорой посещал подготовительные занятия по изучению Талмуда в Академии иудаизма на Артиллеристштрассе (теперь здесь находится Дом-музей Лео Бека). Кафка назвал Академию «оазисом мира в диком Берлине и в диких краях собственного „я“».
Дора также помогла Кафке прочитать в оригинале, на иврите, три начальные главы последнего и самого мрачного романа Иосефа Хаима Бренера «Бездолье и провал» (Shekhol ve-Kishalon) – они читали по странице в день27. Примечательно, что для чтения был выбран роман, который называли «самым жестоким самобичеванием в еврейской литературе». В нём Бренер, этот трагический рационалист ивритской литературы, подчеркивал, что «изгнание, галут, – оно повсюду». Для Бренера и Земля Израиля – это ещё одна диаспора. «Как роман книга мне не очень понравилась», – сообщал Кафка Броду.
Позже Дора рассказывала, что они с Кафкой «постоянно обыгрывали идею покинуть Берлин и иммигрировать в Палестину, чтобы начать новую жизнь». В частности, они строили причудливые фантазии о том, как откроют в Тель-Авиве еврейский ресторан: Дора будет готовить, а Кафка – служить официантом, чтобы незаметно наблюдать за посетителями. (В 18-страничном рукописном словаре иврита, составленном Кафкой, есть и слово «официант» – meltzar.) Разумеется, мечта Кафки о Сионе останется мечтой несбыточной – ведь он позволил себе мечтать о переезде в Палестину, только когда болезнь зашла настолько далеко, что это стало невозможным.
В июле 1923 года Хуго Бергман и его жена Эльза (урождённая Фанта) обратились к Кафке с последним призывом, пригласив его уехать вместе с ними в Иерусалим. «И снова соблазны манят, – сказал на это Кафка, – и снова ответом – абсолютная невозможность». Вместо Кафки Бергманы увезли из Праги его фотографию, которая потом стояла на рояле их иерусалимского салона.
«Я способен был любить лишь то, что мог поставить настолько выше себя, что оно становилось для меня недостижимым».
По мере того как болезнь усиливалась, а силы таяли, Кафка стал чаще размышлять о том, какие начинания в его жизни остались нереализованными. «С моей стороны не было ни малейшей, хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь, – пишет Кафка в дневнике в 1922 году и далее перечисляет серию сломанных радиусов круга своей жизни: «…антисионизм, сионизм, иврит… попытки жениться»28. Видимо, как и в случаях с Фелицией, Юлией, Миленой и Дорой, Кафка со своей боязнью супружества любил на расстоянии. В этом он признавался в письме Броду от 1921 года: «Я способен был любить лишь то, что мог поставить настолько выше себя, что оно становилось для меня недостижимым»29. Палестина и возвращаемый там к жизни иврит оказались недостижимыми. Брак и Земля Обетованная – для Кафки это две формы отложенного счастья, которое желанно, но недостижимо.
Что же касается Евы Хоффе, то она считает, что, наверное, всё это к лучшему… Тель-Авив, середина лета, дикая влажность… Мы с Евой идём по улице Дубнова. На ней яркая футболка с принтом в виде портрета Мэрилин Монро и свободно драпированная юбка. В руках у Евы – три пластиковых пакета с фотографиями и документами, которые она хочет мне показать, среди них – её свидетельство о рождении и чешский паспорт. «Хотя я еврейка и живу в Израиле, – говорит она, – но не могу сказать, что мне здесь очень нравится».
В разговоре с ней я вспомнил об интервью, которое Брод дал израильской газете Maariv в октябре 1960 года. Он тогда сказал: «Если бы Кафке удалось добраться до Земли Израильской, то он бы создал гениальные произведения на иврите!» А ещё, добавил я, в своём новом романе «Тёмный лес» американская еврейская писательница Николь Краусе сочинила для Кафки альтернативную жизнь в варианте «а что, если бы…». Герой Краусе обнаруживает, что Кафка между двумя мировыми войнами приезжает в Палестину и живёт, неузнанный, под своим еврейским именем Аншель (так звали деда его матери по её материнской линии).
Никогда не встречавшаяся с Кафкой Ева отреагировала на мой рассказ крайне скептически. «Кафка? Да он не продержался бы здесь и дня», – сказала она, расправляя юбку на коленях30.
5. Первый и второй приговоры
Кафка для еврейской литературы – то же, что Данте для католицизма или Джон Мильтон для протестантизма: это архетип Писателя.
Харолд Блум, 2014 год
Тель-Авивский суд по делам семьи, проспект Бен-Гуриона, 38, Рамат-Ган, октябрь 2012 года.
Одновременно с судебными слушаниями по делам семьи в Тель-Авиве продолжалась продажа рукописей Кафки и их вывоз из Израиля. В 2009 году, к недовольству израильских властей, два документа, написанных рукой Кафки, были выставлены на аукционе в Швейцарии – и оба они какое-то время находились в распоряжении Эстер Хоффе. Одним из документов было письмо Кафки к Броду на восьми страницах, датированное сентябрем 1922 года (и проданное за 123000 швейцарских франков): «Я знаю, как даёт о себе знать ужас одиночества, – пишет Кафка Броду. – Причём не столько одиночества одного, сколько одиночества среди людей». (Клаус Вагенбах назвал это письмо «одним из самых красивых писем Кафки».) Эстер продавала имевшиеся у неё рукописи Кафки в течение десяти лет, с 1978 по 1988 год, и Национальная библиотека ничего против не имела, и вот теперь попыталась заблокировать продажу, но ей это не удалось.
Даже после того, как начался процесс, оставалось неясным, какие рукописи Ева Хоффе держала у себя дома на улице Спинозы, а какие хранились в её банковских ячейках. Хоффе подписала аффидевит, в котором заявляла, что в её квартире больше нет ничего, написанного рукой Кафки. Беспокойство о судьбе рукописей только выросло, когда Ева заявила, что во время судебного разбирательства в её квартиру в Тель-Авиве проникли взломщики. Вплоть до сегодняшнего дня остается неясным, было ли из её квартиры что-либо украдено, и если было, то что именно.
Даже после того, как начался процесс, оставалось неясным, какие рукописи Ева Хоффе держала у себя дома.
Однажды была сделана попытка каталогизировать это наследство. В 1980-х годах Эстер Хоффе поручила Бернхарду Эхте, швейцарскому филологу и в то время директору архива Роберта Вальзера в Цюрихе, составить список имеющихся у неё рукописей. Результатом инвентаризации стал документ более чем на 140 страницах, в котором упоминается около 20000 страниц материалов. Содержание списка Эхте и по сей день хранится в строгой тайне, и потому суду он предоставлен не был.
В 2010 году судья Копельман-Пардо из Тель-Авивского суда по делам семьи распорядилась открыть сейфы семьи Хоффе – четыре в банке Цюриха и ещё шесть в Тель-Авиве (они находятся в Банке Леуми на улице Иехуды Галеви). Еве не разрешили присутствовать при этой процедуре ни в Цюрихе, ни в Тель-Авиве. В Тель-Авиве, правда, она попыталась ворваться в комнату и в ярости кричала: «Они же мои, они мои!» «Это было шоу с дикими зверями», – сказала она мне, когда вспоминала тот день.
Ева, которую и в этот раз не позвали на процедуру, также попыталась пробиться в хранилище.
Ячейки Хоффе в Цюрихе, в банке UBS на Банхоф-штрассе, были открыты 19 июля 2010 года. Иемима Розенталь из Государственного архива попросила профессора Иту Шедлецки возглавить группу назначенную судом для просмотра материалов, находящихся в швейцарских хранилищах, и инвентаризации их содержимого. Эта работа оплачивалась Министерством юстиции. Шедлецки, уважаемый специалист по немецкой литературе, работающая в Еврейском университете, была редактором издания писем Гершома Шолема и соредактором критического издания «Труды и письма» Эльзы Ласкер-Шюлер. Она помнит, как в подростковом возрасте читала романа Брода о Цицероне (Armer Cicero, 1955), который печатался с продолжением в Neue Zürche Zeitung. Для Шедлецки, которая родилась в Цюрихе в 1943 году, этот эпизод послужил возвращением на родину: она оказалась в городе своего детства, причём на той самой улице, по которой они с матерью обычно ходили по магазинам.
Ева, которую и в этот раз не позвали на процедуру, также попыталась пробиться в хранилище. Она подозревала, что адвокаты охотились за «тайным» завещанием Брода (то есть написанным после 1961 года), и боялась, что один из адвокатов может прикарманить рукопись. Швейцарский менеджер банка угрожал вызвать полицию, если Ева не покинет помещение добровольно, но она категорически отказалась это сделать. «Внутри я вся дрожала, но не показывала им, что я боюсь», – рассказывала она мне. Шедлецки отвела её в сторону и сумела успокоить. «Эхуд Соль посмотрел на меня так, будто я сумела приручить льва», – рассказывала мне Шедлецки.
Эхуд Соль, судебный исполнитель по делу о наследстве Брода, тоже запомнил этот эпизод. «В Швейцарии нас отвезли в огромные хранилища, где ожидали управляющий и весь персонал филиала, которые понимали, что становятся свидетелями исторического события. Когда мы открыли хранилища (и это при неуместном поведении адвоката), у нас на глаза навернулись слёзы», – рассказывал он в интервью израильской газете Haaretz. (Шедлецки назвала этот рассказ «ерундой»).
В четырёх ящиках оказались рукописи, которые Брод оставил здесь в 1950-х годах. Первые открытия оказались многообещающими: в банковской ячейке № S6588 Брод оставил записку в коричневом конверте, датированную 1947 годом. В ней заявлялось, что прилагаемые три тетради парижских дневников Кафки принадлежат Эстер Хоффе.
В депозитной ячейке № S6577 среди других предметов была найдена коричневая папка, на которой Брод чёрными чернилами написал: «Письмо Кафки к отцу, оригинал (собственность госпожи Эстер Хоффе)». И ниже надпись синими чернилами: «Моя собственность [mein Eigentum]. Илзе Эстер Хоффе, 1952».
В ячейке № S6222 хранились две папки. На одной Брод написал: «Опубликованные письма Кафки ко мне, оригиналы, моя собственность, принадлежащая Эстер Хоффе». На второй Брод написал: «Кафка – мои письма Францу – принадлежат Эстер Хоффе – 2 апреля 1952 года, Тель-Авив, доктор Макс Брод».
Надписи Брода на конвертах и папках были сфотографированы, и Илан Харати из Государственного архива Израиля проверил их содержимое и состояние хранившихся материалов. Результаты вскрытия ячеек, кажется, подтвердили, что Брод ещё при жизни передал рукописи Кафки во владение Эстер Хоффе.
Они также подтвердили, что Брод был одержим собиранием всего, написанного Кафкой (включая эскизы и каракули)1.
Шедлецки, которой было поручено составить опись материалов, хранящихся в ячейках, была в конце концов оттеснена израильскими адвокатами в другие комнаты хранилища, однако успела заметить среди бумаг переписку Эстер Хоффе с немецкими редакторами академического издания работ Кафки. Эти письма доказывали, несмотря на утверждения об обратном, что Хоффе разрешала «систематический и регулярный» доступ к находившемся в её распоряжении бумагам Кафки. Что удивительно – Шедлецки так никто и никогда не попросил предоставить суду свидетельства на этот счёт.
Опись архивных материалов осталась неполной и ещё по одной причине. Как рассказала мне Ева Хоффе, она была оштрафована на 15000 шекелей (сегодня это примерно 4200 долларов) за отказ выполнить решение суда о проведении у неё дома «осмотра» с целью выявить имеющиеся там рукописи и внести их в список. Как отметила Ева, идея такого обыска напомнила ей «тактику гестапо».
В итоге неполной инвентаризации, проведённой в хранилищах Тель-Авива и Цюриха, была составлена опись на 170 страницах, в которой было указано около 20000 писем (в их число, вероятно, входило и 70 писем к Броду от Доры, последней любовницы Кафки), неопубликованные дневники Брод2, две дюжины неизвестных рисунков Кафки3, а также оригиналы рукописей рассказов Кафки (в том числе «Свадебные приготовления в деревне»). В конце февраля 2011 года опись была вручена судье Копельман-Пардо.
Тем временем, продолжала рассказ Ева Хоффе, чтобы выжить, ей пришлось продавать имевшиеся документы. По её словам, несмотря на то что она, как и её мать, получила компенсацию от правительства Германии, большую часть сбережений пришлось потратить, чтобы заплатить за лечение матери в больнице Ихилов после того, как Эстер перенесла инсульт. Росли и её судебные расходы. Объявив о финансовых трудностях, она через своего адвоката Ури Цфата попросила суд снять ограничения, по крайней мере с денежной части унаследованного имущества её матери. В августе 2011 года судья Юдит Стофман из Тель-Авивского окружного суда удовлетворила это ходатайство и разрешила Еве и её старшей сестре Руфь Вислер получить в наследство по миллиону шекелей (примерно четверть миллиона долларов) на каждую.
Как отметила Ева, идея такого обыска напомнила ей «тактику гестапо».
Для Руфь, бывшей швеи и ароматерапевта, это было слишком мало и слишком поздно. Она была настолько расстроена ходом процесса, что не могла заставить себя присутствовать на слушаниях или хотя бы прочитать протоколы заседаний суда. В 2012 году, в возрасте 80 лет, она умерла от рака, оставив сестру Еву продолжать сражение в одиночку. «Я считаю Национальную библиотеку виновной в смерти моего клиента, – сказал Харель Ашвал, адвокат Руфи, в интервью Sunday Times. – Они вели
себя очень агрессивно и недостойно. Я думаю, что они хотели взять Руфь и Еву измором, желали, чтобы они сдались». У Руфь осталось две дочери: Анат и Яэль. Анат также обвинила суд в причинении матери страданий, которые свели её в могилу. «У женщины, которая всю свою жизнь была здоровой, внезапно появляется рак и она умирает, просто сгорает от него», – говорила она в интервью газете Haaretz.
В октябре 2012 года, через полгода после смерти Руфи и спустя пять лет после смерти Эстер Хоффе, судья Талия Копельман-Пардо из Тель-Авивского суда по семейным делам вынесла, наконец, свое решение. Оно занимает 59 страниц и начинается на лирической ноте. «Не каждый день и, конечно, не по своей воле судья исследует глубины истории и открывает фрагмент за фрагментом, осколок за осколком – скорее загадочные, нежели понятные. Простой запрос, поданный истцами, дочерями покойной госпожи Эстер Хоффе, стремившимися исполнить её волю, открыл ворота в жизнь, желания, разочарования, и, конечно, в души – души двух великих личностей XX века».
Ни один документ не может пропасть, суд ничего не забывает.
Обосновывая повторное открытие дела, возбуждённого против Эстер Хоффе, по которому судья Шило вынес своё решение сорок лет тому назад, судья Копельман-Пардо пошла на необычный шаг: она сослалась на художественное произведение – роман «Процесс» Франца Кафки:
При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает. Она совершенно изымается из дела, уничтожается не только обвинение, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор, – всё уничтожается. Другое дело при мнимом оправдании. Документация сама по себе не изменилась, она лишь обогатилась свидетельством о невиновности, временным оправданием и обоснованием этого оправдательного приговора. Но в общем процесс продолжается, и документы, как этого требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят туда и обратно, из инстанции в инстанцию, как маятник, то с большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими остановками. Эти пути неисповедимы. Со стороны может показаться, что всё давным-давно забыто, обвинительный акт утерян, и оправдание было полным и настоящим. Но ни один посвящённый этому не поверит. Ни один документ не может пропасть, суд ничего не забывает4.
Решение 1974 года в пользу Эстер Хоффе не было забыто, писала судья Копельман-Пардо, но теперь непредсказуемые колебания маятника пошли в другом направлении. Копельман-Пардо отвергла официально утверждённое завещание матери Евы Хоффе. Судья не стала решать, по праву ли сам Брод владел рукописями Кафки или нет, но она признала аргумент израильского государства, состоящий в том, что Брод завещал Эстер Хоффе своё наследство – документы Кафки – не в качестве дара, он передал его в управление. В этом случае при невыполнении определённых условий дар может быть признан юридически недействительным, несмотря на намерения дарителя или наследодателя.
Несмотря на то что Брод передавал рукописи Эстер Хоффе в качестве подарка, они фактически оставались под его контролем, и он сам решал их судьбу. Даже после подписания обязательств (векселей) в пользу Эстер (см. ниже в главе 13) Брод вёл себя так, будто документы Кафки остались в его распоряжении. Пример: в апреле 1952 года Брод написал Марианне Штайнер в Лондон письмо, в котором перечислил, какие из рукописей Кафки принадлежат ему, а какие – живущим наследникам Кафки. И в письме он не упоминал о том, что что-то передавал Хоффе. В августе 1936 года Брод подписал документ, в котором указывалось, при каких условиях он позволил бы немецкому ученому Клаусу Вагенбаху ознакомиться с этими бумагами: только на квартире Брода, только для исследований, а не для публикации, и т. п. То есть Брод, а не Эстер, давал разрешение на ознакомление и устанавливал его условия. Наконец, в интервью, которое он дал израильской газете Maariv в октябре 1961 года, Брод сказал: «Я всё ещё раздумываю, что делать [с рукописями Кафки]». Интервьюер спросил, нельзя ли на них посмотреть. «Нет! – ответил Брод. – Я держу их в банковском хранилище». То есть он сказал «я», а не «Эстер и я». (Судья Копельман-Пардо не обращалась к показаниям, которые Эстер Хоффе давала при слушании дела в 1973–1974 годах.
А между тем рукописи Кафки «Свадебные приготовления в деревне» и «Описание одной борьбы», по словам Эстер, «с 1947 года находились в моем сейфе, и когда он [Брод] хотел с ними поработать, то я ему их приносила». На слушании 11 января 1974 года Хоффе также дала показания судье Ицхаку Шило о рукописи романа Кафки «Процесс»: «Я получила её, кажется, в 1932 году и положила в свой сейф. Он [Брод] дал её мне. Я унесла её из его дома. Я приносила её ему, только когда он над ней работал».) В любом случае при жизни Брода Эстер не решилась на продажу ни одной из рукописей Кафки. (Ева Хоффе утверждала, что её мать предпочитала не продавать рукописи при жизни Брода по той простой причине, что он сверялся с ними при редактировании и издании трудов Кафки).
В соответствии со статьей 873 седьмого тома Маджаллы, гражданского кодекса на базе шариатского права, который был принят в Османской империи и действовал в Государстве Израиль до принятия в 1968 году собственного законодательства о дарении, судья постановила, что акт дарения от Брода к Хоффе не был доведён до конца или завершен5. (Ева Хоффе посчитала фразу о том, что дар, который определил всю жизнь её матери, был «незавершённым», особенно сильным оскорблением.) Рукописи Кафки никогда не покидали литературное наследство Брода, вынесла решение Копельман-Пардо. Судья интерпретировала завещание Брода как объект, подчиняющийся принципу «последовательного наследования». Другими словами, поскольку Эстер Хоффе в течение своей жизни не сделала другого распоряжения, то литературное наследство Брода должно быть помещено на хранение в публичную библиотеку или в архив, как это и предусмотрено в завещании Брода. Эстер имела право решать, куда уйдёт литературное наследство, но, не воспользовавшись этим правом, она не имела права передавать это решение своим дочерям.
Это было последнее дело, которое рассматривал суд под председательством Копельман-Пардо. После двенадцати лет пребывания в должности судьи и благодаря Кафке она достигла вершины своей судебной карьеры, после чего вернулась к частной практике, основав небольшую юридическую контору, специализирующуюся в области наследования и семейного законодательства. Ева сказала мне: она подозревает, что судья ушла в отставку не из-за возраста, а потому что тогда на неё не будут сыпаться жалобы на неправильное ведение этого дела.
При жизни Брода Эстер не решилась на продажу ни одной из рукописей Кафки.
Авиад Столлман, управляющий собранием Кафки в Национальной библиотеке, приветствовал этот вердикт: «Учитывая роль библиотеки в сборе, сохранении и обеспечении доступности культурных ценностей Государства Израиль и еврейского народа, мы расцениваем это как большой успех». Марк Гельбер из Университета Бен-Гуриона, ведущий специалист по творчеству Кафки, назвал вердикт «очень мужественным решением».
На протяжении всего судебного разбирательства Ева подчёркивала, что литературное наследие Брода обладает чем-то намного большим, чем коммерческой ценностью. Отметив, что для неё эти рукописи и документы «всё равно, что собственные руки и ноги», Ева отказалась от предложения Шмулика Кассуто, готового выступить посредником для достижения компромисса. «Она предпочла рискнуть, всё или ничего», – сообщил Кассуто. Ева рассказала мне другую версию: после вердикта Копельман-Пардо она предложила продать рукописи архиву в Марбахе, а вырученную сумму передать в Национальную библиотеку. «Библиотека отказалась, – сказала она. – И они обвиняют меня в погоне за прибылью!» – заметила Ева, гордо выпрямив спину.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!