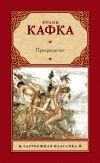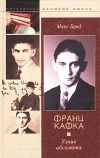Автор книги: Бенджамин Балинт
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Для Кафки евреи были народом, который передавал свой Закон из поколения в поколение, но его отец еврейского послания не понимал и передать не мог.
Франц, который всё ещё жил с родителями, не находил в себе сил, чтобы передать отцу этот акт экзорцизма в письменном виде, это обвинительное заключение в эдиповом духе (в нём почти зеркально отразилось нежное письмо Флобера своему отцу, опубликованное после смерти писателя в книге «Воспоминания, заметки и интимные мысли»). По свидетельству Брода, Франц попросил передать письмо Герману свою мать Юлию Лёви, но та благоразумно этого не сделала, вернула письмо сыну и больше никогда о нём не упоминала. Кафка спрятал письмо в ящик стола, где оно и пролежало до тех пор, пока после смерти Кафки его не обнаружил Брод.
Для Кафки евреи были народом, который передавал свой Закон из поколения в поколение, но его отец еврейского послания не понимал и передать не мог. В результате сам Кафка не смог найти себя в накопленных традициях, и с этой неудачи, похоже, и началось его автономное существование. Разрыв в традиции передачи еврейского наследия имеет что-то общее с упоминаемой в письме Кафки мыслью о том, что современная жизнь сопровождается как постепенной утратой традиционных структур власти, так и неспособностью отца передать своё слово сыну. Для Кафки современность ставит под вопрос саму идею преемственности – и наше место в этом мире.
Кафка говорил о себе как о человеке «без предков, без брака, без потомков». Однажды он заговорил с Фелицией о том, что будет препятствовать воспитанию их детей в иудейской вере. «Я должен буду рассказать детям… что из-за моего происхождения, образования, нрава, окружения у меня нет ничего общего с их верой… Ты ещё можешь дать детям хотя бы печальный ответ на их вопрос; я бы не смог сделать даже этого».
Кафе «Савой» было «с душком», его швейцар подрабатывал сутенёрством.
Кафка осмелился задать себе тот же вопрос. «Что у меня общего с евреями? – пишет он в дневнике в 1914 году. – У меня даже с самим собой мало общего»23.
Лекции, которые читал в Праге в 1909–1910 годах Мартин Бубер, не произвели на Кафку особого впечатления. «Бубер ни в жизнь не вытащил бы меня из моей светёлки, – пишет он Фелиции Бауэр. – Я его уже слышал, он производит на меня скорее занудливое впечатление»24. Впрочем, в мае 1910 года Кафка (как и Брод) обнаружил удивительный источник жизненной силы: это были выступления театральной труппы, игравшей на идише, в кафе «Савой» на Козьей площади в районе бывшего гетто в Праге. На контрасте с более «академическим» стилем группы «Бар-Кохбы», «это сборище высветило для меня подлинную сущность еврейского фольклора, – писал Брод, – ужасающую и отталкивающую, но в то же время магически привлекательную».
Так, в возрасте 28 лет, за восемь лет до написания обвинительного заключения об отмирании иудаизма у своего отца, Кафка был очарован третьеразрядной театральной труппой из восьми актеров из Львова (Лемберг), выступавшей на идише в кафе «Савой». По наводке Брода Кафка в течение следующих двух лет посмотрел в «Савое» двадцать представлений – мелодрам, сентиментальных историй, оперетт и комедий. В числе четырнадцати постановок, которые он видел, были пьеса Якова Гордина об Элише бен Абуя, еврейском еретике I века нашей эры, исторические драмы Абрама Гольдфадена «Суламифь» и ««Бар-Кохба», пьеса Зигмунда Файнмана «Еврейский вице-король». В написанном для еженедельника Selbstwehr обзоре он назвал театр «кабаре, не полностью лишённым вкуса».
Кафе «Савой» было «с душком», его швейцар подрабатывал сутенёрством. Тем не менее, как признавался Кафка, во время бурлескных представлений у него на глаза наворачивались слезы. Актёры, которые бродили по узкой сцене, отделённой от публики зелёной занавеской, порой казались самодостаточными и полностью поглощёнными собой, втянутыми в свой волшебный круг. Они словно не подозревали о своих зрителях и вели себя так, как будто театральный занавес никогда и не открывался.
В своем дневнике Кафка заполнил более ста страниц (некоторые из них действительно замечательные) описаниями игравших на идише актёров и спектаклей, которые они ставили. Выступления актеров представляли собой нечто большее, чем пафосное зрелище. Кафка был впечатлён их правдивостью и «напористостью» (urwuerchsigkeit), да и ироничной иносказательностью их игры, в которой сталкивалось высокое и низкое, библейское и простонародное. Здесь Кафка впервые встретился с признаками незаурядной и живой восточноевропейской еврейской культуры, свободной от напускного иудаизма, который он видел в своём отце.
Безусловно, это не было целью игравших на идише актеров. Они не собирались использовать сцену для наставлений или трансляции зрителям каких-то сообщений. Они не были нравоучителями и педагогами. И всё же что-то в логике театральных посланий тронуло Кафку.
«Думаю, история взаимодействий между культурами, – пишет исследователь творчества Кафки Ричи Робертсон, – знает мало примеров столь резких преобразований, как поворот отношения западных евреев к восточным евреям, произошедший в течение одного поколения». Герой рассказа Сола Беллоу «Родственники» (1975) говорит: «Где и родиться откровениям, как не в гетто, от вонючих улиц и прогорклых харчей мысли легче вознестись, воспарить до трансцендентальности. Так, естественно, обстояло дело с восточными евреями. Западные же ходили гоголем, задирали нос не хуже учёных немцев»25.
Для Кафки этот контраст между евреями востока и запада воплощали два актера труппы. Первым объектом его увлечения стала тридцатилетняя актриса и певица по имени Милли Чиссик. «Вчера её тело было красивее, чем её лицо… она смутно напоминала мне гибридное существо наподобие русалок, сирен, кентавров». Её преувеличенные театральные жесты увлекали его: «рука прижалась к глубине потрёпанного лифа, короткие рывки плеч и бедрами, выражая презрение… Её походка легко обретает что-то праздничное, потому что она имеет привычку поднимать свои длинные руки, простирать их и медленно двигать ими. В особенности когда она поёт еврейскую национальную песнь, слегка покачивая большими бедрами и параллельно бедрам водя туда-сюда согнутыми руками…»26 Когда они встретились за кулисами, Кафка не смог посмотреть Милли в глаза, отмечает он в своём дневнике, «потому что это показало бы, что я люблю её». После одного из выступлений Кафка подарил ей цветы. «Я надеялся, что букет несколько успокоит мою любовь к ней. Но этого не произошло. Её могут ублаготворить только литература или коитус».
Второй член труппы, который привлек внимание Кафки, – бедный актёр из Варшавы по имени Ицхак Лёви. Однажды вечером вместо участия в спектакле Лёви стал читать собравшимся рассказ Ицхока-Лейбуша Переца, юморески Шолом-Алейхема, а на идише хриплым голосом он прочитал поэму Хаима Нахмана Бялика о кишинёвском погроме 1903 года «Сказание о погроме» (In Shkhite Shtot). «После декламации, – писал Кафка, – уже по дороге домой, я чувствовал собранными все свои способности»27. Много лет спустя Исаак Башевис-Зингер, писавший на идише, в своём рассказе «Друг Кафки» описывает встречу с актёром, прототипом которого послужил Лёви. «[Кафка] зашёл за кулисы, – рассказывает пожилой актёр повествователю, – и как только я увидел его, то понял, что передо мной гений. Я почувствовал этот запах, как кошка чует мышь»28.
Герман Кафка, как человек, самостоятельно выбившийся в люди, одолеваемый бедными родственниками, невысоко ставил новых еврейских друзей своего сына, прибывших из Восточной Европы. Он считал Лёви бродягой, сомнительным Ostjude (восточноевропейским евреем). Когда Кафка пригласил Лёви домой, то Герман «с саркастической улыбкой потряс руку гостю, скорчил гримасу и начал говорить о том, что теперь в дом пускают кого угодно».
В недоставленном письме Кафка упрекает отца в том, что он общается с актёром с презрением.
В недоставленном письме Кафка упрекает отца в том, что он общается с актёром с презрением. «Не зная его, Ты сравнил его с каким-то отвратительным паразитом, не помню уже с каким». Здесь Кафка использует то же слово Ungeziefer, что он использовал для описания своего персонажа Грегора Замзы в начале новеллы «Превращение»29, которую он написал в конце 1912 года и опубликовал с помощью Брода в октябре 1915 года: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое»30. В 1942 году Лёви будет депортирован в Треблинку. «Из-за меня иудаизм стал Тебе отвратителен, еврейские сочинения – нечитаемы, Тебя „тошнило от них“». Если раньше отец сделал иудаизм невозможным для сына, то теперь сын сделал иудаизм невозможным для отца.
Идишский театр научил сына, что воля отца относительно иудаизма не должна быть первым и последним словом; он открыл Кафке ещё один способ мыслить по-еврейски, который составлял альтернативу отцовскому патернализму.
Кафка знал от своего отца, как снисходительно поглядывали представители ассимилированной еврейской буржуазии на говорящих на идише.
По мере продолжения знакомства с театром голос его отца становился слышен всё слабее, и Кафка начал питаться тем, в чём ему отказывал отец. Он подписался на сионистские периодические издания Die Jüdische Rundschau («Еврейское обозрение») и Selbstwehr («Самооборона»). Он прочитал Библию в переводе Мартина Лютера, познакомился с талмудической литературой через «Организм еврейства» Якоба Фромера (Der Organismus des Judentums, 1909) и «с нетерпением и счастьем» поглотил «Историю евреев» Генриха Греца (1888–1889). «Там и сям мне приходилось останавливаться и отдыхать, чтобы дать моему еврейству собраться воедино», – говорил он. Кафка также читал о языке идиш по-французски. Он впитал в себя историю идишской литературы, написанную Мейером Пинесом (Histoire de la littérature judéo-allemande, 194). Закончив в январе 1912 года чтение этой книги, Кафка записал своём дневнике, что он прочитал «пятьсот страниц, причем жадно, подобные книги я ещё никогда не читал с такой основательностью, быстротой и радостью»31. Он переписал в свой дневник несколько отрывков из книги, в том числе эти строки на идише:
Wos mir seinen, seinen mir
Ober jueden seinen mir.
Какие есть, такие мы,
Но евреи всё же мы32.
Кафка знал от своего отца, как снисходительно поглядывали представители ассимилированной еврейской буржуазии на говорящих на идише; сами они всеми силами избегали этого, как они говорили, «гермафродитного» жаргона, смеси немецкого и иврита. В частности, Генрих Грец в «Истории евреев» называл такую речь «невнятным бормотанием» (lallendes Kauderwelsch).
Взволновавшая его встреча с идишем изменила отношения Кафки с немецким как с родным языком, унаследованным от матери (Muttersprache), и вынудила его решать, владеет ли он немецким языком или это немецкий владеет им. «Вчера, – записал он в дневнике 24 октября 1911 года, – я подумал, что потому не всегда любил мать [die Mutter] так, как она того заслуживала и как я мог бы, что мне мешал немецкий язык. Еврейская мать – не Mutter»33. Он любил свою мать на Muttersprache, языке, который, несмотря на приветствуемую Кафкой точность, ложно выражал эту любовь. В одном из писем к Броду Кафка ссылается на «немецкий, который вложили в наши уши наши ненемецкие матери». В другом письме он рассматривает использование немецкого языка евреями как «откровенную, или скрытую, или, возможно, мазохистскую узурпацию чужой собственности fremde Besitz], которая была не приобретена, но украдена или относительно быстро приспособлена к делу, но остаётся чужой собственностью, даже если на это не может указать ни одна языковая ошибка»34. Язык представлял собой наследство, на которое он не мог претендовать в полной мере.
Но сейчас Кафку волновало другое, более скромное лингвистическое наследство. По предложению своего нового «незаменимого друга» Ицхака Лёви, которого он пытался уговорить эмигрировать в Палестину, Кафка убедил Ассоциацию «Бар-Кохба» спонсировать проведение вечера декламации на идише. Он должен был проходить в банкетном зале Еврейской ратуши Праги (Jüdisches Rathaus), расположенной напротив Староновой синагоги (Altneu Synagogue) на улице Майзелова. Организовал и вёл вечер сам Кафка, который в своём дневнике делился ожиданиями, что «доклад вылетит из меня как пулемётная очередь».
Так прошло первое и единственное публичное выступление Кафки. Его отец Герман прийти на него не соизволил.
Вечером в воскресенье 18 февраля 1912 года Кафка вышел на сцену, став посредником между публикой перед ним и Лёви, ждавшим позади за кулисами. Вступительное слово не должно было стать выступлением на идише или на немецком языке о языке идиш. В своей речи (которую Макс Брод опубликовал в 1953 году под названием «Речь о идише»)35 Кафка советовал своей немецкоязычной аудитории не бояться своего еврейского прошлого, скрывающегося за фасадом уравнивания в правах:
Мне хотелось бы, чтобы здесь проявился [эффект от чтения стихов восточных еврейских поэтов] – если он этого заслуживает. Но этого не может произойти до тех пор, пока многие из вас так боятся идиша, что это почти можно видеть по вашим лицам… Вы понимаете идиш гораздо лучше, чем вам кажется. И как только идиш вами овладевает, то оказывается, что идиш есть всё: слово, хасидская мелодия и сама суть этого восточно-еврейского актёра [Лёви]. Вы больше не вернётесь к своему прежнему самодовольству. В этот момент вы так сильно почувствуете единство людей, говорящих на идише, что испугаетесь – но не идиша, а самих себя.
Впоследствии Кафка отмечал «гордое, неземное чувство», которое сопровождало его, когда он говорил о Mameloshn, родном языке. На этот раз Кафка, глядя на дело рук своих, увидел, что это хорошо. Никогда, отмечает французский эссеист и переводчик Марта Робер, Кафка, который обычно так неловко чувствовал себя в положении еврея, пишущего на немецком, «не был настолько уверен в своём таланте, не был так горд лёгкостью своих движений и действий». Так прошло первое и единственное публичное выступление Кафки. Его отец Герман прийти на него не соизволил.
Вспомним, однако, что вердикты израильских судов затрагивали не только отношение Кафки к еврейству, но и его отношение к еврейскому государству, равно как и отношение государства к нему.
7. Последний сбор: Кафка в Израиле
Я стал живой памятью.
Дневник Кафки, 15 октября 1921 года1
Хранилище в Оффенбахе, Американская зона оккупации, Германия, июль-август 1946 года
Помимо юридических следствий, израильский судебный процесс резко изменил двойственное отношение страны к культуре диаспоры. На протяжении всего этого разбирательства государство Израиль действовало так, будто оно может претендовать на любой еврейский культурный артефакт2, даже если он был создан ещё до образования Израиля. Дело подали так, будто теперь всё еврейство находит свою кульминацию в еврейском государстве, как будто еврейская культура побуждалась телеологическим переходом к Иерусалиму. Во время судебного разбирательства Национальная библиотека изображала Кафку как основателя современных еврейских культурных достижений, а сам Израиль – как наследника достижений диаспоры. Как сказал председатель правления Национальной библиотеки Давид Блумберг, «библиотека не собирается отказываться от культурных ценностей, принадлежащих еврейскому народу».
Если Израиль является страной, куда должны вернуться евреи, то сионистский «сбор изгнанников» связан не только с физическим возвращением евреев на эту землю, но и со стремлением сделать её убежищем и для еврейских книг – вот стремление, которое сопровождало Национальную библиотеку с самого её начала работы.
Спустя пять лет после основания в 1925 году Еврейского университета Еврейская национальная и университетская библиотека (JNUL), как её тогда называли, переехала в новое здание на горе Скопус, то есть на вершине холма в восточном Иерусалиме. По закону от 1933 года в этой библиотеке должны депонироваться по две копии каждой публикации, напечатанной в стране. В 1948 году, когда вспыхнула Война за независимость Израиля, гора Скопус оказалась отрезанной от остальной части Иерусалима, и библиотека была вынуждена переместить свои основные фонды в другое место на Святой Земле – здание в Западном Иерусалиме, принадлежащее ордену францисканцев. Двенадцать лет спустя библиотека была перенесена в новое впечатляющее здание в кампусе Гиват-Рам Еврейского университета, где и находится по настоящее время. В 2007 году Кнессет принял Закон о Национальной библиотеке, согласно которому JNUL была переименована в Национальную библиотеку Израиля.
Национальная библиотека изображала Кафку как основателя современных еврейских культурных достижений, а сам Израиль – как наследника достижений диаспоры.
В наши дни посетителей библиотеки встречает потрясающее сочетание насыщенного синего и сияющего красного цветов. Это витраж Мордехая Ардона, одна из самых крупных работ мастера. Шедевр Ардона посвящён пророчеству Исаии о мире: «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима… И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исаия 2:3,4). Центральная часть композиции превращает стену Старого города в Свиток Мертвого моря с текстом Книги пророка Исаии, как будто показывая, что в Иерусалиме слова более реальны, чем камни.
Мы должны стать главной принимающей страной для тех оставшихся в живых людей, которые сумели избежать фашистских преследований…
До тех пор, пока не сбудется пророчество Исаии, библиотека призвана служить убежищем для культуры, которая едва выжила в кошмаре истребления. Среди еврейских ценностей, разграбленных Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR, государственное агентство по разграблению, образованное в нацистской Германии в июле 1940 года), были крупные библиотеки, а также архивы. Некоторые из ценностей были предназначены для будущих антиеврейских музеев, посвящённых разрушенной культуре. По окончании войны миллионы еврейских книг из разграбленных собраний были разбросаны по всей Европе. Около 400000 книг, которые были отобраны у французских евреев, были обнаружены в замке Танценберг в земле Каринтия, Австрия3. В Вене 330000 конфискованных книг (в том числе часть известной библиотеки Еврейского научного института YIVO в Вильно) хранились в здании бывшего банка, а десятки тысяч томов, украденных у австрийских евреев, оказались в подвале дворца Хофбург. Бывшая центральная синагога в Триесте, Италия, превратилась в склад для книг, отобранных у еврейских эмигрантов. В Берлине сотни тысяч томов хранились в Главном управлении имперской безопасности (Reichssicherheitshauptamt)4.
В 1946 году журналист Роберт Уолш, отправленный в Германию еврейской газетой Haaretz, сообщал, что в городе Оффенбахе, недалеко от Франкфурта, пятиэтажное железобетонное здание, принадлежащее концерну Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie, превращено в крупнейшее в мире хранилище еврейских книг, где рабочие сортируют по тридцать тысяч книг в день. Реституция этих ценностей создала множество политических, административных и дипломатических трудностей, но была реализована ещё и потому, что опиралась на давнюю еврейскую традицию выкупать книги, почти как если бы они были людьми, попавшими в плен.
В 1945 году несколько немецких эмигрантов, прибывших в Иерусалим (в том числе Хуго Бергман, Мартин Бубер, Гершом Шолем и Иехуда Магнес), учредили в Национальной библиотеке «Комитет по спасению сокровищ диаспоры». Комитет (называемый на иврите Otzrot Ha-Golah, «Сокровища диаспоры») выразил мнение, что «требование исторической справедливости заключается в том, что Еврейский университет, Еврейскую национальную и Университетскую библиотеки в Иерусалиме нужно сделать хранилищем сохранившихся произведений еврейской культуры, которые, к счастью, были спасены для мира» и что Еврейский университет должен «рассматриваться в этой связи как представитель еврейского народа». Иехуда Магнес, президент Еврейского университета, добавил: «Мы должны стать главной принимающей страной для тех оставшихся в живых людей, которые сумели избежать фашистских преследований… Но точно так же мы должны заботиться о сохранении духовных благ, которые остались от уничтоженных немецких евреев».
В следующем году библиотека отправила в Европу для спасения книг и рукописей Гершома Шолема, выдающегося знатока Каббалы, директора отделения еврейской литературы Национальной библиотеки (эту должность он получил с помощью друга Кафки Хуго Бергмана). Шолем сделал всё возможное, чтобы вернуть народу сохранившиеся фрагменты памяти. Он был обеспокоен тем, что если решение этой задачи останется на усмотрение союзников, то книги окажутся не в Иерусалиме, а в Нью-Йорке, где известные ученые Ханна Арендт, Барон Сало Уиттмайер, Гораций Каллен и Макс Вайнрайх уже создали Комиссию по восстановлению еврейской культуры в Европе (Commission on European Jewish Cultural Reconstruction)5.
В Праге Шолем просмотрел список, в котором фигурировали тридцать тысяч книг, привезённых из концлагеря Терезин. Во время посещения хранилища в Оффенбахе в июле и августе 1946 года ему удалось спасти содержимое многих неразобранных ящиков: он проставил поддельное имя в счёте-фактуре и вступил в сговор с американским военнослужащим-евреем, чтобы тот переправил эти ящики на подобии Ноева ковчега из Оффенбаха в Париж, а оттуда в Иерусалим. И хотя союзники тогда подали официальную дипломатическую жалобу на его действия, книги из Оффенбаха и по сей день остаются в Национальной библиотеке Израиля. Их спасение и сохранение делает утраченное более осязаемым.
Если сионизм предполагает «сбор изгнанников» и их культуры, утверждая, что предметы еврейской культуры, созданные в диаспоре, являются её собственностью, то еврейское государство базируется на совершенно противоположном принципе, на самоочищении от атавизмов диаспоры. Государство исходит из того, что только в Израиле – и только на иврите – еврей может снова войти в историю как еврей. Сионисты же видели диаспору как падшую и нуждающуюся в искуплении, как нечто, что нужно преодолеть.
Так что же объясняет ту настойчивость, с которой Национальная библиотека в течение восьми лет вела юридические бои за «сбор» квинтэссенции культуры диаспоры, которая погибла за четверть века до того, как на свет появился Израиль? Проблема значительно углубляется в свете того факта, что адвокаты из Марбаха не постеснялись указать на то, что Кафка никогда не был частью израильского канона или проекта национального возрождения. В Израиле не существовало культа Кафки, как это было в Германии, Франции, Соединённых Штатах и в других странах.
Государство исходит из того, что только в Израиле – и только на иврите – еврей может снова войти в историю как еврей.
Во время судебного разбирательства архив Марбаха тонко изобразил Израиль как сторону, опоздавшую к созданию индустрии под названием «Кафка». Израиль не может похвастаться ни центром по изучению Кафки, ни значительной школой по интерпретации его произведений. Он также не присуждает премию Кафки (как это делают в Праге, где среди лауреатов числятся Элиас Канетти, Филип Рот, Иван Клима, Эльфрида Елинек, Харуки Мураками и Амос Оз). До сих пор ни один израильский город не назвал в честь Кафки улицу – в отличие от Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Ганновера, Нюрнберга, Дортмунда, Кёльна, Карлсруэ, Билефельда, Ботропа, Мюрица, Вены и многих других6.
Не так много израильских литературных критиков писало о Кафке, а когда они это делали, то, как правило, подчёркивали в его работах еврейские компоненты7. (При этом благодаря доминирующему влиянию Гершома Шолема его читали скорее не как прозаика, а как богослова). В апреле 1969 года, спустя несколько месяцев после смерти Брода, Национальная библиотека по предложению Посольства Германии в Тель-Авиве провела в Иерусалиме выставку, посвящённую Кафке. Позднее под кураторством немецкого ученого Клауса Вагенбаха такие выставки проходили в Берлине и Мюнхене. В то время директор Национальной библиотеки Иссахар Джоэл говорил об этих мероприятиях так: «Мы посчитали нужным обогатить выставку, добавив ряд экспонатов, которые сделают еврейскую сторону Кафки более выраженной, чем в оригинале». Первая конференция, посвящённая творчеству Кафки, прошла в Израиле лишь в год столетия со дня его рождения, в 1983 году, и также была инициирована и финансировалась не израильтянами, а посольством Австрии в Тель-Авиве. А первая конференция о Кафке в Израиле, организованная собственно израильтянами (Еврейский университет, Институт Лео Бэка в Иерусалиме и Университет Бен-Гуриона), состоялась только в 1991 году.
Репарации позволили новорождённому государству финансировать крупные инфраструктурные проекты.
Ещё в конце 1920-х годов шотландские переводчики Уилла и Эдвин Мюир представили Кафку англоязычным читателям8. На материковой Европе переводы работ Кафки также появились довольно рано9. В Израиле же романы Кафки были переведены на иврит по частям и относительно поздно, и произошло это главным образом заботами Залмана Шокена10. Биография Кафки работы Брода, опубликованная на немецком языке в 1937 году, вышла в свет на иврите только в 1933 году в переводе Эдны Корнфельд.
В Германии полное собрание сочинений Кафки было опубликовано ещё до Второй мировой войны, а в период между 1982 и 2004 годами международная команда составила немецкое критическое издание работ Кафки (оно было опубликовано издательством S. Fischer Verlag при финансовой поддержке правительства Германии). Первое французское издание работ Кафки под редакцией Марты Робер вышло в восьми томах между 1963 и 1965 годами. Первое издание собрания сочинений писателя на испанском языке появилось в 1960 году (перевод Давида Вогельмана и др.) В 1978 году вышло семитомное собрание сочинений Кафки на сербохорватском языке. А вот в Израиле до сих пор нет полного собрания сочинений Кафки. (На данный момент в Национальной библиотеке в Иерусалиме нет и ни одного экземпляра немецкого критического издания работ Кафки).
Есть мнение, что одной из причин прохладного «приёма» Кафки в еврейском государстве является некоторое сопротивление немецкому языку и литературе, которые стали ассоциироваться с нацистским варварством.
Когда в 1942 году Арнольда Цвейга (ещё одного знаменитого писателя, которого в современном Израиле едва ли не игнорируют) пригласили выступить в Тель-Авиве на немецком языке в кинотеатре Esther, его выступление было сорвано правыми активистами. В то время Цвейг вместе с Вольфгангом Юрграу редактировал местный еженедельник Orient, издававшийся на немецком языке11. Среди участников этого небольшого кружка Exilpresse, т. е. прессы на немецком языке в изгнании, был и Макс Брод. Еженедельник просуществовал недолго: в феврале 1943 года поджог уничтожил типографию Lichtheim Press в Хайфе, в которой издавался Orient.
10 сентября 1932 года, после напряжённых переговоров, министр иностранных дел Израиля Моше Шарет подписал с немецким канцлером Конрадом Аденауэром соглашение о репарациях между Израилем и Западной Германией. Репарации позволили новорождённому государству финансировать крупные инфраструктурные проекты, например, создание всеизраильской водопроводной системы. При этом, несмотря на то что израильская экономика находилась в тяжёлом положении, а население страны подвергалось мерам строгой экономии и нормированию продовольствия, многие израильтяне во главе с будущим премьер-министром Менахемом Бегином яростно выступали против того, чтобы принимать от немцев «кровавые деньги».
Но даже те, кто принимал репарации, отказывались восстанавливать культурные связи, а израильское правительство наложило жесткие ограничения на культурные, литературные и образовательные контакты с Германией. Так, израильский Совет по наблюдению за фильмами и театральными постановками запретил внутри страны просмотр фильмов на немецком языке (комитет по цензуре был распущен только в 1989 году, когда Германия и Израиль подписали протокол о культурных связях). Министр внутренних дел Израиля в своем выступлении в Кнессете 16 июля 1958 года отмечал:
По мнению Совета, любое исполнение на немецком языке является оскорбительным для чувств израильской общественности, которая не может забыть о том, что это язык нации, которая совсем недавно варварски уничтожила треть еврейского народа.
В 1965 году канцлер ФРГ Людвиг Эрхард и премьер-министр Израиля Леви Эшколь установили дипломатические отношения между двумя странами и договорились об обмене послами, но и после того сопротивление продолжалось. Так, в некоторых кибуцах запрещалось использование немецкого языка. Когда в марте 1967 года и в ноябре 1971 года в Израиль приезжал немецкий автор Гюнтер Грасс, то его публичные выступления были сорваны протестующими. По словам Ави Примора, бывшего посла Израиля в Берлине, «израильские демонстранты не целились лично в Грасса, их гнев не имел никакого отношения к его произведениям. Они возражали против стремления Германии установить культурные связи с Израилем».
Нет никаких сомнений в том, что евреи пытались вступить в диалог с немцами со всех возможных точек зрения и позиций.
Да, для некоторых израильтян это случилось слишком рано. «Мой родной язык, как считается, был немецким, – писал в 1997 году израильский писатель Аарон Аппельфельд. – И это язык убийц моей матери. Как могут люди снова говорить на языке, залитом кровью евреев?»12
В 1964 году Гершома Шолема из Еврейского университета пригласили внести свой вклад в «немецко-еврейский диалог» и принять участие в праздновании 90-летнего юбилея поэтессы и эссеистки Маргарете Зусман. В его саркастическом ответе на это приглашение говорилось:
Нет никаких сомнений в том, что евреи пытались вступить в диалог с немцами со всех возможных точек зрения и позиций: то требовать, то взывать и умолять; то ползать на коленях, то открыто неповиноваться; то убедительно демонстрируя все тона чувства собственного достоинства, то с беззаботным отсутствием самоуважения… Но никто не ответил на эти призывы… Безграничный экстаз еврейского энтузиазма никогда не встречал ответа ни в каком тоне, который мог бы считаться продуктивным ответом евреям как евреям, то есть в тоне, который бы дал понять евреям, что они должны были делать, а не только то, от чего им нужно отказаться. Так к кому же тогда обращались евреи в этом знаменитом немецко-еврейском диалоге? Они обращались только к себе самим13.
С момента основания в 1925 году Еврейского университета в нём преподавали многие немецкоязычные ученые, например, тот же Шолем, но факультета немецкой литературы там не было до 1973 года. В 1934–1954 годах в университете не преподавался немецкий язык. (Первый в Израиле Институт немецкой истории Тель-Авивского университета, позже названный Институтом Minerva, был открыт только в октябре 1971 года при поддержке Фонда компании Volkswagen.) Первая университетская кафедра немецкого языка и литературы была основана в 1977 году – и также с финансированием из того же фонда. Только в 2001 году в Университете Хайфы был основан Институт исследований современной немецкой истории и общества имени Герда Буцериуса, финансируемый гамбургским фондом Zeit. Даже сейчас дело обстоит так, что если бы не немецкое финансирование, то в Израиле факультеты по изучению Германии и подобные организации гуманитарного профиля просто бы завяли. Пример: стипендия Мартина Бубера для исследователей, которые работают в области гуманитарных наук, учреждённая в 2010 году в Еврейском университете, финансируется Федеральным министерством образования и научных исследований Германии.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?