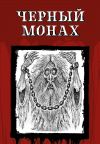Читать книгу "Пелагия и черный монах"
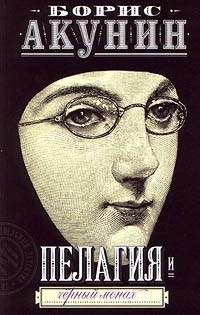
Автор книги: Борис Акунин
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ах, нечист, нечист! – перебил добряка Матвей Бенционович. – Куда более нечист, чем если бы спьяну побывал в непотребном доме. То было бы просто свинство, телесная грязь, а тут я совершил предательство, самое настоящее предательство! И как быстро, как легко – в минуту!
Лев Николаевич внимательно посмотрел на собеседника и задумчиво сказал:
– Нет, это еще не настоящее предательство, не высшего разбора.
– А что же тогда, по-вашему, настоящее?
– Настоящее, сатанинское предательство – это когда предают впрямую, глядя в глаза, и получают от своей подлости особенное наслаждение.
– Ну уж, наслаждение, – махнул рукой Бердичевский. – А что до подлости, то я и есть самый натуральный подлец. Теперь знаю это про себя и должен буду со знанием этим жить… Эх, – встрепенулся он. – Если б можно было искупить ту минуту, смыть ее с души, а? Я бы на любое испытание, на любую муку пошел, только бы снова почувствовать себя… – Он хотел сказать «благородным человеком», но постеснялся и сказал просто. – …Человеком.
– Испытывать себя полезно и даже необходимо, – согласился Лев Николаевич. – Я так думаю, что…
– Стойте! – перебил его товарищ прокурора, охваченный внезапной идеей. – Стойте! Я знаю, через какое испытание я должен пройти! Скажите, ради Бога скажите, где находится тот дом, где жил бакенщик? Знаете?
– Конечно, знаю, – удивился Лев Николаевич. – Это вон туда, вдоль берега, до Постной косы, а после налево. Версты две будет. Да только зачем вам?
– А вот зачем…
И Бердичевский – видно, такая уж нынче была ночь – выдал сердечному другу все следственные тайны: рассказал и про Алешу Ленточкина, и про Лагранжа, и, разумеется, про свою миссию. Слушатель только ахал и головой качал.
– Клянусь вам, – сказал в заключение Матвей Бенционович и поднял руку, как во время произнесения присяги на суде, – что я немедленно, сейчас же, отправлюсь к этой чертовой избушке совсем один, дождусь полуночи и войду туда, как вошли туда Алексей Степанович и Феликс Станиславович. Наплевать, если там ничего не окажется, если всё суеверие и враки. Главное, что я свой страх преодолею и уже тем собственное уважение верну!
Лев Николаевич вскочил и с восторгом воскликнул:
– Как чудесно вы это сказали! Я на вашем месте поступил бы точно так же. Только знаете что… – Он порывисто схватил Бердичевского за локоть. – Нельзя вам туда одному идти. Очень уж страшно. Возьмите меня с собой. Нет, правда! Давайте вдвоем, а?
И моляще заглянул Матвею Бенционовичу в глаза, так что у того стиснулась грудь и снова потекли слезы.
– Благодарю вас, – сказал товарищ прокурора с чувством. – Я ценю ваш порыв, но сердце подсказывает мне, что я должен войти туда один. Иначе ничего не выйдет, да и настоящего искупления не получится. – Он выдавил из себя улыбку и даже попробовал пошутить. – К тому же вы существо столь ангельского образа, что нечистая сила вас может застесняться.
– Хорошо-хорошо, – закивал Лев Николаевич. – Я не стану мешать. Я знаете что, я только провожу вас туда, а сам в сторонке встану. В пятидесяти шагах, даже в ста. Но проводить провожу. И вам будет не так одиноко, и мне спокойнее. Мало ли что…
Бердичевский ужасно обрадовался этой идее, которая, с одной стороны, не девальвировала предполагаемого искуса, а с другой, все же сулила некую, пусть даже иллюзорную поддержку. Обрадовался – и тут же рассердился на себя за эту радость.
Нахмурившись, сказал:
– Не в ста шагах. В двухстах.
* * *
Расстались на мостике через быструю узкую речку, которой оставалось течь до озера не более двадцати саженей.
– Вон он, домик бакенщика, – показал Лев Николаевич на темный куб, что посверкивал под луной своей белой соломенной крышей. – Так мне никак с вами нельзя?
Бердичевский покачал головой. Говорить не решался, потому что зубы были плотно стиснуты – имелось опасение, что если дать им волю, то начнут постыдно клацать.
– Ну, Бог в помощь, – взволнованно сказал верный секундант. – Я буду ждать вот здесь, у Прощальной часовни. Если что – кричите, я сразу прибегу.
Вместо ответа Матвей Бенционович неловко обнял Льва Николаевича за плечи, на секунду прижал к себе и, махнув рукой, зашагал к избушке.
До полуночи оставалось две минуты, но и идти было всего ничего – даже не двести шагов, а самое большее полтораста.
Глупости какие, мысленно говорил себе товарищ прокурора, вглядываясь в избушку. И ведь знаю наверное, что ничего не будет. Не может ничего быть. Войду, постою там, да и выйду, чувствуя себя полным остолопом. Хорошо хоть свидетель такой добросердечный. Кто другой на смех бы поднял, ославил бы на весь свет. Мол, заместитель губернского прокурора шастает на свидания с нечистой силой и еще от страха трясется.
Побуждаемая самолюбием, в душе шевельнулась отвага. Теперь нужно было ее бережно, как трепещущий на ветру огонек, распалить, не дать угаснуть.
– Ну-те-с, ну-те-с, – протянул Бердичевский, ускоряя шаг.
Перед криво заколоченной дверью все же остановился и мелко, чтоб сзади не было видно, перекрестился. Раздеваться догола, конечно, нелепость, решил Матвей Бенционович. Все равно формулу из средневекового трактата он толком не помнил. Ну да ничего, как-нибудь обойдется и без формулы. Дотронуться до нацарапанного на стекле креста и сказать что-то такое про уговор архангела Гавриила с Лукавым. Иди сюда, дух святой, – так, кажется. А если начнутся неприятности, нужно поскорей крикнуть по-латыни, что веруешь в Господа, и всё отличным образом устроится.
Ерничанье прибавило следователю храбрости. Он взялся за край двери, напрягся что было сил и потянул на себя.
Можно было, оказывается, и не напрягаться – створка подалась легко.
Ступая по скрипучему полу, Матвей Бенционович попытался определить, где окно. Замер в нерешительности, но в это время месяц, на короткое время спрятавшийся за тучку, снова озарил небосвод, и слева высветился серебристый квадрат.
Следователь повернул шею, подавился судорожным вскриком.
Там кто-то стоял!
Недвижный, черный, в остроконечном куколе!
Нет, нет, нет, – замотал головой Бердичевский, чтобы отогнать видение. Словно не выдержав тряски, голова вдруг взорвалась невыносимой болью, пронзившей и череп, и самое мозг.
Потрясенное сознание покинуло Матвея Бенционовича, он больше ничего не видел и не слышал.
Потом, неизвестно через сколько времени, чувства вернулись к несчастному следователю, однако не все – зрение возвращаться так и не пожелало. Глаза Бердичевского были открыты, но ничего не видели.
Он прислушался. Услышал частый-частый стук собственного сердца, даже хлопанье ресниц – вот какая стояла тишина. Втянул носом запах пыли и стружек. Болела голова, затекло тело – значит, жив.
Но где он? В избушке?
Нет. Там было темно, но не так, не абсолютно темно – будто в гробу.
Матвей Бенционович хотел приподняться – ударился лбом. Пошевелил руками – локтям было не раздвинуться. Согнул колени – тоже уперлись в твердое.
Тут товарищ прокурора понял, что он и в самом деле лежит в заколоченном гробу, и закричал.
Сначала не очень громко, как бы еще не утратив надежды:
– А-а! А-а-а!
Потом во все легкие:
– А-а-а-а!!!!
Выкрикнув весь воздух, захлебнулся рыданием. Мозг, приученный к логическому мышлению, воспользовался краткой передышкой и раскрыл Бердичевскому одну загадку – увы, слишком поздно. Так вот почему Лагранж стрелялся левой рукой, снизу вверх! Иначе ему в гробу револьвер было не вывернуть. Кое-как вытянул свой длинноствольный «смит-вессон», пристроил к сердцу, да и выпалил.
О, какая лютая зависть к покойному полицмейстеру охватила Матвея Бенционовича! Каким облегчением, каким невероятным счастьем было бы иметь под рукой револьвер! Одно нажатие спуска, и кошмару конец, во веки веков.
Глотая слезы, Бердичевский бормотал: «Маша, Машенька, прости… Я снова тебя предал, и еще хуже, чем там, на дороге! Я бросаю тебя, бросаю одну…»
А мозг продолжал свою работу, теперь уже никому не нужную.
Вот и с Ленточкиным понятно. То-то он после гроба никаких крыш и стен не выносит – вообще никакого стеснения для тела.
Рыдания оборвались сами собой – это Бердичевский дошел до следующего открытия.
Но Ленточкин каким-то образом из гроба выбрался! Пусть сумасшедший, но живой! Значит, надежда есть!
Молитва! Как можно было забыть про молитву!
Однако латынь, казалось, твердо вызубренная за годы учебы в гимназии и университете, от ужаса вся стерлась из памяти погибающего Матвея Бенционовича. Он даже не мог вспомнить, как по-латыни «Господи»!
И духовный сын владыки Митрофания заорал по-русски:
– Верую, Господи, верую!!!
Забился в деревянном ящике, уперся в крышку лбом, руками, коленями – и свершилось чудо. Верхняя часть гроба с треском отлетела в сторону, Бердичевский сел, хватая ртом воздух, огляделся по сторонам.
Увидел все ту же избушку, после кромешной тьмы показавшуюся необычайно светлой, разглядел в углу и печку, и даже ухват. И окно было на месте, только страшный силуэт из него исчез.
Приговаривая «Верую, Господи, верую», Бердичевский перелез через бортик, грохнулся на пол – оказалось, что гроб стоял на столе.
Не обращая внимания на боль во всем теле, задвигал локтями и коленями, проворно пополз к двери.
Перевалился через порог, вскочил, захромал к речке.
– Лев! Николаевич! На помощь! Спасите! – хрипло вопил товарищ прокурора, боясь оглянуться – что, если сзади несется над землей черный, в остром колпаке? – Помогите! Я сейчас упаду!
Вот и мостик, вот и ограда. Лев Николаевич обещал ждать здесь.
Бердичевский метнулся вправо, влево – никого.
Этого просто не могло быть! Не такой человек Лев Николаевич, чтобы взять и уйти!
– Где вы? – простонал Матвей Бенционович. – Мне плохо, мне страшно!
Когда от стены часовни бесшумно отделилась темная фигура, измученный следователь взвизгнул, вообразив, что кошмарный преследователь обогнал его и поджидает спереди.
Но нет, судя по контуру, это был Лев Николаевич. Всхлипывая, Бердичевский бросился к нему.
– Слава… Слава Богу! Верую, Господи, верую! Что же вы не отзывались? Я уж думал…
Он приблизился к своему соратнику и забормотал:
– Я… Я не знаю, что это было, но это было ужасно… Кажется, я схожу с ума! Лев Николаевич, милый, что же это? Что со мной?
Здесь молчавший повернул лицо к лунному свету, и Бердичевский растерянно умолк.
В облике Льва Николаевича произошла странная метаморфоза. Сохранив все свои черты, это лицо неуловимо, но в то же время совершенно явственно переменилось.
Взгляд из мягкого, ласкового, стал сверкающим и грозным, губы кривились в жестокой насмешке, плечи распрямились, лоб пересекла резкая, как след кинжала, морщина.
– А то самое, – свистящим голосом ответил неузнаваемый Лев Николаевич и повертел пальцем у виска. – Ты, приятель, того, кукарекнулся. Ну и идиотская же у тебя физиономия!
Матвей Бенционович испуганно отшатнулся, а Лев Николаевич, правая щека которого дергалась мелким тиком, ощерил замечательно белые зубы и трижды торжествующе прокричал:
– Идиот! Идиот! Идиот!
Лишь теперь, самым уголком стремительно угасающего сознания, Бердичевский понял, что он, действительно, сошел с ума, причем не только что, в избушке, а раньше, много раньше. Явь и реальность перемешались в его больной голове, так что теперь уже не разберешь, что из событий этого чудовищного дня произошло на самом деле, а что было бредом заплутавшего рассудка.
Втянув голову в плечи и приволакивая ногу, безумный чиновник побежал по лунной дороге, куда глядели глаза, и всё приговаривал:
– Верую, Господи, верую!
Часть вторая
Богомолье г-жи Лисицыной
Дворянка Московской губернии
Надо же так случиться, чтоб прямо перед тем, как прийти второму письму от доктора Коровина, в самый предшествующий вечер, между архиереем и сестрой Пелагией произошел разговор о мужчинах и женщинах. То есть, на эту тему владыка и его духовная дочь спорили частенько, но на сей раз, как нарочно, столкнулись именно по предмету силы и слабости. Пелагия доказывала, что «слабым полом» женщин нарекли зря, неправда это, разве что в смысле крепости мышц, да и то не всех и не всегда. Увлекшись, монахиня даже предложила епископу сбегать или сплавать наперегонки – посмотреть, кто быстрее, однако тут же опомнилась и попросила прощения. Митрофаний, впрочем, нисколько не рассердился, а засмеялся.
– Хорошо бы мы с тобой смотрелись, – стал описывать преосвященный. – Несемся сломя голову по Большой Дворянской: рясы подобрали, ногами сверкаем, у меня борода по ветру веником, у тебя патлы рыжие полощутся. Народ смотрит, крестится, а нам хоть бы что – добежали до реки, бултых с обрыва – и саженками, саженками.
Посмеялась и Пелагия, однако от темы не отступилась.
– Нет сильного пола и нет слабого. Каждая из половин человечества в чем-то сильна, а в чем-то слаба. В логике, конечно, изощренней мужчины, от этого и большая способность к точным наукам, но здесь же и недостаток. Вы, мужчины, норовите всё под гимназическую геометрию подогнать и, что у вас в правильные фигуры да прямые углы не всовывается, от того вы отмахиваетесь и потому часто главное упускаете. И еще вы путаники, вечно понастроите турусов на колесах, где не надо бы, да сами под эти колеса и угодите. Еще гордость вам мешает, больше всего вы страшитесь в смешное или унизительное положение попасть. А женщинам это все равно, мы хорошо знаем, что страх этот глупый и ребяческий. Нас в неважном сбить и запутать легче, зато в главном, истинно значительном, никакой логикой не собьешь.
– Ты к чему это все говоришь? – усмехнулся Митрофаний. – Зачем вся твоя филиппика? Что мужчины глупы и надобно власть над обществом у них отобрать, вам передать?
Монахиня ткнула пальцем в очки, съехавшие от запальчивости на кончик носа.
– Нет, владыко, вы совсем меня не слушаете! Оба пола по-своему умные и глупые, сильные и слабые. Но в разном! В том и величие замысла Божия, в том и смысл любви, брака, чтоб каждый свое слабое подкреплял тем сильным, что есть в супруге.
Однако говорить серьезно епископ нынче был не настроен. Изобразил удивление:
– Замуж, что ли, собралась?
– Я не про себя говорю. У меня иной Жених есть, который меня лучше всякого мужчины укрепляет. Я про то, что напрасно вы, отче, в серьезных делах только на мужской ум полагаетесь, а про женскую силу и про мужскую слабость забываете.
Митрофаний слушал да посмеивался в усы, и это распаляло Пелагию еще больше.
– Хуже всего эта ваша снисходительная усмешечка! – наконец взорвалась она. – Это в вас от мужского высокомерия, монаху вовсе не уместного! Не вам ли сказано: «Нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе»?
– Знаю, отчего ты мне проповеди читаешь, отчего бесишься, – ответил на это проницательный пастырь. – Обижена, что я в Новый Арарат не тебя послал. И к Матвею ревнуешь. Ну как он всё размотает без участия твоей рыжей головы? А Матвей беспременно размотает, потому что осторожен, проницателен и логичен.– Здесь Митрофаний улыбаться перестал и сказал уже без шутливости. – Я ли тебя не ценю? Я ли не знаю, как ты сметлива, тонка чутьем, угадлива на людей? Но, сама знаешь, нельзя чернице в Арарат. Монастырский устав воспрещает.
– Вы это говорили уже, и я при Бердичевском препираться не стала. Сестре Пелагии, конечно, нельзя. А Полине Андреевне Лисицыной очень даже возможно.
– Даже не думай! – построжел преосвященный. – Хватит! Погрешили, погневили Бога, пора и честь знать. Каюсь, сам я виноват, что благословлял тебя на такое непотребство – во имя установления истины и торжества справедливости. Весь грех на себя брал. И если б в Синоде про шалости эти узнали, прогнали б меня с кафедры взашей, а возможно, и сана бы лишили. Но зарок я дал не из опасения за свою епископскую мантию, а из страха за тебя. Забыла, как в последний раз чуть жизни через лицедейство это не лишилась? Всё, не будет больше никакой Лисицыной, и слушать не желаю!
Долго еще препирались из-за этой самой таинственной Лисицыной, друг друга не убедили и разошлись каждый при своем мнении.
А наутро почта доставила преосвященному письмо с острова Ханаана, от психиатрического доктора Коровина.
Владыка вскрыл конверт, прочитал написанное, схватился за сердце, упал.
Начался в архиерейских палатах невиданный переполох: набежали врачи, губернатор верхом прискакал – без шляпы, на неоседланной лошади, предводитель из загородного поместья примчался.
Не обошлось, конечно, и без сестры Пелагии. Она пришла тихонечко, посидела в приемной, испуганно глядя на суетящихся врачей, а после, улучив минутку, отвела в сторону владычьего секретаря, отца Усердова. Тот рассказал, как случилось несчастье, и злополучное письмо показал, где говорилось про нового пациента коровинской больницы.
Остаток дня и всю ночь монахиня простояла в архиерейской образной на коленях – не на prie-Dieu,[5]5
скамеечка для коленопреклонения (фр.)
[Закрыть] а прямо на полу. Горячо молилась за исцеление недужного, смерть которого стала бы несчастьем для целого края и для многих, любивших епископа. В опочивальню, где врачевали больного, Пелагия и не совалась – без нее ухаживалыциков хватало, да и все одно не пустили бы. Там над бесчувственным телом колдовал целый консилиум, а из Санкт-Петербурга, вызванные телеграммой, уж ехали трое наиглавнейших российских светил по сердечным недугам.
Утром к коленопреклоненной инокине вышел самый молодой из докторов, хмурый и бледный. Сказал:
– Очнулся. Вас зовет. Только недолго. И, ради Бога, сестрица, без рыданий. Его волновать нельзя.
Пелагия с трудом поднялась, потерла синяки на коленях, пошла в опочивальню.
Ах, как скверно пахло в скорбном покое! Камфорой, крахмальными халатами, прокипяченным металлом. Митрофаний лежал на высоком старинном ложе, синий балдахин которого был украшен рисунком небесного свода, и хрипло, тяжело дышал. Лицо архиерея поразило Пелагию мертвенным цветом, заостренностью черт, а более всего какой-то общей застылостью, так мало совместной с деятельным нравом владыки.
Монахиня всхлипнула, и сердитый доктор тут же кашлянул у нее за спиной. Тогда Пелагия испуганно улыбнулась – так и подошла к постели с этой жалкой, неуместной улыбкой на устах.
Лежащий скосил на нее глаза. Чуть опустил веки – узнал. С трудом шевельнул лиловыми губами, но звука не получилось.
Все еще не стерев улыбки, Пелагия бухнулась на колени, подползла к самой кровати, чтоб угадать слова по движению губ.
Преосвященный смотрел ей в глаза, но не тихим, благословляющим взором, как следовало бы в такую минуту, а строго, даже грозно. Собравшись с силами, прошелестел всего два слова – странных:
– Не вздумай…
Подождав, не будет ли сказано еще чего-нибудь, и не дождавшись, монахиня успокоительно кивнула, поцеловала вялую руку больного и встала. Доктор уж подпихивал ее в бок: ступайте, мол, ступайте.
Медленно идя через комнаты, Пелагия шептала слова покаянной молитвы:
– «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною…»
Смысл моления прояснился очень скоро. Из образной черница повернула не в приемную, а шмыгнула в архиереев кабинет, пустой и полутемный. Нисколько не тушуясь, открыла ключом ящик письменного стола, извлекла оттуда бронзовую шкатулку, где Митрофаний хранил свои личные сбережения, обыкновенно тратимые на книги, на нужды архиерейского облачения, либо на помощь бедным, – и бестрепетной рукой сунула всю пачку кредиток себе за пазуху, ни рубля в шкатулке не оставила.
Двор, заставленный экипажами соболезнователей, Пелагия пересекла неспешно, пристойно, но, повернув в сад, за которым располагался корпус епархиального училища, перешла на нечинный бег.
Заглянула в келью к начальнице училища, сказала, что во исполнение воли преосвященного владыки должна отлучиться на некоторое, пока неясно, сколь продолжительное, время и просит подыскать замену для уроков. Добрая сестра Христина, привычная к неожиданным отлучкам учительницы русского языка и гимнастики, ни о цели поездки, ни о пункте следования не спросила, а пожелала только знать, довольно ли у Пелагии теплых вещей, чтобы не простыть в дороге. Монахини поцеловались плечо в плечо, Пелагия захватила из своей комнаты малый сундучок и, взяв извозчика, велела во весь дух гнать на пристань – до отправления парохода оставалось менее получаса.
* * *
Назавтра в полдень она уже сходила по трапу на нижегородский причал, однако одета была не в рясу – в скромное черное платье, извлеченное из сундучка. И это был только первый этап метаморфозы.
В гостинице рыжеволосая постоялица попросила в нумер стопку самоновейших модных журналов, вооружилась карандашом и принялась выписывать на листок всякие мудреные словосочетания вроде «гроденапл. капот экосез, триповый пеплос, шерст. тальма» и прочее подобное.
Исполнив эту исследовательскую работу со всем возможным тщанием и потратив на нее не меньше двух часов, Пелагия посетила самый лучший нижегородский магазин готового платья «Дюбуа-э-фис», где дала приказчику удивительно точные и детальные распоряжения, принятые с почтительным поклоном и немедленно исполненные.
Еще полтора часа спустя, отправив в гостиницу целый экипаж свертков, коробок и картонок, расхитительница епископской казны, нарядившаяся в тот самый загадочный «триповый пеплос» (прямое бескорсетное платье утрехтского бархата), совершила деяние, для монахини уж вовсе невообразимое: отправилась в куаферный салон и велела завить ее короткие волосы по последней парижской моде «жоли-шерубен», пришедшейся очень кстати к овальному, немножко веснушчатому лицу.
Приодевшись и прихорошившись, заволжская жительница, как это бывает с женщинами, преобразилась не только внешне, но и внутренне. Походка стала легкой, будто бы скользящей, плечи расправились, шея держала голову повернутой не книзу, а кверху. Прохожие мужчины оглядывались, а двое офицеров даже остановились, причем один присвистнул, а второй укоризненно сказал ему: «Фи, Мишель, что за манеры».
У входа в туристическую контору «Кук энд Канторович» к нарядной даме пристала злобная грязная цыганка. Стала грозить неминучим несчастьем, ночными страхами и гибелью от утопления, требуя за отвод несчастья гривенник. Пелагия пророчицу нисколько не испугалась, тем более что в не столь далеком прошлом благополучно избегла гибели в водах, но все равно дала ведьме денег, да не десять копеек, а целый рубль – чтоб впредь была добрее и не считала всех людей врагами.
В агентстве, вмещавшем в себя и лавку дорожных принадлежностей, были потрачены еще полторы сотни из епископовых сбережений – на два чудесных шотландских чемодана, на маникюрный набор, на перламутровый футлярчик для очков, подвешиваемый к поясу (и красиво, и удобно), а также на приобретение билета до Ново-Араратской обители, куда нужно было ехать железной дорогой до Вологды, затем каретой до Синеозерска и далее пароходом.
– На богомолье? – почтительно осведомился служитель. – Самое время-с, пока холода не ударили. Не угодно ли сразу и гостиницу заказать?
– Вы какую посоветуете? – спросила путешественница.
– От нас недавно супруга городского головы с дочерью ездили, в «Голове Олоферна» останавливались. Очень хвалили-с.
– В «Голове Олоферна»? – поморщилась дама. – А другой какой-нибудь нет, чтоб без кровожадности?
– Отчего же-с? Есть. Гостиница «Ноев ковчег», пансион «Земля обетованная». А кто из дам желает вовсе от мужского пола отгородиться, в «Непорочной деве» селятся. Благочестивейшее заведение, для благородных и состоятельных паломниц. Плата невысока-с, но зато от каждой постоялицы жертвование в монастырскую казну ожидается, не менее ста целковых. Кто триста и больше дает – личной аудиенции у архимандрита удостаивается.
Последнее сообщение, кажется, очень заинтересовало будущую богомолицу. Она открыла новенький ридикюль, достала пук кредиток (все еще весьма изрядный), стала считать. Служитель наблюдал за этой процедурой с деликатностью и благоговением. На пятистах рублях клиентка остановилась, беспечно сказала:
– Да, пускай будет «Непорочная дева». – И спрятала деньги обратно в сумочку, так их до конца и не сосчитав.
– Прислугу возьмете в нумер или отдельно-с?
– Как можно? – укоризненно покачала дама своими бронзовыми кудряшками. – На богомолье – и с прислугой? Это что-то не по-христиански. Буду всё делать сама – и одеваться, и умываться, и даже, быть может, причесываться.
– Пардон. Не все, знаете ли, так щепетильны-с… – Клерк застрочил по бланку, ловко обмакивая стальное перо в чернильницу. – На чье имя прикажете оформить?
Паломница вздохнула, зачем-то перекрестилась.
– Пишите: «Вдова Полина Андреевна Лисицына, потомственная дворянка Московской губернии».