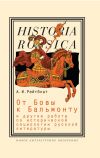Текст книги "Литература как социальный институт: Сборник работ"
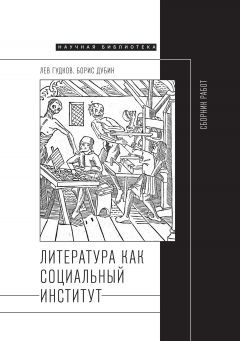
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Семья и в условиях урбанизации является доминантной первичной структурой, организующей жизненное пространство индивида, его систему координат в мире. Однако содержательное наполнение норм и ролей, организующих внутрисемейное взаимодействие, существенно меняется. Многие выделившиеся социальные институты принимают на себя ряд прежних ее функциональных значений, соответственно, ценностей и большую часть власти, лишая «семью» прежнего ореола незыблемости и авторитарности. Необходимость постоянной адаптации к изменениям, высокая ценность «нового», престиж молодого, установка на оригинальность (что составляет конструктивную особенность непрерывно изменяющегося и развивающегося советского общества) резко меняют всю традиционную структуру половых и возрастных ролей, а также распределение занятий внутри семьи. Зафиксированное социологами изменение фундаментальных ролевых определений пола (что в обиходе называется феминизацией мужских занятий и профессий), перераспределение престижа и власти внутри семьи сопровождаются возникновением открытых напряжений и фрустраций самого различного толка. Эти напряжения представляют собой одну из многих разновидностей «критических точек формирования личности и ее интегрирования в социальную структуру», возникающих при «разрушении барьеров между статусами»125125
Долгий В. М., Левада Ю. А., Левинсон А. Г. Урбанизация как социокультурный процесс. С. 28.
[Закрыть]. Феноменологически они наиболее ярко проявляются в различных формах социальной аномии, дезорганизации и отклоняющегося поведения (увеличение числа разводов, неполных семей, случаев алкоголизма, юношеской делинквентности, хулиганства и прочее в зонах, захваченных интенсивной урбанизацией). Такова, в частности, эрозия культурных стереотипов мужского господства, которая вызывает различные компенсаторные идеологии, например проекции «идеальной семьи», образец которой отыскивается в прошлом.
Для массовой литературы эта проблематика чрезвычайно актуальна и важна. В формульных повествованиях ценностно-нормативные опосредования осуществляются исключительно через систему нормативных половых определений роли, ее временных (включая возрастные) компонентов и характеристик. Доминантой данного конфликта норм в массовой литературе становится разнообразие форм блокировки усиливающегося процесса инструментализации половых ролевых определений. Рационализация ценностей, связанных с полом, сопровождается признанием ценности сексуального наслаждения как такового, освобождением его от прочих компонентов ситуации. Разумеется, для массового сознания оно обязательно ограничивается действием некоторых культурных норм – наличием обязательной душевной близости, «духовности» и т. д. (Отметим, что для деревенской культуры, вобравшей и сохраняющей многие существенные моменты христианской этики с ее аскетическим вытеснением конкурирующей оргиастики, эти ценности подлежат полному запрещению и табуированию.) Однако это лишь один, хотя и важный момент.
Формализация этой ценности предполагает точное равноправие, а значит, и признание автономности воли каждого из партнеров, равноценности мужского и женского, что противоречит традиционным представлениям о «семье» как жестком иерархизированном социальном взаимодействии. Эти различные определения роли в традиционном обществе однозначно соответствуют предписанным занятиям: глава традиционной семьи непременно должен быть «хозяином», «добытчиком», «мужчиной», «взрослым», производственно-компетентным, собственником, «работоспособным» и т. д. Все это дает ему право быть «властным», «мужественным», «надежным»», «сильным» и т. п. Любая же инструментализация роли или нормы выражается как усиление (иногда полная формализация и универсализация) ее частных содержательных определений. Урбанизация с ее дифференциацией занятий, их формальной специализацией, предполагающей унифицированное всеобщее образование, т. е. профессионализацию, разорвала однозначную связь между компонентами сексуальной роли. Более того, их универсализация лишила половой определенности многие нормативные аспекты социальных ролей. Прежние социальные качества роли получили в настоящее время обобщенный характер – стали «психологическими категориями» и особенностями «характера». Так, можно иметь властный характер и не быть мужчиной, но тем не менее выступать «добытчиком», а стало быть, главой семьи и т. д.
Социальная реальность города постоянно продуцирует эту смазанность традиционных определений, что разрушительно сказывается на традиционных формах общности. Определения половых и возрастных ролей – наименее рационализируемые культурные значения, они в максимальной степени защищены многочисленными запретами на осмысление, инструментализацию, релятивизацию и т. п. Их максимальная ценностная значимость – остаток фундаментальности этих значений в традиционном обществе (прежде всего значений семьи), бывших основными социогенными элементами. Их кризис сказывается в современной культуре и обществе в болезненности этих проблем, частой смещенности их диагноза, «превращенности» их формы. О фиксируемом в массовой культуре напряжении можно судить по гипертрофии демонстрации «мужских» определений категорий успеха в тривиальной, формульной литературе, а также – в ностальгии по утраченной норме, симптомом которой являются временные характеристики сексуальных и семейных отношений, представляющихся «нормальными» и благополучными. «Идеальное» состояние такого рода социального взаимодействия лишено признаков настоящего времени: оно помещается либо в прошлое, либо в будущее, или же наделяется чертами внебудничности, экстраординарности, чудесности («…миллион, миллион алых роз»). Особенно ярко и откровенно радикалы этой нормы проявляются в эстраде, получающей огромную аудиторию средств массовой коммуникации.
Потребность в соответствующей идентификации, таким образом, определяет спрос, интерес и чтение литературы, столь много места уделяющей подобным вопросам. Нормальная сексуальная идентификация – условие ожидаемого вознаграждения в форме социального признания – выражается здесь в усвоении предписанных стандартов ролевого поведения. Инструментализация ценностей, лежащих в основе половых определений, выражается в смене культурных оснований авторитета126126
Это характерно только для массовой культуры, которую мы прежде всего имеем здесь в виду. Для высокой, книжной, письменной, элитарной культуры эти вопросы в значительной степени сняты на предшествующих стадиях культурного развития, они рационализированы другим образом. Например, в «Анне Карениной» Л. Толстого, где процессы модернизации России (железные дороги, массовые газеты, эмансипация и др.) рассматриваются через основной узел брачно-семейных отношений.
[Закрыть] – превращении аскриптивных определений роли в достижительские, что предполагает интенсивную рационализацию самих ценностей. Общая схема процесса такова: сакральное—ценностное—нормативное—инструментальное. Под нее можно подставить любые содержательные представления, например: божественное – дивное – эстетически-прекрасное – красивое – модное, или: божественно-откровенное – мудрое – культурное – соответствующее высшему образованию и т. д. Тем самым характер доминирования, господства, авторитета, «мужественности» в нормах мужской роли обычно с недосягаемо высоким статусом и рангом связывается (в соответствии с общей тенденцией эпохи) с символами достигаемого успеха (проекция функционального центра культуры), а следовательно, и с рядом занятий, обладающих характерным высоким социальным престижем и соответствующими качествами. Но знаком мужской половой роли, «психологическим» ярлычком социального, прежде всего является достижительность как таковая в ее противопоставлении сохраняющимся предписываемым значениям, по-прежнему являющимся знаменательным компонентом женской роли. Таким образом, подчеркнутый индивидуализм, активизм, преданность делу, успех как таковой и т. п. составляют знаки мужской роли, тогда как пассивность, самоотверженность, верность и др. явные признаки безличного начала (коллективной, родовой, а стало быть, традиционной социальной этики) – соотносятся с женской ролью. Но одновременно эти роли получают добавочные значения – инструментализм мужской роли остается окрашен в цвета повседневности, в то время как значения женского получают модус экстраординарности, праздника, награды для мужского поведения, чудесности и т. п.
Роман-эпопея: некоторые элементы литературной формулы
Если иметь в виду эти признаки нормы, то основная структура конфликта в формульной литературе (в рассматриваемом аспекте) заключается в утверждении нормативной консервации традиционных или данных ролевых определений пола (с чем связаны и определения возраста, но сейчас мы их рассматривать не будем). То, что для «эстетического», элитарного читателя выглядит как безвкусица, неправдоподобная слащавость, неестественность, натянутость и т. п., для массового читателя становится стабилизирующим механизмом поддержания традиционных культурных значений. Проективная сексуальная идентификация в массовой культуре является идеологическим эквивалентом прежней культурной определенности. В массовой литературе тематизируются именно традиционные значения роли, а вместе с тем и сами ценности или их идеологические обертоны – такие (если брать женский вариант), как верность, женственность, эмоциональность, заботливость, мягкость, т. е. пассивность, уступчивость, готовность следовать за «властелином». Либо же в фигуре двойника-антипода тематизируются антизначения (трафаретная эмблематика мелодрамы «блондинка» против демонической «брюнетки», женщины-вамп, вероломной, «хищной», «чувственной» и т. д.). Причем неизбежные модернизационные символы становятся характерными показателями перевода значений, «трансформаторами» или «операторами» (прибегая к механическим аналогиям): достижительские качества (мера признания «мужского», мужской роли и статуса) если и возникают, то «гасятся», нейтрализуются посредством обращения на ценности, интегрирующие группу, главным образом семью. Тем самым подчеркивается сохранение целого за счет частного, индивидуального. Редуцированный случай, паразитирующий на общем правиле и потому подтверждающий его, – приписывание «неполноценной» женщине мужских атрибутов (обычно девушке, т. е. еще только претендующей на статус и права женщины, с чем связано состояние в браке, наличие мужа, детей и проч.; реже – вдове, например «веселая вдова», вариант – вдова – романтическая мстительница) – активности, самостоятельности, достижительства и проч. Вся ситуация при этом маркируется как отклонение (например, Анна у Проскурина, Миледи в «Трех мушкетерах» и т. п.). Отклонение, в свою очередь, либо компенсируется негативной оценкой героини (как в случае Миледи), либо выступает знаком социального изменения, переворачивания символов ранга социальных позиций (как это имеет место в фильме «Москва слезам не верит»). Последнее характерно для случаев, когда характер сексуальных норм столь же жестко предписан, как и характер позиций, так что изменение вторых вызывает трансформацию или эрозию первых127127
Сниженный вариант напряженности конфликта, вызванного смещением ролевых норм, часто определяет особую организацию литературного материала – комедию. См.: McLean A. American vaudeville as ritual. Lexington, 1965.
[Закрыть].
Понятно, что нарушение нормы, тематизируемой в произведении, ненормативное отклоняющееся поведение сопровождается демонстрацией различных санкций (в зависимости от соответствующего определения) – например, отвержением, уничтожением привилегий, отказом в признании права на нормальную женскую карьеру жены, матери и т. д., вплоть до романтической гибели. Сама эта гибель или ее смягченный вариант – одиночество, покинутость, болезнь, сумасшествие, страшная старость и т. п. (так же как и почти хтоническое буйство судьбы, невероятность драматических ситуаций, фатальность их разрешений, сближающие тематизируемые значения с фольклорными и с романтическими) – указывает на остаточное присутствие сил традиционных коллективов, их безличных нормативных систем.
Схематизируя содержание, представленное в наиболее читаемых произведениях (в романах-эпопеях, мелодраматических повестях на «современную тему», «исторических» романах и т. п.), можно говорить о трех наиболее значимых тематических комплексах, репрезентируемых в произведениях с различной организацией литературного материала:
1) деревня и изменение структуры отношений внутри традиционного локального сообщества. Деревня получает при этом значение символической локализации, культурной основы, «почвы», «истока», генерирующего те или иные стабильные компоненты национального сознания;
2) война – центральное, «основное» событие в содержательной структуре послереволюционной истории и культуры, ставшее нормообразующей инстанцией, нормой оценки и осмысления. Война выступает как символическое время предельных испытаний, служащее мерилом или пробным камнем для наиболее существенных интегративных значений социального коллектива, группы, общности. В этой функции она играет огромную рационализирующую роль в высокой литературе и рутинизирующую в литературе второго порядка. В последней «война», если оставить в стороне ее близость к приключенческой тематике с ситуациями ролевой неопределенности, принимает на себя значения поддержания символов национальной общности – единства, самоопределения и др. Но для всех типов литературы общей становится переоценка многих фундаментальных значений традиционной культуры, тематизируемая на военном материале. И, что является самым важным (в данном случае) следствием темы войны в тривиальной литературе, – ее структурогенный характер, конструирование самого порядка «истории», т. е. основных линий культурного времени, порождающих оснований социокультурного пространства-времени;
3) семья – восполнение дефицита ролевых определений, вызванного разрушением образцов патриархального уклада в традиционной семье, тяготением ее к нуклеарной структуре.
Принципом синтезирования этих основных тем в романах-эпопеях становится мелодраматическая организация персонажей с их жесткой привязкой к обозначенным социальным позициям, статусам и ролям. Подобно тому, как мелодрама социальные позиции и значения переводит в план достижительский, т. е. универсалистский, со всеми особенностями и последствиями такой функциональной трансформации, эпопея универсализирует традиционную социокультурную структуру первичных коллективов, локальных партикуляристских общностей. При этом сложная амальгама мифорелигиозных, фольклорных и соответствующих им представлений, рутинных регуляций, обычаев, нравов и т. д. вытесняется, заменяясь секулярной идеей органической, «социально-биологической» природы человека, его сообществ и истории. Этот довольно мистический вариант историософии с характерным подобием позитивистской научности, а точнее – вульгаризованной формой естественно-научного прогрессизма, паразитирует на авторитете науки и, как часто отмечалось в нашей философской литературе, выступает легитимирующей нормой многих идеологических спекуляций. Иными словами, эта разновидность светских форм религиозности обретает чрезвычайную популярность в условиях модернизации и значительной социальной трансформации128128
Культурные мигранты, разумеется, лишь используют значения, символы, представления, нормы, продуцируемые специализированными группами. Для них они выступают в качестве уже готовых культурных форм, релевантных и оцененных образов жизни, однако весьма часто наделяются смыслами и значениями, близкими к типологически предыдущим стадиям культуры. Литература, понятно, становится при этом одним из многих каналов репродукции и тиражирования соответствующих образцов и немыслима без функционирования других средств и систем социального взаимодействия. К последним, как уже говорилось, можно отнести кино, телевидение, печать, эстраду, моду, рекламу и другие формы символического действия и поведения.
[Закрыть]. (В данной работе, к сожалению, нет возможности подробнее рассмотреть проблемы, связанные с культуроорганизующей ролью всеобщей веры в науку. Наука принимает на себя многие из традиционных определений сотериологических институтов и соответствующих им культурных персонажей.)
Для нас существенно, что в среде, для которой роман-эпопея с его нормой действительности оказывается важнейшей идеологической и культурной формой, имеет место многомерный синтез различных культурных фондов – традиционалистского и модернизированного сознания. Можно указать на эклектическое соединение риторических элементов высокой, преимущественно церковнославянской архаики с социальным биологизмом у «почвеннических» писателей – авторов романов-эпопей (например, у П. Проскурина, А. Иванова, В. Пикуля и др.). Первые «облагораживают» и приподнимают вторые, образуя род «культурной контрабанды» – обстоятельства, известные социологии знания и идеологии. Идеологические фикции такого рода (ср. у Пикуля: «…История – это голос крови…») являются ценностными осями, силовыми линиями организации социокультурного пространства-времени и представляют собой суггестивную основу для фиксации всех последующих социальных значений (прежде всего национальных определений «мы», содержательных онтологических параметров, эсхатологии, а также оперативных определений ресурсов, благ, ценностей).
Не углубляясь в поэтику романов-эпопей, отметим важный для нас элемент: способ репрезентации ценностей – особенности мотивации героев, благодаря которой структурируется временная (через демонстрацию своеобразия казуальности) и социально-пространственная система координат произведения. В элитарном искусстве общая ценностная рамка задается либо через свободное проявление авторского «я», либо через субъективную форму повествования. Благодаря им вводятся разные системы отсчета (т. е. допускаются разные, не единственные критерии оценок и ценностей, вплоть до альтернативных принципов ценностной организации литературного материала и самой действительности). Напротив, в массовой литературе безраздельно господствует «объективистский» принцип изображения. Утверждается единая авторитарная точка зрения на происходящее, представляемая тем или иным административным лицом (секретарем обкома, Сталиным), как у П. Проскурина или А. Иванова и т. п. Суггестивность такого описания чрезвычайно велика, поскольку тем самым устраняются любые основания рефлексивной зацепки и сомнения. Никакой деформации действительности, столь значимой для высокой литературы, здесь не может быть. Стабильность нормативных определений действительности чрезвычайно значима (мы уже говорили об общих функциях массовой литературы).
Однако подобный «объективизм» в силу устранения иных ценностных измерений, систем координат («героев», повествователя и т. п.) делает невозможным и воспроизведение «внутренних» душевных состояний героев, «потока сознания», их мнений и отношений к происходящему. Действие описывается исключительно извне, «сверху», как бы глазами отчужденного наблюдателя129129
Рене Кениг, анализируя подобную поэтику, указал на эпистемологические и философские основания принципиально той же базы позитивизма в науке и натурализма в искусстве, предполагающих одну общую позицию якобы «незаинтересованного» абсолютного, идентичного с божественным по своим методическим функциям и идеологическим возможностям наблюдателя. См.: König R. Die naturalistische Ästhetik in Frankreich und ihre Auflösung. Leipzig, 1931. П. Проскурин заявил на одном выступлении перед читателями в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина: «Я хочу показать конфликт между мужским и женским в России за последние 6 тысяч лет» (запись Л. Гудкова).
[Закрыть]. Возникающая при этом столь часто психологическая немотивированность и необоснованность поведения героев, бросающаяся в глаза читателям другой литературы, приученным к общим правилам интеллектуальной техники, логике и постоянной («обоснованной») рационализации героями собственных мотивов и причин поведения, в данном случае не может и не должна восприниматься как авторский произвол, рожденный недомыслием или небрежностью. Есть более важные причины, делающие эти несогласованности при объяснении поведения героев значимыми, более того – демонстративными.
«Иррационализм» мотивации героев (являющийся таковым только для представителей другой группы, например исследователя) представляет собой знак «естественности», или «натуральности», природности героев, их витальной органичности, цельности (двойная означенность их сопричастности к «вечным» – столь же часто встречающийся в авторской речи предикат – силам и «истокам», «земле», «жизни»). Специальный анализ этих ценностных демонстраций мог бы установить, что форма этой витальности и биологизма (вечные темы, вечные конфликты мужского и женского, вечная судьба народа и т. п.), имеющая собственную номинацию – «судьба», реже – «жизнь», представляет собой шифр внеличного (уже и нам можно сказать – «природного») бытия традиционного коллектива, замкнутой и самодовлеющей социальной общины. Точнее, в надличной форме тех, казалось бы, иррациональных сил, которые правят героем, проступают знакомые черты нормативного порядка, анонимной системы псевдотрадиционного или идеологического, но тоталитарного сообщества, от принудительной обязательности и значимости которого герой, оторванный стечением обстоятельств в ходе социальных трансформаций, убежать не может – он социализированный индивид. Образ Сталина-отца (соединение родовых и идеологических компонентов) в таких романах совершенно не случаен. Образцы этой как бы традиционной, патерналистской культуры героем интернализованы. По существу, это смысловые основания для массовой стратегии жизненного поведения – стратегия снижающей адаптации, пассивного приспособления к обстоятельствам.
Двойственность его положения, вызывая в нем необычные напряжения (причина которых – индивидуальная воля как продукт усвоения городских ценностей), могла бы породить своеобразное раздвоение личности. Однако формирующиеся механизмы культурной стабилизации (а именно с этим связана эффективность формульной литературы) переводят и маркируют эту индивидуальную патологию как культурную (не индивидуальную, не личностную) шизофрению, более того, рутинизируют ее, снижая незыблемый ранее престиж традиционного сообщества до неумолимости, фатальности, «иррациональной» судьбы. «Против судьбы не попрешь», «ничего не попишешь», «такова судьба…» и т. п.
Фаталистичность таких оценок снимает с индивида ответственность за последствия собственного поведения, блокирует автономность индивидуального выбора. Фиксация иррационализма выступает как диффузно-всеобщая норма определения действительности (всеобщность неподконтрольности), т. е. является своеобразным средством «редукции комплексности» разнородной действительности.
Эрозия традиционализма, управляемого обычаями и стародавними нравами общины, выражается в явлениях перехода социального в культурное. «Тень» бывшего коллектива становится проблемой культуры, идеологической формой и, уже в сознании специализированных групп, по-разному тематизируется и дифференцируется, выступая наряду с прочими ипостасями и в эстетической – в качестве ценностного элемента литературных конструкций130130
Коллективное, групповое начало, обнаруживаемое за поэтикой массовой литературы, свидетельствует об интенсивном процессе массовизации компонентов традиционной культуры, о превращении их в структуры массовой культуры. Демонстрируемые в литературных конструкциях, репрезентируемых ценностях и в самом способе репрезентации (а стало быть, воплощаемые в системе мотивации, временной организации, структуре поведения и т. п.) значения говорят о вытеснении и блокировке всякого личного произвола и субъективизма в определениях действительности. Учитывая характер восприятия, можно сказать, что массовый читатель читает одну и ту же книгу, например, структурируя романы и повести Л. Толстого как мелодраму, что, кстати, часто выражается в характере театральных постановок и экранизаций (см.: Аннинский Л. Лев Толстой и кинематограф. М., 1980. С. 123).
[Закрыть].
Вместе с тем, и в неразвернутых оценках литературных произведений, получаемых при социологических опросах, можно установить наличие нескольких смысловых слоев или следов их отложений, формаций. На вопрос: «Чем вам понравилась данная книга?» – чаще всего встречается лаконичный ответ – «жизненно». Это чужеродное в устах массового респондента слово выражает совокупность неопределенных значений, понятий и оценок небытового ряда или плана. В данном контексте оно обозначает не правдоподобие, не объективность и не адекватность изображения известной респонденту реальности, а высокий культурный статус изображаемого, значений, относящихся к повествованию, или представлений, с коими связаны события, о которых рассказывается в произведении.
Литературный материал, его содержание расценивается как нечто чрезвычайное, выходящее за рамки будничного. Хотя чаще всего так оно и есть: стоит только формализовать специальную тематику и коллизии массовой литературы, как начинаешь поражаться нагромождению чудовищных событий, отдаленно напоминающих – что-то вроде вырожденной формы – либо мрачное буйство аномальных хтонических сил в архаическом фольклоре, либо кровожадность и злобность рока в греческой трагедии131131
Вполне возможно, что вульгарный натурализм, претендующий на научность и авторитетность, плоский позитивизм и биологизм трактовки социальности, истории, сущности человека, который распространяется этой литературой, или, точнее, заложен в способе репрезентации ею ценностей, отсекает традиционные, уже сильно разрушенные радикалы христианской этики или близких к ней нравственных конструкций жизненного мира и оживляет архаические или магические внеморальные представления о человеческой сущности. Может, однако, статься, что эти представления не столько «оживляются», сколько в силу необходимых обстоятельств принимают внешнее подобие, известную гомоморфность секулярных этических и, что крайне важно, антиисторических воззрений.
[Закрыть]: инцест, тайна, непримиримая вражда, неверность, вероломство, авантюра, убийства ближних и проч. и проч., по числу своему и брутальности не имеющие аналога в повседневности «эмпирического» мира респондента. И это в романах о колхозной жизни, скажем «Вечном зове» Ан. Иванова! Понятие «жизнь» (от которого производится оценка «жизненно») в данном случае эквивалентно понятиям «судьба», «предопределение» как выражающим «объективный ход» вещей, трагически развертывающееся сцепление обстоятельств, вызванных личным произволом. Здесь «судьба» как надличное определение последовательности жизненных ситуаций и их разрешений еще не атомизирована, не рационализирована до личных перипетий индивидуальной уникальности, но вместе с тем в ней уже отсутствует и симметричная фатальность, неминуемость античного рока. Таким образом, структура этой оценки содержит идентификацию не нормы с каким-либо понятием или представлением о действительности, а рутинно-конвенциональной нормы с нормой же. В качестве последней в данном случае представлено не только нарушение правил поведения в определенной ситуации, но и структура или стратегия ее восстановления, укладывающаяся в диапазон предписанных и известных социальных санкций, что собственно и демонстрируется определенной повествовательной формулой. Другими словами, в качестве нормы принимается соответствующее звено традиционной нормативной системы, однако оценка относится не только к самому этому звену, но и к характеру нормативной значимости и обязательности системы норм и культуры в целом.
Признаком идеальности этой нормы служит (выявляемая только в процессе специфической реконструкции) принадлежность ее «чужому» и, следовательно, «высокому». Об этом свидетельствует характерная неспособность респондента ее рационализировать или вообще как-то истолковать. Ее идеальность позволяет видеть в ней, кроме того, радикал предшествующей элитарной эстетической нормы, к настоящему периоду утратившей свое идеологическое значение инновационной санкции. Утрата эта, точнее, отказ от нее элиты оказывается необходимым элементом установления социальной дистанции в процессе перехода образца от группы к группе с различными рангами и статусами. «Жизнь»132132
От имени «жизни», под которой для одних подразумевались совершенно определенные темы и нормы их развития, не имеющие ничего общего и даже просто права на существование для других, узаконивалось не только введение новых ценностных мотивов, но и новая экспрессивная техника их репрезентации. Актуализация подобных идеологических механизмов (можно указать также на другие столь же «пустые» ценностные формы: «время», «эпоха» и др., позволяющие устранить заинтересованность субъекта суждения, перенося его характеристику на проблематизированный объект) является симптомом дифференцирующейся системы.
[Закрыть] как критерий эстетической оценки была особенно в ходу в (новомирской) критике 1950‐х – начале 1960‐х гг., как и несколько более «изысканный» и рафинированный, но относящийся к чуть более позднему времени эпитет – «духовный» (стертый вариант религиозности, православия), который в 1970‐х гг. стал использоваться почти исключительно в конструкциях «почвенников». Можно предполагать в ближайшие годы литературного развития подобное снижение образца и в другие среды.
Изолированность слова «жизненно» от контекста свидетельствует о том, что оно – «чистый» знак отнесенности к «высокому», пустая интенция, демонстративное поведение. Правда, вполне возможно, что его использование спровоцировано ситуацией вторжения чужой культуры в лице интервьюера. В основе подобного демонстративного поведения лежит стремление к идентификации с определенным стилем, образом жизни (т. е. идентификация со стилем носителей высокозначимых позиций). Появление такой ориентации на образцы чужой культуры в среде, до сих пор бывшей весьма устойчивой в культурном отношении, свидетельствует о начале некоторого изменения в структуре основных характеристик этих слоев или групп. Такое соединение традиционной и письменной, книжной культуры – характерная особенность общества массовой культуры.
В процессе длительного социального взаимодействия и культурного заимствования идеологическая форма, выработанная элитарным сознанием в определенных исторических обстоятельствах, получила в других условиях, в других социальных средах свое специфическое содержание. Переход культурного образца, принадлежащего высоким и специализированным уровням социокультурной структуры, в среду массовой культуры с изменениями ценностной организации этой конструкции и может быть назван процессом рутинизации и стабилизации культурных разрывов, т. е. трансформацией некоторых важнейших значений «города» как функционального центра культуры.
Таким образом, тривиальная литература («роман-эпопея», «сельский роман», «исторический роман» и т. д.) представляет собой механизм поддержания в системе культуры совокупности «ценностных» символических образцов. Ее функция – воспроизводить определенные ценности – интегративные символы социальных общностей (идеологические проекции и утопии, национальные фетиши, классовую эмблематику и т. п.), принимающие вид той или иной исторической или псевдоисторической конструкции и обоснования. Однако наряду с этим в тривиальной литературе четко выделяется ряд явлений с определенными типологическими признаками, функциональное значение которых заключается не столько в поддержании символического единства, его фиксации (хотя и это имеет место), сколько в передаче определенного заданного отношения к авторитетным ценностям-значениям (символам). Речь идет о фиксированной норме, безразлично к тому, касается ли это технических аспектов реализации ценности (целедостижение) или символических аспектов (ценностно-рациональные моменты).
В культурных пластах, с которыми соотносятся указанные типы литературы, проблематизирована значимость социальных нормативных средств, прежде всего – универсальных, инструментальных, достижительских (труда, образования, бережливости, «правильного поведения» и некоторых других), с чем связаны возможность и ожидание «надлежащего» вознаграждения. В данных случаях проблематизируется все то, что предполагает блокировку «чуда», иллюзий, необоснованных надежд, ожидания мгновенного присвоения тех или иных благ – важнейших особенностей магического традиционного сознания.
Самой общей предпосылкой подобной элиминации иррационального является калькуляция и расчет. Овладение техникой оперирования временем становится условием всеобщей нормы достижительской культуры. К этим формульным структурам можно отнести детектив, научную фантастику, некоторые виды приключенческой литературы (типа протестантского, повседневного освоения мира в «Робинзоне Крузо»).
Рассмотрим научную фантастику.
Социальные аспекты рациональности: формулы научной фантастики
Отличительной чертой научной фантастики (НФ) может считаться подчеркнутая рациональность и конструктивность. Не случайно уже в самом названии жанра или вида этой литературы подчеркнут ее рациональный характер – «научная» (литература). Ее структуру и основные особенности организации материала образует мысленный эксперимент133133
См., например: Krysmanski H. Die utopische Methode: Eine literatur– und wissenssoziologische Untersuchung deutscher utopischer Romane des 20. Jahrhunderts. Köln; Opladen, 1963; а также: Дубин Б. В., Рейтблат А. И. Социальное воображение в советской научной фантастике // Социокультурные утопии ХХ века. М., 1988. Вып. 6. С. 14–48.
[Закрыть] , в ходе которого проблематизируются нормативные системы того или иного ценностного порядка.
В зависимости от основных тематизированных ценностей можно наметить следующие виды НФ, исторически сменяющие друг друга: утопию – «политический остров», фантастику – экспериментальные испытания техники, и антиутопию – альтернативную модель культуры.
«Политический остров». Возникновение этой интеллектуальной и литературной конструкции приходится на XVI–XVII вв. В процессе ее формирования и развития проблематизируется средневековое, сословно-христианское представление о «сущности» человека и основанного на ней социального порядка. Выдвигается идея универсальной природы – родовой сущности человека. Его экзистенция понимается теперь не как сотворенная божеством, а как природа, обладающая соответственными «естественными правами», структура которых дублирует «естественные потребности». Развитие философских и мировоззренческих оснований идеи человека идет таким образом от религиозного эссенциализма к деистическому, пантеистическому и, наконец, секулярному пониманию индивида как потенциально автономного существа, нуждающегося лишь в просвещении и уяснении собственного естества.
Рационализация, следовательно, выражалась как «опустошение» идеи человека от сакральных значений и замещение их инструментальными представлениями: автономизация личности предполагала просвещение его «естественным светом разума», т. е. его образование и воспитание, его «взращивание» – культивирование его человеческой природы («породы»). Утверждается монада утилитаристского понимания человека, разумного эгоиста, но никак не связанного с социальным окружением, с «обществом», человека, детерминированного лишь сознанием своих потребностей, в пределе (но чуть позже) – «человека экономического».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?