Текст книги "Очевидец грядущего"
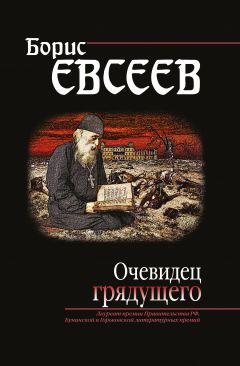
Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Воскрешение Авеля. Окояр
Начало пятое. «Император Павел принял отца Авеля во свою комнату со страхом и с радостью и рече к нему: «Владыка отче, благослови меня и весь дом мой». Отец же Авель отвечал к нему: «Благословен Господь Бог всегда и во веки веков». И спросил у него царь Павел, что желает: в монастырь ли монахом, или избрать род жизни какой другой. Авель же отвечал: «Ваше величество, всемилостивый мой благодетель, от юности моей желал быть монахом и служить Богу и Божеству его». Государь же Павел поговорил с ним ещё что нужно и спросил у него по секрету: что ему, Павлу, случится…»
Здесь Тихону опять припомнилась баба Дося. Вылепилась из её бормотаний и вздохов объёмная звуковая картинка. Увидел: мглистым весенним вечером, перекладывая у себя в комнате что-то с места на место, вскидывает Дося Павловна руки, рассказывая про императора Павла. При этом выдаёт сказанное за мысли собственные, хотя ежу понятно: пересказывает очередную приходскую байку.
– Четыре года, четыре месяца и четыре дня царствовать ему, горемыке, было предсказано, – говорила Дося Павловна, – предсказано, но не предуказано! Тут, Авелёнок, понимать надо. А ты мал ещё. Корнеюшка тот бы понял, да только улетел он на хутор бабочек ловить… Жаль-то как его императорского величества! Прямо сейчас, этим вот вечером, до боли жаль! Как яйца неснесённого жаль! И курице смерть, и яичку конец… Кто ему про три четвёрки предсказал и зачем – не знаю. А только напугали бедолагу до смерти. Он и занемог. Вскорости от удара скончался. Внушил себе: мол, как мне указано, так и помру. Мол, не жить мне, Павлу отринутому, на белом свете! Вот они до чего твои предсказалки доводят, – грозила Дося Павловна кулаком. – Вот я сейчас в сад схожу, лозину тонкую срежу, очищу, да как хлестну́: а не предсказывай, не предсказывай! Рот свой липучкой заклей наглухо. Кто ты таков, чтобы знать будущее? Церковь святая прозорливцем тебя все одно не признает. Не святой жизни ты! Отвечай: не святой ведь?
– Не святой.
– Учителей дурачишь, грешишь, лоботрясничаешь?
– Грешу, бабун.
От такого быстрого и бесхитростного признания грехов – чего невозможно было добиться от Корнеюшки – баба Дося начинала млеть, гладила внука по головке, но, тут же забыв про него, вновь жалела раздавленного предсказанием императора:
– Горемыка он… Как есть горюн-горемыка! Взял – и какому-то обдувале поверил. Взял – и помер до времени. С той поры дом Романовых и стал потихоньку съезжать с катушек…
Тихон Ильич отряхнулся от воспоминаний, перемотал запись назад.
«…и приказал император Павел отвести отца Авеля в Невский монастырь, в число братства. И по желанию его облечь в монашество, дать ему покой и все потребное. Отец же Авель пожил в Невском монастыре только один год; потом опять пошёл в Валаамский монастырь, с разрешения императора Павла, и составил там другую книгу, подобно первой, ещё и важнее. И отдал её игумену отцу Назарию. Тот же показал книгу своему казначею и прочим братьям и сотвориша совет, и решено было послать ту книгу в Петербург митрополиту. Митрополит получил книгу, и видя в ней написано тайное и безвестное, и ему непонятное, скоро ту книгу послал в секретную палату, где совершаются важные секреты и государственные документы. В той палате начальник был господин генерал Макаров. Сей Макаров, видя ту книгу, и в ней написано всё ему непонятно. И доложил о том генералу, который управлял Сенатом; тот же доложил самому императору Павлу. Государь повелел взять с Валаама отца Авеля и заключить его в Петропавловскую крепость.
И был Авель там, дондеже государь Павел скончался, а вместо его воцарился сын его Александр. Когда же воцарился государь Александр, приказал он отца Авеля отправить в Соловецкой монастырь, затем и в тюрьму Соловецкую…
И был отец Авель всего в Соловецкой тюрьме десять годов и десять месяцев; а на воле там жил – один год и два месяца. И видел там доброе и недоброе, благое и злое. Были ему в Соловецкой тюрьме искусы, которые и описать нельзя. Десять раз был под смертью, сто раз приходил в отчаянье; тысячу раз находился в непрестанных подвигах».
Тут не желавший показывать своего вида актёр вдруг умолк. И уже кто-то другой, откашлявшись, певческим баритональным басом – причём голос приобрёл металлический оттенок – произнёс:
– А дале было так.
Тихон слышал, как, стуча грубой обувкой, этот кто-то подошёл к библиотечным полкам, громыхнул в заэкранном пространстве какой-то деревягой и произнёс:
– Пропущу «Начало шестое», а что дальше, расскажу от себя, не книжными словами: «Прошёл я и эти тюрьмы благодаря Господу Богу и призывая имя Его. И покрыл меня Господь благодатью Своею от всех врагов. Вскоре после того все враги погибли, и память их погибла с шумом и треском. Остался я один и Господь Бог со мною. И начал тогда я, отец Авель, петь песнь победную и песнь спасительную…»
Чудо-текст звучал и звучал! Как в детстве, переполнили Тишу старинные слова сладостным изумлением: так пасечник переполняет крынку с каштановым мёдом, чтобы затем одним незаметным движением излить мёд в блюдце.
Начало седьмое. «…взял я, отец Авель, паспорт и свободу во все российские города и монастыри и двинулся из Петербурга к югу, а после к востоку, и обошёл многие страны и области. Был в Цареграде и в Афонских горах, оттуда же возвратился в Российскую землю».
При последних словах перед глазами у Тиши поплыла рваная мгла. Давно ожидавшийся обморок грубо шатнул вбок, опустил на кресло.
В миг первообморочный, миг сладкий, чернец и явился: высокий, чуть горбящий спину, по-лешачьи неуклюжий, с чубарой, растыканной во все стороны бородой.
В слабом мерцании ночника, при шевелении штор угадать выражение лица и намерения гостя было трудно: зыбился чернец! Но вскоре лик его вполне установился: впалые щёки и лоб четырёхугольный, с надбровными громадно-выпуклыми дугами. Нос любопытный, чуткий, губы сжаты сурово: на Третьякова, основателя знаменитой галереи, чуть похож. Ряса от времени порыжела, в руках – исписанные листки: жёлто-серые, по краям трёпаные. Поднесёт листки к глазам – вниз опустит. Поднесёт – опустит.
Недоверчиво и неохотно сверялся старец с написанным: только ободки очков железные – сверк-посверк. Наконец сказал:
– Авель я. Если можешь, меня не страшись. Устал я пустотень актёрскую слушать.
– Может, пустоту?
– Пусть так. Лживости и пустот не только у актёров – и в моих собственных книгах много. А наиглавнейшего – чуток!
– Разве ж ты лгал, отче, когда прозрения свои записывал?
– Не то чтобы лгал я. Просто от несовершенства письма впадал в риторику. А риторика – будь то монашеская, будь то светская – правду завсегда мертвит. Одни выверты грамматические! Краснобайством, как перцем, они пересыпаны, а мыслей нет. И действий – никаких. Околичности небес и бздюха земная. Ещё – притычки монастырские. Вот что книги мои портит. Неумелость письма от прозрений люд и отводит. Оттого и не верят предвиденьям. Но не укорять себя самого я сюда пришёл. Тебя, ротозея, на ум и на безумие пришёл наставить. А посему дрожать перестань и душу свою от меня не прячь.
– Не дрожу я. Не видишь? Я в обмороке. А в обмороках всякое случается. Могу из него вообще не выкарабкаться. Так доктор говорит. Ты лучше скажи, что значит «на безумие наставлю»?
– А то: будешь и ты безумствующий колодник! В самом скором времени будешь. Таким же безумствующим, как те, что здесь, в Спасо-Евфимьевом, изнывали. Но важно не то, что в колодки забьют тебя, а что поверхностный ум свой наконец теребить перестанешь. Высшим умом, который часто безразумием называют, заживёшь.
– А потом что?
– Потом, познав, что надо, к обычному житейскому уму возвернёшься. Не может покамест человек в жизни земной одним высшим умом – который выше причин и следствий – жить. И прямови́дением не может пользоваться. Поэтому ты заранее к будущему колодничеству готовься: чтоб не окочуриться. Прими колодничество с улыбкой. Тем паче что в предстоящие годы безумствовать будет куда важней, чем умишком поверхностным выхваляться. Только поверхностным умом ты задумал к сильному человеку прислониться, а его р-раз – и в Соликамск, и в «Белый лебедь»!
– Ни одному слову твоему не верю. Ты – часть спектакля! Из «Театра сукон» сюда пожаловал. Самарянов тебя прислал, чтоб нутро моё разворошить. А может, отомстить за уход со спектакля хочет. Я и голос твой признал: это ты за кулисами парамонарха укорял! Только я ни тебя, ни парамонарха с гусиной шеей не боюсь. В обмороке я, и точка!
– Что верно, то верно: из «Театра сукон» я сюда явился. С тоски там чуть не помер. А когда стал за кулисами о скуке театральной Самарянову толковать, тот со страху возьми да и обделайся! Сперва головой пьяной крутил-вертел и слюной брызгал: кто это, мол, со мной говорит, если рядом нет никого? Глазки-то у него слабозрячие, никуда не годные. Я ему: погодь минуту, сейчас покажусь, спектаклю играть с вами буду. А он взял и обделался. Запах самаряновский небось учуял? Быстро в отхожее место ускакал он, штаны переодел и – шмыг на подмостки. Тут уж я его отодвинул, стал вместо него читать, а куклачи жестами сцены из моего «Жития» изображали. Жаль ты ушёл.
– Можно спросить, отче? Не промахнулся ты? Я ведь, как и Самарянов, к разговорам серьёзным не готов.
– А готов почти. Правда, пустого много молотишь. Хорошо ещё пустозвонства в рукопись свою не так чтобы много вставил. Я тут в Облачной Мировой Сети – не в вашей шпиёнско-интернетовской – порылся. В ОМС каждое написанное слово в своей ячейке, как икринка до поры зреет. Если слово ненужное – икринка тускнет. Если нужное – горит огнями. Там и нашёл твои наброски. В сторону ненужную ты едва не свернул.
– Это когда ж?
– Когда про Тобольск сочинял. Сперва верно почуял, а потом наворачивать стал, как ваши писуны в дырку: про штопаных большевиков и драных монархистов. Лишь бы народ распотешить, властям угодить, денежку огрести.
– Я вообще-то издатель, а не писун в дырку!
– Это как раз хорошо. Вымученное писательство кого хошь погубит. Сделает из мужика даму-писательницу. Сю-сю, ля-ля, Фифи-Зизи, сосочек треснул! Или наоборот: всех на ножи поставит – шрапнель в голову, ядро в зад! А я тебя и остерегу, и поправлю. Чтоб дело нужное сделал и в гордыню не влип, как в дерьмо.
– Да говорю ж: не писатель я, издатель.
– Так издавай на здоровье. Но при этом издательскую книгу сочини.
– Смешной разговор у нас выходит. Тоже мне заказчик нашёлся! Литературным рабом отродясь не бывал я. Ни на кого батрачить не буду!
– Что батрачить не хочешь – похвально. Ваши литрабы, они все до единого плохо кончат. Знал и я когда-то одного…
– Ладно тебе про литрабов! Я на них до рвоты насмотрелся: с утра десятками звонят: нет ли вестей от мистера Абрамовича? Не хочет ли он написать книгу? Мы пять его фразочек на восемьсот страниц раскатаем!.. Лучше про обмороки скажи, отче.
– Что до омраков – здесь мы с тобой побратимы. Я и сам не раз в омрак падал перед тем, как на небо был восхищаем.
– Ты думаешь обморок – это выпадение в транс?
– Знать такого слова не желаю. Омрак – вознесение в жизнь иную. Правда, не всякий.
– Ну, я-то пока не на небе. И хоть в обмороке, но крепко знаю: приехал в Суздаль, в Спасо-Евфимьевом был, в номере «Хроники церковного шпиона» читал, потом «Житие» слушал. А ты если не из «Театра сукон», так из компа выскочил! Ты вирус, отче!
– Вирус – это чего? Небось дробянка заразная? Ладно, хочешь считать меня вирусом – считай. А что ты не на небе, – верно. Не заслужил покуда. А дальше – увидим.
– Ты, что ли, про небо решаешь?
– Не я. Но известно мне об этом станет непременно. Ты лучше слушай. А то омрак твой кончится, не успеешь узнать, что положено. Если ж омрак затянется – сам знаешь и лекари тебе говорили, – назад можешь и не вернуться. А рано тебе.
– Мне, может, жизнь моя давно остохренела. Протекций – ноль. В правительстве Москвы – никого. А без протекций в сегодняшней России человеку творческому и шагу не ступить!
– Да ну! Врёшь, поди…
– Уж ты поверь. Из-за этого, если честно, в издатели частные и двинул. Не хотел лебезить и лакействовать. Только изданием старых книг в последние годы и спасался. Новые-то сочинения у нас по команде сверху, а чаще сбоку поддерживают и премиалят.
– Это как же так сбоку?
– А так. Сбоку припёку средневысокие чиновники к сочинительству! А хотят частоколы из авторов – своими успехами лично им, чиновникам, обязанным – соорудить. Думают, если сажать будут, – осчастливленные им подкрылыши жалобу в международную Гаагу настрочат! Противно объяснять даже. Да и не поймёшь ты нашу теперешнюю жизнь. Вроде всё правильно делаем, а человеку правдивому как не было житья, так и нет! Делёж, пилёж и раздербан! И свойство с кумовством. И так без конца и краю! Ай да новая философия жизни! Ай да Россия, чинодралами и капиталюгами обутая!
– А куда ж царь-государь и советники его смотрят?
– Не всё в государственном теле голова решает. Чаще ноги и руки. Ещё геморрой, который за мозг нации принимают, командует. Предупреждал: не поймёшь ты нынешнюю жизнь. Но вот то, что жизнь «под патронажем» дико мне опостылела – это понять ты должен. У тебя в книгах слова про «опостылевшую жизнь» тоже есть. Тебе, значит, можно, чтоб жизнь опостылела, а мне нет?.. Расскажи лучше про церковного шпиона. Правду про тебя Пляцков написал или наврал с три короба? В конце жизни он вроде каялся…
– Не люблю шпиёнов и доносителей. Особливо раскаявшихся. Кайся не кайся, а был донос – и всё тут. Доноситель, он ведь от писанины своей сладость незаслуженную получает, радуется, что природную склонность свою обнаружил.
– А если кто-то доносчиком быть не хочет, а вы ему: натура у тебя такая и склонность? Если он исправить своё предназначение жаждет?
– Склонности каждого в судьбе его прописаны. Исправлять данное свыше нужно лишь в редких случаях. Да и трудно это. Тут сила внутренняя, неслыханная нужна. Много ты людей с такой силой встречал?
– Одного за всю жизнь только и видел.
– Ну, то-то же. А что до Пляцкова, до бурсака этого недоучившегося… Писал-то он вроде правду. Но ведь правда доносителя – только на четверть правда. Пока донос пишет – полправды, как полпирога, бес у него откусит. Потом начальничек полправды вымарает. И останется от правды цельной, неразъёмной – одна четвертушка. Про шпиёна я позже скажу, если время останется. Пока про другое послушай.
– Тебя не захочешь слушать будешь…
– Ну, слушай. Новый Авель родился. Русский Авель! Не из женщины в мир он выполз – пошатнувшуюся судьбу свою выправил! Вернул то, что растерял в ранние годы. Ты – новый Авель и есть. Поднимайся, омрак твой кончился. Я тебе не призрак – над тобою тут виться. Встань и пройди по комнате с закрытыми глазами.
– Повтори, отче…
– И повторю: теперь ты – новый Авель. Недопечённый ещё, невызревший, может, даже преждевременный. Но и такому преждевременному скажу: обмахни, как паутину, отряхни слабовидение. Зри не только оком, зри кожей и духом! Теперь иди.
– С закрытыми глазами?
– Вот именно. Но сперва ко мне подойди. А глаз не раскрывай.
Тихон, медленно ступая, подошёл.
Тонким железным прутом лупанул его старец по голове! Тихон упал на кровать. Явь, кувырнувшись, исчезла. Чуть помедлив, старец бережно во что-то – по звуку стеклянную трубочку – дунул, подступил к лежащему вплотную, оттянул ему нижнее веко, набрал воздуху в лёгкие, дунул снова, потом влил в трубочку какую-то жидкость и дунул ещё дважды. Наконец веко отпустил, завернул другое, повторил всё заново.
– А то Фёдоров-Шмёдоров, – бурчал он, легко вминая и отпуская прикрытые веками глазные яблоки, – а про прямови́дение и сферическое зрение, мигом ухватывающее всё, что за углом и под горизонтом творится, никакие фёдоровцы ещё слыхом не слыхали. Вставай, лежебока! Меня видишь?
– Вижу. И зернисто как! Лучше и ясней прежнего вижу. А рядом с тобой кто?
– Кто надо. Адъюнкт мой. Скроется он сейчас. А ты сожмурь веки и походи чуток.
Плотно сжав веки и выставив руки вперёд, но при этом не спотыкаясь, прошёлся Тиша по гостиничному номеру, завернул в ванную, вышел в коридор, вернулся.
– Вижу с закрытыми глазами! Чудеса… Как получилось, отче?
– Плёнку земного, исколотого сором и пустотой зрения я счистил. Рёберники в зрачки воткнул. Ты ведь способность к прямовидению и сферическому зрению с детства имел. И глаза у тебя ночью светились, чтоб тьму пронзать. Да иссушил дар свой из страха перед одноклассниками и соседями досужими. А год назад дар этот вроде сам собой к тебе вернулся. Знаю, начал ты сны свои пересматривать, жизнь прозорливостью укреплять стал. Теперь пройдись-ка спиной. Видеть и затылком можно.
– Не пойду спиной: лёгкие разорвёт от счастья. Я ведь сейчас как под водой шёл: замедленно, а легко! Не знал я, что зрение на ходьбу влияет. Так что затылком рано мне… – тут Тихон улыбнулся. – В детстве учителя меня упрекали: затылком ты, что ли, видишь? Но я вот что хотел узнать: если я новый Авель, тогда ты кто?
– Я – Авель прежних лет. Им и остаюсь. Ещё – Дадамей я. Всегда, до крику, до визгу, Дадамеем желал быть, – монах по-детски рассмеялся, – да только сегодня новый прозорливец нужен. Заметь себе: не пророк – прозорливец. Здесь разница огромадная, её потом разъясню. Мне же только и осталось теперь, что за тобой присматривать.
– Так ты ролями с Пляцковым поменялся? Шпионить за мной будешь?
– Роля моя и впрямь теперь другая. Но не шпионить, помогать буду! И первое, что тебе объясню: не только провозвестник я, но и благодаря новому зрению – делатель природной жизни. Как небесный коновал, мизинным пальцем убитых лошадей я обводил – и они оживали. Щелчком указательного – низких воздушных духов сшибал. Босую ступню к земле прижму – сохлые коренья шевелиться начинали. И ты с деревьев и зверья будущее знать начинай, чтобы грядущему делом помочь. Гляди прямым зрением: будет жить дерево или умрёт? Очистится река или погибнет? Не для забавы, для вспоможения используй прямови́дение! Деревья и звери – честней, лучше нас и стремления к совершенствованию в них больше. Их сверхразумие важней ума человеческого, нередко чванливого! Деревья и птицы-звери ближе к тонкой телесности. Сперва они истончатся, а уж потом человек! Дух дерева живёт долго! Глянешь, бывало, а над пнём понапрасну срубленное дерево ветвями колышет. А видел ты в степи под Таганрогом марево? Деревья и копны сена над землёй приподнятые висят. Плоти в них точно нет, но сердце глядящего именно их подлинной явью считает. Не бойся сих миражей: они отражение будущего!
– Белиберду про природу несёшь, отче. Какой-то ламаркизм навыворот!
– И слышать слов таких не хочу. А ты… Ты сам скоро узнаешь: тарабарить я сюда пришёл или правду про тонкие тела рассказать.
– Как же я это узнаю? Взвешу птицу или себя самого на спортивных весах? Милдроната нажрусь и ещё раз взвешусь? Ты брось, отче, к допингу меня склонять!
– Над взвешиваньем тел не насмехайся. Над взвешиваньем душ – тем паче! Ты ведь сам один из новых тонко-душе-телесных людей будешь. От тебя и ещё от кой-кого новая цепочка людей потянется. Поэтому ты Авель Новый и есть.
– А тогда выходит: не Авель Новый – Новый Адам я. Смешно даже… Верстальщик чужих мыслей, выравниватель кривых-косых строк – и вдруг Новый Адам.
– Не Адам! Это дело Божеское нового Адама на землю вселять. Ты без спросу к Богу с вопросами не суйся. Сказано Новый Авель! Терпила, как у вас говорят.
– Не хочу терпилой быть. Что за воровские ужимки? Не к лицу тебе блатняк, отче.
– Вор вору рознь. Некоторые из них – целые философские свитки в одно слово вкладывают… Однако ж тороплюсь я!
Старец подошёл к окну, отдёрнул штору, потянул на себя створку. День занимался рьяный, истовый. Лёгкое шевеление пластов жизни, рёв бычков, перекрик гусей, беканье овец с ближних ферм уже волной вплывали в Суздаль.
– Слушай внимательно! – Старец закрыл окно. – И для меня, и по смыслу, ты новый Авель. Но чтоб не было путаницы, имя твоё тайное сейчас шепну!
Тихон зажмурился, вмиг представился ему Таганрог, острая азовская рябь, весна, далёкий взрыв и дымок на рейде… Такого взрыва ожидал и сейчас.
– Тихомир-р! – раскатил голос монах. – Тихомир будешь зваться! Тихий Мiр наступить вскоре должон. Ты одним из первых воплощений Тихого Мiра и станешь! А по способу видеть – яроок, правдив и резок будешь. Тихомир – Ярое Око! По образу и подобию Спаса нашего устроен ты теперь. Только Ярое Око – Окояр – может пронзить жизнь до донца и преобразить её. Окояр – период будущего. Но Окояр – и человек будущего!
– Это навряд. Далеко мне до Окояра. И на Тихомира я не тяну. Да вроде и в святцах такого имени нет.
– А теперь будет! Русское имя, имя тайно ступающего по Земле Тихого Мiра да не ввести в святцы? Попреют у меня святые отцы… Имя это про себя храни. В крайнюю минуту произноси. Назовёшь имя – может, облегчение какое тебе выйдет.
– Имя я запомнил, но не верю тебе ни на грамм. Окояр – оно, конечно, красиво…
– Утро жернова вращает, ветерками движет. Двинемся дальше и мы. Тонкость телесную в обмороках ты уже испытал. Готов и в священный омрак впасть. После него в омрачный сон. Там всё недосказанное узнаешь. Слаще и важней земной жизни – сон человеческий! «Я б хотел забыться и заснуть…» Только за месяц до земной своей кончины узнал я этот стих. От Бога он! Именно во сне тело тонким сперва становится!
– Превращение костей и мяса в дух? На лету, без всякой медицины? Враки.
– Да не будь ты прямолинеен, как Павел Петрович! Тот невыносимо прям и оттого недоверчив был. Я ему про сон, а он мне про Михайловский замок. Я ему про Фому – он про Ерёму. Не всё сразу он понял, а как понял – поздно было.
– Императора Павла Первого имеешь в виду, отче?
– Его, его, мученика! Вот кого надобно страстотерпцем признать! А признали Николая, который ныне у врат небесных в парамонархах обретается.
– Ну и шутки у тебя, отче! Императора – в сторожа?
– Я не городушки городить сюда пришёл. Не до шуток мне. Выше неба – прямые значения слов в ходу. Там парамонархом не сторож зовётся, а тот, кто монарху противоположен. А определено так, чтоб дорожил титулом монарха! Был, не спорю, Второй Николай человеком сердечным. А вот правителем – непостоянным. Много нового задумал – мало сделал. Если ж вернуться к первопричине событий, каковые с 1801 до 1918 год проистекли…
– Не надо, брось! Всю плешь революциями и контрреволюциями, монархами и парамонархами проели.
– Не перебивай… А только скажу тебе сразу: что на земле со страстотерпцем Павлом пока не свершили, в наднебесье давно исправлено.
– Опять непонятно, отче.
– Павлу Петровичу, до хруста в глазах мной любимому, открыл я про возможный конец империи. Правнука ему назвал, про старца свято-нечестивого добавил на ухо. Эту часть разговора государь понял, обеспокоился страшно. Велел тотчас составить записку подробную, чуть не палкой погнал меня её писать. Через день представил я записку. Его величество изволил слезу обронить, а потом сказал: «Об империи невыносимо жалею. И правнука до боли жаль, читать про его простосердечие и мягкодушие мне невозможно…»
– Ещё про судьбы империи скажи!
– Ишь, досужий. Хватит покуда. А про Второго Николая добавлю: не все понимали и замечали – не мягкодушен, а нов и тонко-телесен он потиху-помалу становился. Двор, свита, родня, военные, даже некоторые церковные чины считали его малоумным и к правлению непригодным. Загодя оправдывали своё будущее предательство, которое по отношению к нему позже и совершили. А Николай Александрович пригоден был и тогда, и ныне пригоден. Правда, не к вашему, а к высшему правлению. Как срок парамонарший выйдет – снова управлять станет. Но уже телами тонкими. Второй Николай и был предвестник Тихого Мiра! Вот и написал бы ты про это. Только кратко, без собачьей брехаловки и бабьего визгу. Да за все царствования не хватайся. Напиши концевую от года 1801 до года 1918 – их часть! Изложи суть царских мыследел в картинах и образах. Как блоховед-историк, не мелочись. И без тебя – хрень и лабудень у вас в исторической литературе! Сил нет читать. Подобно писунам сегодняшним не балясничай: связи незримые никто из них восстановить не умеет. Мои записи Спасо-Евфимьевских лет тоже пока не все обнаружены. Пусти в ход прозорливость, историю про трёх царей чуйкой схвати. Нужно это, ох как нужно! Такая же история, протяжением в 117 лет, но, конечно, с новыми персонами в России скоро опять повториться может!
– Ты это твёрдо знаешь?
– Обязательно повторится! Ежели опять не будет осознано вашими правителями то, о чём сказал, сперва четырежды подвергнутый анафеме, а затем признанный святым, отец «Золотой поток», а по-вашему – Иоанн Дамаскин: «Бог всё предвидит, но не всё предопределяет!»
– А тогда про каких царей? Петра Великого? Екатерину? Александра Освободителя?
– Видел я в городке Павлово, под Нижним, три фигуры. Для вышибания шарами они были выточены. Чудом угадал мастер-нижегородец именно тех царей, чьи судьбы были вышиблены. Сейчас как раз эти судьбы важно охватить душою и разумом! Вот они: Павел Первый. Сын его Александр. Правнук Павла Мученика – Николай. Ухватись за них. Невозможно – а ухватись! Только одно невозможное и удаётся. Чтоб ещё раз Россия за горизонт не скатилась, покажи суть и наполни царей живою плотью! А то набивают тома, как чердачных кукол, исторической тырсой.
– Про историческую тырсу – это ты хорошо…
– Павел, Александр, Николай, с ними цесаревич Алексей – вот кровавый сгусток сбитой с пути, а потом растерзанной Империи! Сейчас они самый яркий пример для Державы будущего. Сгусток этот освободить от мёртвых волокон-сосудов вы что-то припозднились. Вены, забитые мёртвой кровью, прочистить опоздали. Глянь: в умывальне у тебя три куска мыла и обмылок крохотный в мыльнице. На них из незавёрнутой трубки ржа ледяная каплет. Если трубку не завернуть – через час в бесформенный ком куски слепятся. А через день от мыла мутная водица останется… Теперь про другое: в своём управленческом деле некоторые из царей наших чуть не до сорока лет медлили! Небесное мгновение – сорок земных лет составляет. И не всегда есть у неба возможность за полным сорокалетием наблюдать. На земле же некоторые из этих небесных мгновений были бездарно потеряны. Павел не потерял бы. Но слишком спешил, чуя срок свой краткий. Пока на небе иными делами занимались – враг человеческий, словно в издёвку, девять из десяти частей царствия у Павла Петровича откусил. Я царей предупреждал. За предупреждения в тюрьмах гнил. И теперь в провидцы не гожусь. Новый прозорливец нужен. Ты им и станешь, если сдюжишь. Для тебя моё воскрешение и произошло.
– Наговорил, набуровил. Голова пухнет. Какой из меня прозорливец? Подскажи лучше, где искать потерянную тетрадь, отче? Выпишу оттуда твои видения, опубликую.
– Подскажи, подскажи… А ночной горшок тебе не принести? Не знаю я. Кто-то сильно-могучий тетрадь спрятал. И ещё закавыка: по-новому о старом писать я не умею. И о новом по-старому – не годится. Это дело писателишек ваших, историю до горы раком устанавливать: как очередная власть укажет – так и установят! Кого надо – в жидком дерьме утопят, кого надо – до солнца вознесут. Сам всматривайся, сам прозревай. О прозреваемом записывай своечасно. Вовремя не запишешь – всё нутро тебе издырявят прозрения. Не спеша людям глаза на прозорливость и тонкотелесность отворяй! Новый человек повсеместно являться станет, когда заново мир наш увидит. А вернут себе люди прозорливость – не будет больше на Руси никакое иго владычествовать!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































