Текст книги "Подвиг Искариота"
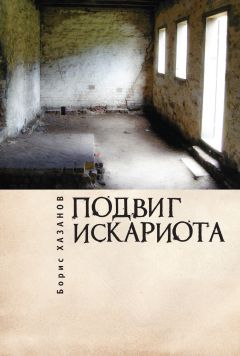
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Фридрих Горенштейн и русская литература
1
Некий загадочный персонаж, именуемый Антихристом, неизвестно откуда взявшийся, «посланный Богом», появляется в русской деревне, в чайной колхоза «Красный пахарь», куда случайно заходит девочка-побирушка Мария. За столиком у окна сидит подросток, судя по одежде, горожанин, но с пастушеской сумкой, молчаливый, чужой всем, и подаёт ей кусок хлеба, выпеченного из смеси пшеницы, ячменя, бобов и чечевицы, «нечистый хлеб изгнания». Странный гость встречается ей то здесь, то там на дорогах огромной страны. Где-то на окраине южного приморского города он становится на одну ночь её мужем. Мария рожает ребёнка, превращается в малолетнюю проститутку, попадает в тюрьму и умирает пятнадцати лет от роду. Так заканчивается первая часть романа Фридриха Горенштейна «Псалом». Антихрист приносит несчастье всем, кто оказывается на его пути, но и вносит в их существование какой-то неясный смысл, вместе с действующими лицами объёмистой книги взрослеет и стареет, в эпилоге это уже сгорбленный и седой, много повидавший человек. Его земной путь завершён, и он не то чтобы умирает (хотя говорится о похоронах), но исчезает.
Для чего Дан, он же Антихрист, посетил землю, отчасти становится понятно на последних страницах романа. Поучение Дана представляет собой антитезу Нагорной проповеди.
Пелагея, приёмная дочь Антихриста и праведная жена, спрашивает:
«Отец, для кого же принёс спасение брат твой Иисус Христос: для гонимых или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?
Ответил Дан, Антихрист:
«Конечно же, для гонителей принёс спасение Христос и для ненавидящих, ибо страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя».
«Отец, – сказала пророчица Пелагея, – а как же спастись гонимым, как спастись тем, кого ненавидят?»
Ответил Дан, Антихрист:
«Для гонителей Христос – спаситель, для гонимых Антихрист – спаситель. Для того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: любите врагов ваших, благословите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. А я говорю вам: любите не врагов ваших, а ненависть врагов ваших, благословляйте не проклинающих вас, а проклятья их против вас, молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших есть печать Божья, вас благословляющая…»
Вот, оказывается, в чём дело: обессилевшее христианство нуждается в новом учителе, который велит отнюдь не благословлять гонителя, но видеть в нём самом награду и благословение. Антихрист – не противник Христа, дьяволово отродье, но какой-то другой, новый Христос.
Родившийся в 1932 г. в Киеве Фридрих Наумович Горенштейн испытал на себе тяжесть гонений с детства. Если бы на родине Горенштейна нашёлся его биограф, он мог бы увидеть в детских мытарствах будущего писателя ключ к его творчеству. Отец Горенштейна, профессор-экономист и партийный функционер, в годы Большого террора был арестован и погиб в заключении, мать скрывалась с малолетним сыном. В начале войны она умерла в эшелоне эвакуированных, он оказался в детском приюте. Долгое время вёл полулегальное существование, был строительным рабочим, позднее окончил горный институт, одновременно пробовал себя в литературе. В Советском Союзе Горенштейну удалось напечатать (в журнале «Юность», июнь 1964) только одно произведение – рассказ «Дом с башенкой»; на исходе 70-х, в неофициальном, фактически полулегальном альманахе «Метрополь» появилась повесть «Ступени»; по сценариям Горенштейна было поставлено несколько фильмов, в том числе «Солярис» Андрея Тарковского. Осенью 1980 года, измученный политической и этнической дискриминацией, Горенштейн оставил отечество. Он поселился в Западном Берлине, где всецело отдал себя литературе – два десятилетия работал, как одержимый. Здесь он и скончался от рака поджелудочной железы 2 марта 2002 г., не дожив двух недель до своего 70-летия.
После событий конца восьмидесятых годов сочинения Фридриха Горенштейна, прежде публиковавшиеся в зарубежной русской печати и во французских и немецких переводах, стали появляться в России. Напомню, что он автор нескольких романов, среди которых в первую очередь нужно отметить упомянутый выше «Псалом», «Искупление» и «Место», большой пьесы «Бердичев», которую можно назвать сценическим романом, пьес «Споры о Достоевском», «Волемир», «Детоубийца», многочисленных повестей и рассказов, разнообразной (и в целом уступающей его прозе) публицистики. Десять лет тому назад в Москве, в издательстве «Слово» вышел трёхтомник избранных произведений с предисловием Л.Лазарева; пьесы Горенштейна шли в московских театрах. Но и сегодня в отношении к нему на родине есть какая-то двойственность; писатель, наделённый могучим эпическим даром, один из самых значительных современных авторов, остаётся полупризнанной маргинальной фигурой.
2
В 1988 г., в интервью, помещённом в книге американского слависта Джона Глэда «Беседы в изгнании», Фридрих Горенштейн говорил о Ветхом Завете: «Библейский взгляд обладает ужасно проникающей и разящей больно силой. Он не оставляет надежды преступнику».
Мы знаем, что ветхозаветная литература стала питательной почвой его творчества. Можно предположить, что чтение Библии повлияло на становление его личности.
Горенштейн был трудным человеком. Если я осмеливаюсь говорить о нём, то потому, что принадлежал, как мне казалось, к сравнительно немногим людям, с которыми Фридрих умудрился не испортить отношений. Я горжусь тем, что имел честь быть одним из его первых издателей (до того, как роман «Псалом» впервые в России был опубликован в «Октябре», он вышел небольшим тиражом в Мюнхене) и, кажется, первым написал о нём.
Горенштейн слыл мизантропом, в своей публицистике никого не щадил, был уверен, что окружён недоброжелателями. Но трудно найти в современной русской литературе писателя, который выразил бы с такой пронзительной силой боль униженных и оскорблённых. Прочитав «Искупление» и «Псалом», иные сочли автора злопыхателем-отщепенцем, ненавидящим родину. Между тем именно о Горенштейне можно было сказать словами Пушкина: «Одну Россию в мире видя…» Эту Россию он поднял на такую высоту, до которой не смогли дотянуться профессиональные патриоты.
Его имя никогда не было модным, журналисты не удостоили его вниманием, никто не присуждал ему премий, критиков он не интересует, – похоже, он для них слишком сложен, слишком неоднозначен. Не зря сказано: «Они любить умеют только мёртвых», – многие просто не читали его и только теперь начинают догадываться, что проморгали крупнейшего русского писателя последних десятилетий.
3
«Литература – это сведение счётов». Французский писатель Арман Лану, сказавший эту фразу, возможно, не отдавал себе отчёта в её многозначительности. Литература – сведение счётов с жизнью и способ отомстить ей, отомстить так страшно, как никакое несчастье не может мстить. Да, литература может превратиться в сведение счётов с горестным детством, с властью, с жестоким простонародьем, имя которому – российское мещанство, со страной, которая всем нам была и матерью, и мачехой и, может быть, больше мачехой, чем матерью. Искусство обладает непререкаемостью высшей инстанции, его приговоры обжалованию не подлежат. Но в том-то и дело, что, нанеся удар, искусство врачует.
Небольшой роман «Искупление», который можно считать одной из вершин творчества Ф.Горенштейна, заставляет вспомнить слова Гёте: «Проклятие зла само порождает зло». Молоденькая девушка Сашенька, жительница южнорусского городка, только что освобождённого от оккупантов, становится носительницей зла, которое превосходит и её, и всех окружающих; это зло неудержимо разрастается, выходит из-под земли вместе с останками зубного врача и его близких, над которыми совершено изуверское надругательство, зло настигает самих злодеев, зло везде, в каждом, и, кажется, нет выхода. Но искупление зла приходит в мир: это младенец, ребёнок Сашеньки и лейтенанта Августа, который приехал с фронта, чтобы узнать о судьбе своих еврейских родителей, и, увидев воочию, что с ними случилось, уезжает, чтобы не поддаться искушению самоубийства.
В «Псалме», с его пронзительной жалостью к гонимым, с покоряющей пластичностью образов, прежде всего женских, с его странноватой теологией, – искупления зла как будто не предвидится; можно возразить, что раны исцелит время, забвение сотрёт следы злодеяний, что искупление несёт сама жизнь, которая продолжается, вопреки всему. Но ведь это всё равно что не сказать ничего. Дан уходит, оставив сына, другого Антихриста, рождённого праведницей… И всё-таки искупление есть, и мы его чувствуем – в самой фактуре произведений писателя, возродившего традицию русской литературы XIX века, её исповедание правды в двояком, специфически русском смысле слова: правды-истины и правды-справедливости. Искупление – это сама книга, страницы слов, искусство.
В отличие от большинства современных российских авторов, Горенштейн – писатель рефлектирующий, при этом он весьма многословен, подчас тёмен: вы проваливаетесь в философию его романов, как в чёрные ночные воды. На дне что-то мерцает. Попробуйте достать из глубины это «что-то», – мрачное очарование книги разрушится. Пространные рассуждения автора («подлинного» или условного – другой вопрос) сотканы из мыслеобразов, почти не поддающихся расчленению; их прочность отвечает рапсодически-философскому, временами почти ветхозаветному стилю.
С философией, впрочем, дело обстоит так же, как во всей большой литературе только что минувшего века, для которой традиционное противопоставление образного и абстрактного мышления потеряло смысл. Рассуждения представляют собой рефлексию по поводу происходящего в книге, но остаются внутри её художественной системы; рассуждения – не довесок к действию и не род подписей под картинками, но сама художественная ткань. Обладая всеми достоинствами (или недостатками) современной культуры мышления, они, однако, «фикциональны»: им можно верить, можно не верить; они справедливы лишь в рамках художественной конвенции. Рефлексия в современном романе так же необходима, как в романе XIX века – описания природы.
Здесь встаёт вопрос о субъекте литературного высказывания в произведениях Горенштейна: кто он, этот субъект? Рассуждения, вложенные в уста героя, незаметно перерастают в речь самого автора. А может быть, это автор, ставший героем? Кто, например (если вернуться к роману «Псалом»), рассуждает о нищенстве, развивает целую теорию о том, почему в стране, официально упразднившей Христа, по-прежнему просят подаяние Христовым именем, а не именем Совета народных комиссаров? Кому принадлежит гротескный, почти идиотический юмор, неожиданно прорывающийся там и сям на страницах горестного романа? Как ни у одного другого из его собратьев по перу, в прозе Горенштейна можно подметить ту особую многослойность «автора», которая в русской литературной традиции прослеживается разве только у Достоевского. Этой многослойности отвечает и неоднородность романного времени. Писатель, сидящий за столом; автор, который находится в своём творении, но стоит в стороне от героев; наконец, автор-рассказчик, потерявший терпение, нарушающий правила игры, автор, который расталкивает героев и сам поднимается на помост. Вот три (по меньшей мере) ипостаси авторства, и для каждой из этих фигур существует собственное время. Но мы можем пойти ещё дальше: в романе слышится и некий коллективный голос – обретающее дар слова совокупное сознание действующих лиц.
Все эти границы зыбки, угол зрения то и дело меняется, не знаешь, «кому верить»; проза производит впечатление недисциплинированной и может вызвать раздражение у читателя, привыкшего к простоте и внутренней согласованности художественного сооружения. Однако у сильного и самобытного писателя то, что выглядит как просчёт, одновременно и признак силы. Такие писатели склонны на ходу взламывать собственную эстетическую систему.
4
«Ничего… Твоё горе с полгоря. Жизнь долгая, – будет ещё и хорошего, и дурного. Велика матушка Россия!»
Эта цитата – из повести Чехова «В овраге». Бывшая подёнщица Липа, с мёртвым младенцем на руках, едет на подводе, и слова эти, в сущности бессмысленные, но которые невозможно забыть, произносит старик-попутчик. Чувство огромной бесприютной страны и обостряет горе, и странным образом утоляет его. Чувство страны присутствует в книгах Фридриха Горенштейна, насыщает их ужасом, от которого веет библейской вечностью. Его романы – не о коммунизме, хотя облик и судьбу его персонажей невозможно представить себе вне специфической атмосферы и привычной жестокости советского строя. Вместе с тем Россия всегда остаётся гигантским живым телом, неким сверхперсонажем его книг, и гротескный политический режим для него – лишь часть чего-то бесконечно более глубокого, обширного и долговечного. Горенштейн – ровесник писателей, которых принято называть детьми оттепели, тем не менее он сложился вне оттепели и даже в известной оппозиции к либерально-демократическому диссидентству последних десятилетий советской истории. Это надолго обеспечило ему невнимание критиков и читателей и в самой стране, и за её рубежами.
В многотомной «Краткой еврейской энциклопедии», выходящей в Израиле с 1976 г., всё ещё не законченной, имя Горенштейна упомянуто в статье «Русско-еврейская литература». Можно согласиться с автором статьи Шимоном Маркишем; можно оперировать и другими рубриками. Для меня Горенштейн представитель русской литературы, той литературы, которая, как и литература Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Америки и многих других стран, немыслима без участия писателей-«инородцев» и для которой уход Горенштейна – одна из самых больших потерь за истекшую четверть века.
Накануне отъезда на квартире Марка Розовского было устроено для узкого круга слушателей в присутствии автора чтение «Бердичева». Пьесу читал сам хозяин. Под конец он заплакал. Чтение закончил другой человек. Впечатление от пьесы было поразительным.
Я встречался с Фридрихом Горенштейном в разных обстоятельствах и по разным поводам, последний раз – в Мюнхене, когда он выступал с чтением в маленьком русско-немецком книжном магазине. На другой день я приехал к нему в гостиницу. Фридрих был хорошо настроен, почти весел, много и охотно говорил, выглядел пополневшим. Со своими отвисшими усами он напоминал кота. Может быть оттого, что был страстным любителем кошек. И невозможно было представить себе, что через несколько лет он умрёт в Берлине от мучительной болезни.
2001
Писатель – журналист – писатель: Эренбург и Вайян
Nous croyons devoir prevenir le public que nous ne garantissons pas I’autenthicite de ce recueil, et que nous avons meme de fortes raisons de penser que ce n’est qu’un roman.
Les Liaisons dangereuses. Avertissement de l’Editeur[4]4
Мы считаем свом долгом предупредить публику, что мы не ручаемся за подлинность этого собрания писем, и более того, у нас есть веские основания полагать, что это не что иное, как роман. Пьер-Амбру аз-Франсу а Шодерло де Лакло, Опасные связи. Предуведомление издателя (1782).
Цитаты из «Интимных записей» Р.Вайяна – в переводе автора статьи.
[Закрыть]
Гладко зачёсанные, умащённые бриолином волосы, модный костюм, внешность сноба. Ухватки фата. Круг друзей: поэты-сюрреалисты, анархо-революционеры, «коммунизаны». Любимое общество: шлюхи. Ночные странствия по кабакам. Американские башмаки. Виски. Марихуана. Стеклянный, временами почти мёртвый взгляд. Дьюк Эллингтон. Моцарт. Ещё виски. Взлететь и упасть. А потом написать роман.
Из дневника:
Великие люди, вот кто делает историю… Но меня интересует, каким образом история даёт развернуться великим людям. Я полюбил коммунизм за то, что он разбудил большевиков, стальных мужей, львов. Сталин: человек из стали.
Гуманизм стал реакционным. Гуманизм – это оружие привилегированных классов… Я против гуманизма.
Девушка ждёт автобуса на вокзале в Маконе. Прогуливаясь, работает попкой, этого достаточно, чтобы сделать её интересной, и она это знает. Сидя, стоя – какое спокойствие и самообладание, какая уверенность в себе…
Ещё виски и дивертисмент Моцарта. Писатель живёт с женой-итальянкой, несгибаемой коммунисткой и верной подругой, в домике на окраине деревни, в тишине и благодатном климате, в предгорье Французских Альп. Розы, орхидеи.
Чувство тревоги, внутреннее беспокойство; выпив, он не может усидеть на месте. Хлопнуть дверцей своего «ягуара», вывернуть с просёлочной дороги на автостраду и дать газ. Холодный, почти мёртвый взгляд. На светящемся диске не хватает нескольких делений, чтобы оторваться от бетона и взлететь к небесам. Писатель свободен, ибо он выбрал свободу. Он свободен, ибо выбрал революцию. Он свободен, и поэтому он член коммунистической партии. Несмотря на то, что он член партии, он свободен. Всё дурное, что говорится о Советском Союзе, – клевета врагов свободы.
Записи в дневнике:
Седьмая неделя без выпивки… Советский человек не может смотреть на вещи глазами западного человека, не может мыслить так, как мыслит западный человек, не может реагировать как он – и наоборот. Точно так же в алкогольное время невозможно смотреть на вещи, думать, реагировать как в трезвое время года.
В последние месяцы много занимался любовью… Мулатка Эммануэла в лесу св. Франциска. Аромат чёрных и жёстких волос под мышками. Согласилась, как будто речь идёт о чём-то само собой разумеющемся, но смотрит с любопытством. Хотела сниматься в кино и ещё Бог знает что… Магда, в заведении на улице Capo le Case. Изысканная учтивость римских блядей… Роланда с площади Этуалъ…
Часов в одиннадцать заснул, со снотворным, как обычно. Проснулся в десять минут первого. И– застонал: ё… твою м…! (Merde!) Какая тоска!»
Вернулся из Москвы. Две недели тому назад, когда я туда приехал, в аэропорту, в зале ожидания ещё стоял Сталин. Теперь статую закрыли белым чехлом. Скоро её уберут. Придут рабочие, повесят петлю на шею, приладят лебёдку, и поминай как звали… Теперь и мне пришлось снять со стены его портрет. Я человек несентиментальный. Однажды я прогнал женщину, которую любил больше всего на свете; смотрел, как она тащит свои чемоданы, спускаясь по лестнице; она подняла ко мне лицо, залитое слезами, это лицо отпечаталось в моём сердце, но я не заплакал… И когда Франция в июне сорокового года была разгромлена, я не пролил ни слезинки. А когда умер Сталин, я плакал. И теперь снова я плакал, плакал всё ночь. Плакал о Мейерхольде, которого убил Сталин, и плакал о Сталине-убийце.
Ответы на «анкету Пруста» (известную в России по ответам Маркса):
Какое качество вы предпочитаете в мужчине? – Трезвый взгляд на самого себя.
Ваш любимый цвет? – Чёрный, как волосы женщин на берегах Средиземного моря.
Что вы больше всего не любите? – Отвечать на вопросы!
* * *
В домашней библиотеке Ильи Эренбурга стояли изящные томики – подарок друга, собрание сочинений Вайяна, выпущенное в шестидесятых годах. Сейчас в книжных магазинах Парижа можно найти только роман «Закон»; всё остальное давно не переиздаётся.
Умерший весной 1965 года на 58-м году жизни от бронхогенного рака лёгких, некогда известный в СССР писатель и журналист Роже-Франсуа Вайян, возможно, заслуживает того, чтобы считаться малым классиком французской литературы XX века. Две-три книги всё-таки дают ему право на этот ранг, и прежде всего «Закон» («La Loi», гонкуровская премия 1957 г.). По-русски, в образцовом переводе Н.Жарковой, роман появился уже после смерти автора; то, что переводилось и пропагандировалось во времена, когда Вайян состоял в рядах так называемых прогрессивных писателей Запада, другими словами, был членом компартии, носило отчётливый отпечаток этой принадлежности и забыто, по-видимому, прочно.
Я помню разговоры и споры с известным литературным критиком, старинным и близким другом, которого приводили в негодование попытки так или иначе объяснить преклонение некоторых западноевропейских писателей перед Сталиным и советским режимом; моему собеседнику казалось, что я склонен их оправдывать. Он не мог простить ни прокоммунистических симпатий Сартру и Симоне де Бовуар, ни двусмысленной лояльности престарелому Бернарду Шоу, ни тем более коммунистических убеждений какому-нибудь Роже Вайяну.
И в самом деле, читая заметки Бовуар о чуть ли не ежегодных поездках с Сартром в СССР, испытываешь неловкость – ведь неглупые же, в конце концов, были люди. О другой супружеской паре, Луи Арагоне и Эльзе Триоле, и говорить нечего: их поведение порой нельзя было назвать иначе как постыдным.
Причин было много, не последнюю роль играли высокие гонорары в полноценной валюте, которые отваливали советские издательства за всё, что переводилось и выпускалось неслыханными в Западной Европе тиражами. Но главными оставались – если не для всех, то для многих – идейные ориентации. Решающим был политизированный образ мыслей, пресловутые политические убеждения, всегда основанные на бинарной схеме: враг моего врага – мой друг, друг врага – враг. Питать отвращение к Советскому Союзу, брезгливость по отношению к корявому вождю народов, испытывать, казалось бы, вполне естественные чувства – означало оказаться в лагере правых. Быть независимым в этой системе представлений значило зависеть, «лить воду на мельницу». Сюда присоединялась и та особая казуистика, по которой попытки неуважительно отозваться о политике квалифицируются как «тоже политика».
То, что эти друзья мира и социализма в свою очередь «льют на мельницу», что их известность, талант, их ум или глупость, честность или суетность беззастенчиво используются, что они затянуты в машину, в данном случае – советскую пропагандистскую машину, как будто не доходило до их сознания.
* * *
Политическое мировоззрение может сыграть с писателем злую шутку. Политическое мировоззрение предписывало этим властителям дум носить шоры, запрещало интересоваться всем, что могло оказаться разоблачительной правдой; эти люди, как дети, могли утверждать, что XX съезд «открыл им глаза»; они не хотели знать ни о коллективизации, ни о голоде, ни о тотальном сыске и всеобщем доносительстве, ни об убийствах, поставленных на конвейер, ни о системе принудительного труда, не имели представления о реальной жизни в советском государстве, о всеохватной лжи и неслыханной по размаху и наглости пропаганде, – не хотели знать и поэтому ничего не знали. СССР был маяком, светочем – и в то же время оставался провинцией мира, полуазиатской страной, сама по себе она их мало интересовала, они были поглощены политической борьбой в собственной стране, русского языка не знали, социализм, коммунизм – эти слова в их устах имели совершенно иной смысл.
Политические убеждения не разрешали им допустить ту простую мысль, что если бы, не дай Бог, режим, подобный советскому, победил в их собственной стране, они мгновенно лишились бы своих кафе и привычных удобств, своих клубов и редакций, возможности собираться вместе и дискутировать, говорить что думаешь и писать что хочешь, жить где вздумается и ездить по разным странам. Поборники свободы, они как будто не догадывались, а если догадывались, то не решались сказать вслух о том, что страна, внушавшая им чуть ли не религиозный пиетет, была царством тотальной несвободы. Они по-прежнему видели в Советской России бастион левых сил и защитницу всех угнетённых – между тем как режим в такой же мере заслуживал наименование «левого», как и крайне правого, приобрёл отчётливые фашистские черты – не заметить их мог только слепой.
Но они могли бы возразить, что в их собственной стране социальная несправедливость и социальная борьба отнюдь не были выдумкой марксистов, что в борьбе за права трудящихся коммунисты стояли на переднем крае, что в годы оккупации – память о них была свежа – партия стала активной участницей Сопротивления, что Советский Союз расколошматил Гитлера… Словом, ясно, что они могли бы сказать.
* * *
Эта филиппика понадобилась не ради того, чтобы осудить или оправдать Вайяна, – хотя в целом тема отнюдь не утратила актуальности, – но для того, чтобы оценить, понять некоторые из приведённых выше записей, предназначенных отнюдь не для публики. Пусть не удивляет сегодняшнего читателя плач по Сталину, эти сопли, размазанные на листах дневника. Быть может, писатель оплакивал самого себя. Холодному снобу, каким он хотел казаться, либертену-аморалисту в манере виконта де Вальмона, героя высоко ценимого Вайяном романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», которому (и роману, и герою) он немного подражал, – пригрезилось, что он обрёл великую веру. «Ecrits intimes» – ворох заметок, дневниковых записей, писем, набросков статей и заготовок прозы – были опубликованы вдовой Вайяна в конце 60-х годов, и, надо сказать, иные страницы этого тома принадлежат не к худшему из написанного Вайяном.
Илья Эренбург (известность Вайяна в СССР – в большой мере его заслуга) посвятил умершему другу главу в своих мемуарах, страницы, полные недомолвок, рассчитанные одновременно и на сообразительность читателя, и на его неосведомлённость. Но они принадлежат к немногому и лучшему, что написано на русском языке о Роже Вайяне. Эренбург привёл и выдержки из «Интимных записей», в то время рукопись ещё не была издана.
О многом, как водится, мемуарист умолчал. Между июнем и июлем 1956 года в дневнике Вайяна крупными буквами посредине листа начертано: QA NE M’INTERESSE PLUS. (Мне это больше неинтересно.)
Означает ли эта запись, что он поклонялся священным коровам только потому, что это было «интересно»?
Пятьдесят шестой год: доклад Хрущёва и начало оттепели. Пятьдесят шестой год – это также советские танки в Будапеште и кровавое подавление венгерского восстания. Но воздержимся от слишком прямолинейных толкований. Вайян подписал протест против вторжения в Венгрию. Несколько времени спустя он вышел из Французской коммунистической партии, и всё же нельзя утверждать, что идеи коммунизма, классовой борьбы, пролетарской революции и т. д. вполне утратили для него убедительность. Просто они перестали его интересовать. Невозможно утверждать, что он и прежде был образцовым коммунизаном. Слишком трудно было сочетать индивидуализм с партийной дисциплиной, сексуальную свободу и даже одержимость сексом, эксцессы, которым чуть ли не до конца жизни предавался Вайян, – с партийным аскетизмом, рифмовать свободомыслие с догмой, независимость художника с идеологией. Нельзя даже сказать, что его вообще перестала интересовать политика (последняя опубликованная им статья называлась «Eloge de la politique», «Похвальное слово политике»). И всё-таки.
Эренбурга можно было бы избрать как модельную фигуру, противоположную Вайяну. Эренбург любил называть себя писателем, употребляя это слово в широком смысле; очевидно, что правильней было бы назвать его журналистом, который хотел быть не только журналистом. Кем же ещё? Писателем. И он как будто осуществился в этой роли, – как будто. Слишком многое, и не только недостаток художественного дарования, мешало блестящему, в других отношениях богато одарённому Эренбургу стать писателем-художником. На его примере можно видеть, чем отличается журнализм от писательства: вопреки распространённому мнению, это две вещи несовместные. Мы говорим не только о политике в собственном смысле. Речь идёт о чём-то большем: об отношении к действительности, о способе видеть, воспроизводить и преображать мир.
* * *
Французское слово journal означает «журнал» в том смысле, какой это слово имело в русском языке первой половины XIX века: дневник («журнал Печорина»); другое значение – газета.
На примере Эренбурга хорошо видно, чему может научить многолетняя деятельность журналиста, то есть работа для газет: оперативности, чуткости, злободневности, умению вращаться, как флюгер, спешке, которая становится рабочим методом, риторическому суесловию, привычному злоупотреблению языком, умению навести блеск на общие места, умению носиться, как по льду на коньках, по поверхности событий, наконец, искусству маскировать тенденциозность. На примере этого автора, единственного европейца среди всех своих советских коллег, очень много сделавшего, очень много написавшего и отнюдь не ушедшего навсегда ad patres, – если сегодня читать его книги почти невозможно, то его путь, его личность, его гуманизм и человеческое обаяние по-прежнему незабываемы, – на примере Ильи Григорьевича Эренбурга можно видеть, как глубоко внедрённая, регулярно, как наркотик, впрыскиваемая в кровь несвобода мысли становится, начиная по крайней мере с тридцатых годов, второй натурой; трёхтомные мемуары «Люди, годы, жизнь», последнее и, вероятно, значительнейшее творение Эренбурга, – памятник этой несвободы.
Вайян, который совсем молодым человеком стал журналистом-газетчиком, репортёром, объездившим весь свет, прошёл путь в противоположном направлении. Он испытывал непреодолимую потребность быть писателем. Он им стал.
* * *
Предки Роже Вайяна были савойскими крестьянами, родители – мелкими буржуа из провинциального городка в северном департаменте Уаза. Он окончил престижную Высшую нормальную школу в Париже. Как уже сказано, занялся журналистикой. Рано пристрастился к наркотикам, окунулся в богему, практиковал, вслед за своим кумиром Артюром Рембо, dereglement de tons les sens (раздрызг, расстройство всех чувств). Пробовал себя и в художественной литературе, испытал сильнейший соблазн сюрреализма.
Словечко surreal изобрёл Аполлинер. Литературная школа, присвоившая себе это название, пришедшая на смену дадаизму, сложившаяся после первой Мировой войны, ушла в прошлое (мы не касаемся сюрреализма в живописи и кино, который оказался более долговечным). Но тот, кого однажды, пусть издалека или даже спустя много лет, коснулось её веяние, вправе сказать, что сюрреалистическое письмо – не отвлечённая программа, но некая фаза в эволюции писателя. Во всяком случае, живя сегодня, невозможно не учитывать её уроки. Нельзя представить себе серьёзного прозаика, который не принимал бы к сведению эксперимент сюрреализма.
Сюрреалистическому мировоззрению не надо учиться. Самые разные писатели только что минувшего века становились сюрреалистами в своих попытках вырваться из засасывающей традиционной прозы – ничего не зная о Бретоне и Супо, не интересуясь фрейдизмом.
Подсознание, насколько его можно вообще «осознать» и артикулировать; сновидение – театральные подмостки подсознания или, если угодно, сверхсознания; причудливая образность, автоматическое письмо, сексуальный туман, «чёрный юмор», метафизический алогизм, символ, не поддающийся расшифровке, – все эти приобретения литературы первой трети XX в., разумеется, давно перестали быть новинкой и вместе с тем не утратили своей новизны.
Мы сказали: фаза, этап. Вайян, в отличие от «корифеев» – Бретона и Арагона, кстати, вступивших и в ФКП, не стал знаменосцем сюрреализма. Он был человеком другого темперамента. Когда он пытался теоретизировать, выходила путаница (примером может служить послевоенная статья «Le Surrealisme contre la Revolution»). В его зрелом творчестве сюрреалистская юность почти не оставила следов; ссора с Арагоном подвела черту под целой эпохой. В июне 1940 г. Франция капитулировала. Вермахт оккупировал значительную часть страны, Третью республику сменило «Французское государство» под началом престарелого маршала Петена в Виши. Вайян, сперва было ставший коллаборационистом, примкнул к Сопротивлению (которому позже посвятил свой первый роман), сделался настоящим бойцом – не литературным, а реальным, ушёл в подполье, ежедневно рисковал жизнью, считался специалистом по пусканию под откос поездов с немецкими солдатами и вооружением.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































