Текст книги "Подвиг Искариота"
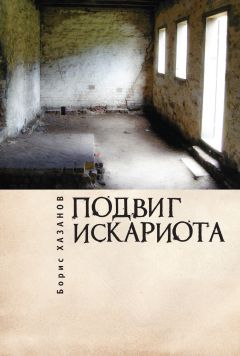
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
* * *
Герой небольшого (и отнюдь не лучшего в наследии Роже Вайяна) романа «La Fete», «Праздник», многоопытный стареющий писатель Дюк повторяет слова Вайяна: «Мне это больше не интересно». Дюк – бывший коммунист и журналист, борец за права угнетённых, едва не расстрелянный в Алжире. Теперь он живёт на вилле среди живописной природы и только что начал роман «Праздник», который мы читаем. У Дюка и его жены гости – начинающий писатель Жан-Марк с молоденькой женой Люси. Работа не клеится, Дюку нужна встряска, жена понимает его и молча соглашается отпустить мужа и Люси в трёхдневный вояж; Жан-Марк тоже как будто не возражает. В номере отеля, где остановились Дюк и Люси, устраивается праздник любви, описанный со знанием дела, после чего краткосрочные любовники возвращаются к супруге и супругу, и Дюк с новыми силами принимается за роман.
«Мой метод, – говорил Вайян в одном из многочисленных интервью, – превратить каждую главу в законченную сцену. Я начинаю писать не раньше, чем представлю себе обстановку и поведение действующих лиц во всех подробностях, так что уже не могу переставить мебель, изменить диалог…». Жёсткая эстетика, трезвость и ясность повествования, дисциплинированное письмо, – стиль зрелого Вайяна ориентирован на классиков XVII–XVIII веков: мадам де Севинье, герцога Сен-Симона, Шодерло де Лакло; к ним надо присоединить Бенжамена Констана и Стендаля. От двадцатого века у Вайяна – особый остро-сладковатый сок, которым пропитана его суховатая проза: всепроникающий эротизм.
Так написан «Закон», созданный в летнем доме на юге Аппенинского полуострова, в Абруццах, где одно время жил Вайян. Заголовок не лишён иронического смысла, потому что «закон» есть не что иное, как торжество произвола и беззакония. Вместе с тем речь идёт о чём-то большем, чем игра, в которую играет вся Южная Италия. Речь идёт о неизбывном, вечном законе жизни, в которой состарившихся владык побеждают молодые хищники, чтобы уступить место хищникам следующего призыва. Это очень мрачная книга.
Играют в карты, в кости, иногда просто тянут жребий на соломинках. Выигравший, именуемый хозяином, padrone, получает право распоряжаться судьбой того, кто проиграл. «Хозяин» может им помыкать, как ему вздумается; проигравший превращается в безмолвного раба. Между прочим, игра в «закон» удивительно напоминает уличные игры подростков, процветавшие во времена нашего детства, в Москве, за тысячу вёрст от Италии.
Действие романа происходит в городке, где есть полиция, есть суд и так далее, но всё это – видимость. Господствуют два зверских инстинкта, идёт борьба за власть над городом и за девственность юной красотки Мариетты. Побеждает сама Мариетта – будущая хозяйка города.
Алгебра и философия детектива
Дорогая, вы меня ошарашили. За кого вы меня принимаете? Мне хотелось ответить Вам классической фразой: «Я честная девушка». Писатели, как и добродетельные девицы, дорожат своей репутацией и не опускаются до пошлых жанров.
Предполагается, что существуют жанры серьёзные и несерьёзные. Когда-то Зощенко говорил, что он пишет в неуважаемом жанре короткого рассказа. До сих пор, по крайней мере на Западе, издатель с кислой миной встречает предложение выпустить сборник новелл. «Ты бы лучше, дяденька, дал нам роман». – «А чем это хуже романа?» – «Ну, всё-таки…» – «Тогда, может, будем считать книжку романом в новеллах?» – «О, это другое дело».
Предполагается, далее, что низкий жанр – это что-то такое, что не требует от автора больших усилий: сел и написал. Вы предлагаете мне сочинить детектив.
(Заметьте, как изменилось значение этого слова: ещё сравнительно недавно под детективом подразумевали сыщика, а не рассказ о нём.)
Сделаю вам признание: я уже пробовал. И, представьте себе, убедился, что это совсем не так просто. Не хочу подробно распространяться о том, что из этого получилось, скажу только, что получилась скорее пародия на прими, другими словами, нечто такое, что рискует вызвать раздражение у потребителя криминальных романов. Польза от этого упражнения была, по крайней мере, та, что заставила меня задуматься над тем, что, собственно, представляет собой детективный жанр.
Недавно в наших местах с почётом проводили «на заслуженный отдых» (как говорили когда-то в России) любимца публики Хорста Таппера; телевидение посвятило ему целый вечер. Германия, как вы знаете, не блещет по части детективной литературы и детективного фильма. «Деррик» оказался исключением. За тридцать лет было снято умопомрачительное количество серий, обер-инспектор отдела убийств мюнхенской уголовной полиции успел состариться, пожалуй, чуточку облез и все-таки не утратил свой шарм и феноменальный нюх, а главное, принёс Второму немецкому телевидению (ZDF) огромный доход. Ни один немецкий сериал не пользовался такой популярностью внутри страны и во множестве стран, куда он был продан.
В чём дело? Рынок детективной литературы, как и рынок уголовно-приключенческого телевидения, переполнен; пробить себе дорогу на этом торжище трудней, чем во времена нашей молодости протолкаться на Тишинском рынке. На первый взгляд, персонаж по имени Штефан Деррик чрезвычайно банален.
За полтора века существования детективного жанра, гениального изобретения Эдгара По (напомню вам, что «Убийство на улице Морг» появилось в провинциальном журнальчике «Graham’s Magazine» в апреле 1841 г.), все мыслимые ситуации преступления оказываются уже использованными. В одном исследовании по систематике детектива, помещённом в парижском журнале «Ouvroir de litterature potentielle» (на него ссылается в работе «Абдукция в Укбаре» Умберто Эко), приведён список всех существующих вариантов убийцы. Преступник может быть слугой или дворецким в аристократическом доме (литературный предок такого слуги – Смердяков в доме Фёдора Павловича Карамазова), наследником, жаждущим завладеть страховым полисом, ревнивой женщиной, психопатом, киллером. Преступление может совершить повествователь или даже следователь, распутывающий дело; не хватает только, чтобы убил сам читатель.
Нетрудно было бы составить и каталог охотников за убийцами. Это может быть комиссар угрозыска, как Мегрэ в романах Жоржа Сименона; гениальный сыщик-любитель, эксцентрическая личность наподобие Огюста Дюпена в рассказе «Убийство на улице Морг»; приватный детектив, как Шерлок Холмс с его прославленным «дедуктивным методом» у Конан-Дойла или приторно-любезный щёголь Эркюль Пуаро у старой Агафьюшки – Агаты Кристи; пожилая респектабельная дама мисс Марпл у неё же; католический священник у Честертона; учёный знаток оккультной и каббалистической литературы в рассказе Борхеса «Смерть и буссоль»; средневековый монах в романе Эко «Имя розы». Каждый из них представляет собой некий тип или, лучше сказать, пародию на то, что в учебниках истории литературы именуется литературным типом. Детектив может сидеть в тюремной камере, как дон Исидро Пароди в цикле новелл Бьоя Касареса и Хорхе Борхеса. Он может быть двумя персонажами или, наконец, компьютером, как в одном рассказе покойного писателя Якова Варшавского, где загадкой является не убийца, а детектив.
В телевизионном сериале «Деррик» выбран случай достаточно стереотипный: сыщик – старший инспектор уголовной полиции. Мы видим коридоры мюнхенского полицей-президиума, рабочий стол Деррика, за которым он, правда, проводит очень мало времени. Мелькают легко узнаваемые улицы, парадные площади или, напротив, глухие, безлюдные закоулки старого города.
По примеру литературоведов формальной школы, занимавшихся классификацией сюжетов (все сюжеты мировой литературы сводятся к небольшому числу простых формул), можно было бы предложить нечто вроде криминального исчисления, или алгебры детектива. Сыщик А разыскивает убийцу X. Намечаются разные решения. Своими соображениями А делится с другом или подчинённым В (Холмс с доктором Уотсоном, Деррик с младшим инспектором Клейном), при этом В выдвигает более или менее правдоподобных кандидатов из набора X1, Х2, Х3… Хn. К этим предположениям склоняется и читатель, потому что В, собственно, и есть не кто иной, как читатель, перенесённый в пространство литературного повествования. Все версии рушатся одна за другой. Детектив А, более проницательный, чем и В, и читатель, находит решение, поражающее своей неожиданностью.
Все серии «Деррика» следуют одной из двух традиционных моделей криминального фильма: первая – вместе с инспектором мы ищем таинственного злодея, или вторая – зритель знает, кто убийца, и следит за тем, как гениальный детектив распутывает клубок. Каждая серия длится 55 минут. Соблюдено правило жанра: вам всегда сообщаются все факты, необходимые и достаточные для раскрытия тайны. Другое дело, если вы пропустили их мимо ушей.
Но чем же всё-таки очаровал зрителей – самых разных зрителей – знаменитый тандем, старший инспектор Деррик и его помощник Клейн? В фильмах заняты высокоталантливые актёры, и каждый из них создаёт жизненно-убедительный образ за одну-две минуты (время дорого!). Фильм рождает иллюзию подлинной жизни. Оказывается, жуткие события происходят здесь, рядом с вами, на соседних улицах. Вы можете оказаться по ходу действия в криминальной компании, среди весьма крутых ребят, но от жестоких сцен насилия, драк и пыток, от всякого рода натуралистических крайностей вас избавляют. Нет того, что называется action, одуряющих автомобильных гонок и т. п., вообще очень заметно желание дистанцироваться от американского стиля. И, наконец, сам Деррик.
Деррик– воплощение бюргерской порядочности. Это не народный человек, в отличие от комиссара Мегрэ, и не аутсайдер, как незабвенный Огюст Дюпен; это приличный, благовоспитанный господин с безупречными, чуточку старомодными манерами, который говорит на хорошем немецком языке и умеет вести себя в любом обществе. Он одинок, все его интересы сосредоточены вокруг его работы; он рыцарь справедливости. (Не правда ли, нам с вами трудно представить себе такие качества у милиционера или следователя в России.) При этом он достаточно трезв и знает жизнь настолько, чтобы понимать, что искоренить преступность невозможно; вдобавок он живёт в правовом государстве, где закон весьма чувствительно ограничивает деятельность полиции; подчас, разоблачив преступника, инспектор вынужден оставить его на свободе из-за отсутствия достаточных юридических доказательств вины. Деррик высок, статен, одет со вкусом, дорого и скромно. Деррик верит в существование единственной и окончательной истины и ее добивается.
Дорогая, я прочёл вам – не имея на это, в сущности, никакого права – целую лекцию о детективном жанре. Но теперь мы дошли до существенного пункта. Это – вопрос об истине.
Лет двадцать тому назад была опубликована новелла Джона Фаулза «Загадка» («The Enigma»), попадалась ли она вам? Неожиданно исчез депутат парламента Джон Филдинг, подозревают, что он убит. Следствие ведёт Нью-Скотленд-Ярд – никакого результата. Чтобы как-то закрыть тухлое дело, его сплавляют некоему Майку Дженнингсу, следователю на вторых ролях. Молодой следователь принимает нерутинные меры, ему удаётся напасть на след. Всё развивается как будто по канонам детективного повествования.
Задача Дженнингса – не столько выяснить обстоятельства предполагаемого убийства, сколько восстановить интимную жизнь сэра Джона, скрытую за респектабельным покровом. По ходу дела следователь знакомится с девушкой, близкой к семье депутата. Это начинающая писательница, ее художественное воображение подсказывает следователю оригинальное решение. Необходимость отшлифовать версию заставляет молодых людей встретиться несколько раз в неофициальной обстановке, история завершается поцелуями.
А как же член парламента? Если вы захвачены интригой, но не замечаете, что вас развлекают, это лучший признак, что детектива удался. Интрига несётся к разрешению загадки, как поезд к конечной станции, а тут? Тайна исчезновения Филдинга не то чтобы не раскрыта, но как-то перестаёт быть интересной. Истина, за которой охотится следствие, дезавуирована как таковая. Интрига несется к неожиданной развязке, только неожиданность эта вовсе не та, какую предписывают каноны жанра. Ибо оказывается, что расследование было не поиском преступников, а поиском смысла жизни. Этот смысл – встреча мужчины и женщины, любовь.
Перед нами, разумеется, пародия, может быть, крайний случай пародии на криминальную повесть. Но вернёмся к «Деррику». Если говорить о его сценарии, тут мы имеем дело со стопроцентным тривиальным детективом, из которого умело сработан тривиальный телесериал. При этом сценарист и режиссёр отнюдь не собираются водить зрителя за нос. Даже если бы детективный фильм имел форму комедии, основы жанра не могут быть подвергнуты осмеянию. Принципиальная серьёзность остаётся его важнейшим свойством, как и свойством тривиального искусства вообще, будь то литература или кино.
Другая черта крими — конвенциональность. Подобно классической венской оперетте, подобно итальянской комедии масок, детективный роман неукоснительно следует канону, вот почему так легко и удобно строить «алгебру детектива», обнажая его проволочный каркас. Кодекс предписанных правил предъявляет жёсткие требования автору и в то же время поощряет его изобретательность: так иконопись стимулирует вдохновение живописца в тесном пространстве канона. Нарушение детективного канона вызывает внутренний протест у потребителя, воспринимается как художественный изъян. Само собой, канонический реквизит включает и вечно повторяющиеся мотивы, например, the locked room mystery, преступление, совершённое в комнате, запертой изнутри.
Вопрос: можно ли представить себе полноправное присутствие канонического детектива в заповеднике «настоящей», серьёзной литературы?
В конце концов, этот жанр успешно эксплуатировали не только авторы уровня Марининой или Донцовой. Криминальным жанром не гнушались выдающиеся мастера.
Верно; однако мы только что с вами видели, что из этого получалось.
Дело выглядит так, что современному писателю, если он берётся за детектив, остаётся лишь пародировать классиков жанра: По, Честертона, Конан-Дойла, – или, лучше сказать, пародировать жанр.
К двум качествам «нормального» детектива (серьёзность и конвенциональность) я бы добавил ещё одно: детективный роман не должен ослеплять читателя совершенством стиля. Иначе он потеряет читателя. Ведь вопрос о достоинствах крими невозможно отделить от вопроса, кто его потребитель. Заострив эту мысль, можно сказать: автор тривиального детектива не только имеет право, но и обязан писать плохо. Когда журнал «Неприкосновенный запас» (приложение к «Новому литературному обозрению») устроил обсуждение творчества Александры Марининой, один из участников, Борис Дубин, заметил, что в пятнадцати романах он сумел найти два более или менее живых, незатасканных выражения. Дело, однако, не только в языке или стиле.
Если бы вы предложили мне сформулировать в самом кратком виде философию детективного романа, я ответил бы, что это – философия единой и единственной истины. Сыщик разгадывает тайну, следить за его поисками доставляет читателям тем больше удовольствия, чем меньше он пользуется ухищрениями техники и чем ярче демонстрирует проницательность своего ума, умение нешаблонно мыслить и дар внезапного прозрения. Гениальный сыщик, будь то вполне серьёзный Холмс или откровенно пародийный дон Исидро, обходится безо всякого технического оснащения. Силой ума он раскрывает преступление, другими словами, постигает истину. В детективном повествовании существует презумпция истины. Сыщик не может ответить неопределенно: «убийца – это либо X1, либо Х2»; «преступление могло состояться, а могло и не состояться». Ибо истина только одна. Эта истина столь же «объективна» и столь же принудительна, как в точных науках. Читатель (зритель) ждёт определённый ответ и получает его.
Между тем с истиной в современной литературе дело обстоит непросто. Мир миметического (в России предпочитали говорить – реалистического) романа XIX века предстаёт таким, каков он есть «на самом деле»; никаких сомнений в его аутентичности не может быть. Романист в этом мире всеведущ. Он читает во всех сердцах. Ему доступна вся полнота истины. Читатель принимает эту конвенцию как нечто само собой разумеющееся, вслед за автором он верит в то, что существует некая единообразно читаемая версия действительности, окончательная истина, эту истину возвещает художник. Анна Каренина не знает о существовании Толстого, но Толстой об Анне знает всё, и нет оснований сомневаться в достоверности его знания.
После грандиозной литературной революции, начало которой, как я думаю, положил Достоевский, концепция всеведущего автора пошатнулась. Новая литература – это уже не возвещение абсолютной истины, это литература версий. Писатель знает, что действительность зыбка и неоднозначна, что в жизни всё происходит и так, и не так, что вопреки формальной логике А может быть не равно А.
На этом фоне серьёзный, то есть написанный с самыми честными намерениями, детективный роман выглядит несерьёзно. Сколько бы ни старался сочинитель сделать его современным, актуальным, модерным, шикарным, это – литература архаическая, пахнущая нафталином; литература, с точки зрения поэтики, эпигонская и глубоко ретроградная. Её можно только «обыгрывать», пародировать, как некогда автор «Дон-Кихота» пародировал антикварный рыцарский роман.
Выходит, серьёзный детектив вовсе не имеет права на существование? Но вся массовая культура питается объедками былых пиров – крохами с высокого стола, который давно уже покинут сотрапезниками. Если быть последовательным, пришлось бы потребовать выкинуть на помойку вместе с детективным романом 98 процентов всей литературной и кинематографической продукции развитых стран.
Дорогая, будьте здоровы. Прочтите на сон грядущий какой-нибудь рассказ Борхеса, Рекса Стаута или на худой конец доброго старого Конан-Дойла. Adieu.
Дневник сочинителя
1
Знал бы кто-нибудь, что скрывается на дне моих романов! Какая сумятица чувств стоит за этими тщательно отделанными страницами. Меня самого воротит от моих хищных инстинктов. Лишь когда я работаю, они оставляют меня в покое… Надеюсь, этот Дневник, который я собираюсь вести по возможности без перерывов, поможет мне разобраться в самом себе. Я хочу раскрыться весь, ничего не тая, с абсолютной искренностью и точностью… Что из этого выйдет? Не знаю. Но я буду доволен уже тем, что такая рукопись существует[5]5
Все цитаты в переводе автора статьи.
[Закрыть]. (Жюльен Грин. 17–18 сентября 1928 г.)
Любопытный опыт – перечитать Дневник, который ты вел сорок лет, от начала до конца… Уйма вопросов встает перед автором. В эти книги он вложил добрых две трети своей пролетевшей жизни. Что изменилось за эти годы – в нем самом и вокруг него? Когда, читая эти страницы, вспоминаешь детство, то видишь себя поднимающимся по лестнице с подсвечником в руке – странный образ, не правда ли?.. Я спрашиваю себя, что это за средневековое занятие, которому я предаюсь, когда рука моя скользит по бумаге, выводя мелкими буквами строчку за строчкой. И, остановившись, смотрю в окно, ветер качает деревья, и я пытаюсь взглянуть на себя сквозь ночь времен глазами читателя из какого-нибудь 2010 года, – если на минуту допустить химерическую мысль, что этот Дневник, начатый сорок лет назад, сумеет одолеть такое же расстояние до будущего. Будут ли тогда вообще читатели? Будут ли еще расти деревья? Абсурдные вопросы. Но вопросов неабсурдных больше не бывает… Поистине мы влачимся навстречу невообразимому. (Предисловие к Дневнику, 1969.)
Писатель Жюльен Грин был на восемь месяцев моложе Двадцатого века. Его фамилия напоминает об англо-саксонском происхождении, он сын американцев-южан. Но вырос он во Франции. Учился и воспитывался в протестантском лицее; подростком, начитавшись Паскаля, решил перейти в католичество. В первую мировую войну Грин был санитаром на фронте. После войны учился в Соединенных Штатах; хотел стать священником или художником, увлекался буддизмом и учением о переселении душ, в конце концов вернулся в лоно римской церкви. Семидесятилетним стариком он занял кресло во Французской академии, освободившееся после смерти Франсуа Мориака. Жюльен Грин написал несколько томов мемуарной прозы и множество романов, некоторые из них давно закрепили за ним репутацию классика европейской литературы XX века. Похоже, однако, что его Дневник, не менее пятнадцати томов, затмил его беллетристику.
Мысль вести Дневник была подсказана, как это часто бывает, чтением другого Дневника. Согласимся, что знаменитый Журнал братьев Эдмона и Жюля Гонкуров – одна из самых увлекательных книг французской литературы. Но эта хроника литературной и общественной жизни Парижа времен Второй империи и последующих лет была для Грина скорее отрицательным примером. В его Дневнике поразительно мало «исторических» реалий, общество смутно вырисовывается на заднем плане; перед нами документ внутренней, а не внешней жизни. Дневник Грина – это нескончаемая песнь одиночества. В лучшем случае – одиночества перед лицом Творца.
Минувшей ночью я стоял один на лужайке в саду, было холодно, я вперялся в черное небо – тысячи сверкающих звезд. Я был весь охвачен – со мной это случается – восторгом и тревогой, сам не знаю почему; и мне почудилось, что молчаливый голос произнес: зачем искать в глубинах неба то, что в тебе самом?.. (7 августа 1956 г.)
Ровная и непоколебимая вера в Бога – такой же неблагодарный материал для художественной прозы, как и счастливая любовь. Великие книги настояны на сомнениях и невзгодах, темных порывах, страстях и отчаянии. О Грине можно сказать то же, что сказал о себе Мориак: catholique et romancier, mais non pas romancier catholique (католик и романист, но не романист-католик).
Смысл этих слов, возможно, состоит в том, что человек, чей духовный мир непредставим вне религии, становясь писателем, погружается в магму жизни, над которой религия не властна. Нужно отдать себе отчет в том, что творчество не есть «путь к Богу». Искусство не обещает прозрения, не склоняет к обращению или чему-нибудь в этом роде, романы пишущего католика – отнюдь не душеполезное чтение. Искусство съеживается, едва только в книге появляется отдаленное подобие указующего перста. Невозможно, оставаясь художником, служить Богу в общепринятом церковном смысле – или придется перестать быть художником; таково первое противоречие, с которым принужден жить верующий писатель.
Но Дневник! В своих записях Жюльен Грин, которому мысль о глубокой греховности искусства – мысль русских писателей, мысль Гоголя и Толстого – в общем-то чужда, предстает человеком, чей ум и совесть одолевают другие сомнения. Сомнение в истинности веры: было время в жизни писателя, когда он вообще порвал с Богом. Невозможность примирить реальный мир со сверхреальным. Грин сравнивает себя с человеком в лодке; уплывая все дальше в океан, он не может отвести взгляд от земли. Центральный мотив Дневника – вечное как мир противостояние духа и плоти. Точка короткого замыкания – жизнь пола. Диарист цитирует пятую главу Марка, где говорится о бесноватом, который жил в гробах и вышел навстречу Иисусу, когда тот причалил к берегу Тивериадского моря. «Эти гробы – это моя память, кладбище запрещенных радостей».
И мы как будто догадываемся, о чем конкретно идет речь. Мальчику-лицеисту, взрослому человеку и, наконец, старику искушения плоти, которым он подвержен в сильнейшей степени и которым не в силах противостоять, кажутся вратами погибели. Довольно часто разговор идет о гомоэротизме, осознанном достаточно рано (об этом можно судить по небольшому автобиографическому роману «Другой сон»). Постепенно борьба с демоном принимает сверхценный характер; Грин мечтает стать отшельником, святым; необычайно сильное чувство жизни порождает желание бежать от жизни.
Этой ночью, когда я собирался потушить свет – было около двенадцати, – в дверь постучались. Семь ударов. Резкие, отрывистые. Я встал и спросил: кто там? Никакого ответа. Как ни странно, это меня ничуть не испугало. Я подождал, потом пошел открывать – никого не было.
Начинаю новую тетрадь… Для меня это всегда некое событие, и причина его – мистическая белизна чистых, еще не исписанных страниц, которые, кто знает, может, так и останутся белыми. А так как эта тетрадь совершенно такая же, как и та, первая, в 1928 году, – у меня странное искушение писать так, словно жизнь начинается сызнова…
Все эти дни я недомогаю. Я чувствую себя, как орех в щипцах, которые медленно сжимаются… О beata solitudo, блаженное одиночество! Как тяжко его переносить. Десять часов, в доме никого нет. А мне хочется слышать голоса, разговоры, смех, шаги в соседних комнатах, – лишь в кабинете, где я работаю, я хочу быть один. Это оттого, что я вырос в большой семье. Нас было восемь или десять, бесконечная болтовня, пение; и вот теперь эта тишина. Мне нужны эти отсутствующие и чтобы кто-нибудь меня искал… (27 сентября 1962 г.; 13 марта 1963 г.)
2
Литературный жанр, который представляет собой протест против литературы с ее жанрами и приемами; протест против самой сути художественного творчества – его условной, игровой природы. Вот что такое Дневник, который ведет писатель.
Дело в том, что он больше не хочет быть писателем. Ему надоело играть в прятки, надоело толкаться среди вымышленных героев, в искусственной, изобретенной среде, он хочет вернуться к самому себе, как хозяйке хочется уйти от гостей в соседнюю комнату и посидеть там одной. В самом деле, в Дневнике писатель намерен быть только самим собою. Он возвращается к собственной личности, если угодно – пытается убедить себя в том, что он существует как личность; он решил быть правдивым до конца, но не в том смысле, который имеют в виду, говоря о правде искусства, а в буквальном смысле: правдивым перед самим собой.
Теперь он пишет не для других – для себя. И все же рано или поздно встает вопрос о публикации. Такая мысль не может не прийти в голову писателю Дневника – на то он и писатель. Допустим, он ее отвергает. Он отнюдь не намерен разоблачаться перед читателями, «снять штаны со своей стыдливости», как выразился однажды Мопассан. И, однако, независимо от намерений автора, подчас против его воли интимные заметки приобретают статус литературного текста; писатель убеждается, что извечный парадокс и проклятие литературного ремесла не минуют его и теперь: под его пером все становится литературой.
Как если бы он уподобился фригийскому царю Мидасу: все, что он берет в руки, превращается в золото. Как если бы балерина с ужасом обнаружила, что она не может ходить нормальной походкой: каждый шаг – танцевальное па. С ужасом, потому что писатель чувствует, что литература его обманывает, обыгрывает. «Ведь я сочинитель, – сказано у Блока, – человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка».
Привычка распоряжаться языком как материалом, отбирать слова и строить фразу подводит писателя, ведь он собирался просто фиксировать свои мысли, чувства, впечатления, старался всего лишь не грешить против истины. Что такое истина? Разве чернила или удары клавиш не действуют на нее, как кислота на белок, разве литературная запись не денатурирует действительность, подобно тому как присутствие наблюдателя в физическом опыте искажает то, что предстоит наблюдать?
Он хотел уйти к себе, но и там его подстерегает словесность. Он полагал, что остался наедине с самим собой, допустим, что так оно и есть, – но вдумайтесь в двусмысленность этого выражения: наедине с собой. Дневник адресован тому, кто его пишет. Дневник – двойник. «Спокойной ночи, г-н Музиль», – этой фразой поздно вечером Роберт Музиль заканчивает свой день. Фраза написана дважды. Как эхо, живущее вне того, кто его породил, отзывается голос второго «я».
3
Ради чего, собственно, пишется Дневник? Для кого?
Мы сказали: сочинитель не может не думать о публикации. Во всяком случае, не может не считаться с вероятностью того, что Дневник будет обнародован посмертно. Диарист принимает превентивные меры. Стопки тетрадей запираются на ключ, папки, облепленные сургучом, отправляются в банковский сейф. Не вскрывать, не читать, не печатать прежде такого-то срока. Завещания в этом роде выражают двойственное отношение писателя к своему внебрачному детищу. Он знает: Дневник имеет сверхличную ценность. Если не сам автор, то его наследники, издатели, литературоведы когда-нибудь предадут гласности эти тайные письмена.
Хотел ли он этого? Есть только один способ предотвратить посмертную публикацию – или способ превозмочь искушение самому опубликовать Дневник. Незадолго до смерти Александр Блок предал огню значительную часть личных записей. Томас Манн спалил в печке для сжигания мусора на участке позади виллы в Pacific Palisades добрых пол сотни коленкоровых тетрадей. Жюльен Грин, регулярно выпускавший в свет томы своих дневников, сделал исключение для самых ранних записей: они уничтожены.
Вопрос, поставленный выше, задает себе сам диарист, но едва ли он сможет дать однозначный ответ. Эротика писания Дневника не всегда ясна ему самому. Дневник порожден нарциссической тягой разглядывать себя; Дневник есть особая разновидность самоудовлетворения. Дневник отвечает потребности, заложенной в глубинах личности: выразить себя, запомнить себя, остановить поток своей жизни, оставить следы своего существования. Дневник подобен страсти фотографироваться. Дневник – своего рода позиционная война со смертью, с ежедневным отмиранием.
Дневник ведут для себя, только для себя. Это исповедь перед самим собой, бегство в собственный мир, документ самоанализа, саморазоблачения, самомучительства, самоупоения; писание Дневника напоминает хождение голым в запертой квартире.
Дневник писателя – это его мастерская. Здесь намечаются планы, фиксируются этапы работы. Сюда заносятся сюжеты и наброски. Регулярная дань литературе. (Слово diarium первоначально означало ежедневный рацион римского легионера, а также раба.)
Дневник – это другое «я», двойник и соглядатай, и немой собеседник, которому можно поверить все тайны, на которого хочется взвалить все тяготы, все неудачи, все разочарования, всю вину и ответственность; Дневник, подобно наркотику, есть способ освободиться от самого себя.
Но верно и противоположное: Дневник ведут не столько для себя, сколько для других. Дневник похож на любовное письмо: сказать все в лицо, признаться прямо в своих чувствах невозможно, а на бумаге язык развязывается. Письмо, присланное с того света. В Дневнике можно поведать близким обо всем; покойнику все разрешается. Призрак Банко на пиру у живых – посмертно опубликованный Дневник.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































