Текст книги "Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов"
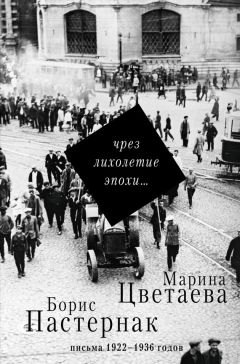
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Письмо 53
19 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
До этого было три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять. Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное молчанье твоей руки. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Я в жизни не запомню тоски, подобной вчерашней. Все я увидел в черном свете. Болен Асеев ангиной, четвертый день 40 градусов. Я боюсь, боюсь произнесть, чего боюсь. И все в таком роде. Так я не могу, не хочу и не буду тебе писать. Я страшно дорожу временем, ставшим твоим живым раствором, только разжигающим жажду. Я дорожу годом, жизнью и боюсь нервничать, боюсь играть этим нечеловеческим добром. По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда мы каши с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из-за нее. Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамленьи и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св. Себастьян. Я боюсь и коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии. Попало ни в чем не повинным. Я письмо получил на лестнице, отправляясь в Известия, где не был четыре года. Я вез им стихотворенье, написанное слишком быстро для меня, об Англ<ийской> забастовке, уверенный, что его не примут. В трамвае прочел письмо и стихи (если это – банка, то анод и катод, и вся музыка, и весь ад, и весь секрет, конечно, в них: Зачем тебе, зачем / моя душа спартанского ребенка). И вот таким, от тебя и за тебя, влетел я в редакцию, хотя и своего достаточно было. Они не знали, куда от меня деваться. Единственное, похожее на человеческую мысль, что они сказали, было: поэт в редакции это как слон в посудной лавке. М<ежду> пр<очим>, я слишком высказался там в тот день, и м.б. мои общие страхи возвращаются и к тому вечеру. Среди всего прочего я сказал, что, начав играть в нищих, все они стали нищими, каких не бывает, каких бы только выставляли в зверинцах, если бы природа и пр. и пр.
Соображенья житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «I-ою частью» целого, уверовать в написанье второй и сдать написанное в журнал. Я над вещью работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвященье тебе написать по окончании всего, и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог.
Посвященье
Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».
Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень – Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.
Ему б уплыть стихом во тьму времен.
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог ату,
Естественный, как листья леса, стон.
Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.
Тут – понятье (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, – моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства. Писал в странном состоянии, доля которого, впрочем, была и в значительно худшем, т. е. просто плохом, для газеты стихе об Англии. Так как оно кончается тем же колечкоподобным, узким и втягивающим словом, что и посвященье, то вот:
Событье на Темзе, столбом отрубей
Из гомозни претензий по вытяжной трубе!
О будущность! О бьющийся об устье вьюшки дух!
Волнуйся сам, но не волнуй, будь сух!
Ревущая отдушина! О тяга из тяг!
Ты комкаешь кусок газетного листа,
Вбираешь и выносишь и выплевываешь вон
На улицу, на произвол времен.
Сегодня воскресенье и отдыхает штамп
И не с кого списать мне дифирамб.
Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет,
Но в праздник нет торговли в Огоньке!
И вот, прибой бушующий, не по моей вине
Сегодня мы с тобой наедине.
Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков.
В потоке дышл и лошадей поток и бег веков.
Все мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель
И дни ложатся днями на панель.
По палке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук.
Конаясь, дни пластают век, кому начать игру.
Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей,
Но столб вручную взмывших обручей.
* * *
Событье на Темзе, ты вензель в коре
Влюбленных гор, ты – ледником прорытое тире.
Ты зиждешь столб, история, и в передвижке дней
Я свижусь с днем, в который свижусь с ней.
Хотя я сегодня немножко успокоился и снова помню и знаю, отчего остался на год, а отсюда и: зачем, но до полученья письма от тебя темы Рильке затрагивать не в состоянии[37]37
А также и думать о нём, а писать ему и подавно. – Приписка Б.Л.Пастернака.
[Закрыть]. Это именно то письмо, которое мне грезилось и которого я и в сотой доле не заслуживаю. Он ответил немедленно. Но когда, помнишь, я запрашивал у тебя посторонних и действительных опор для решенья, лично для себя я избрал, как указанье, именно это письмо, вернее срок его прихода. Я не рассчитал, что совершить ему предстояло не два, а больше четырех концов (везли с оказией к родным в Германию, оттуда послали ему, м.б. не прямо, от него на Rue Rouvet, потом на океан, потом лишь от тебя ко мне). У меня было загадано, если ответ его будет вложен в письмо с твоим решеньем, послушаюсь только своего нетерпенья, а не тебя и не «другого» своего голоса. И, верно, хорошо, что тогда вы с ним разошлись. Но что ты разошлась с ним вторично, что вместе с ним пришла не ты, а только твоя рука, потрясло меня и напугало. Успокой же меня скорее, Марина, надежда моя. Не обращай вниманья на скверные стихи в письмах. Вот увидишь Шмидта в целом. Если же посвященье плохо, успей остановить.
<На полях:>
Я твоей просьбы отн<осительно> Над<ежды> Ал<ександровны> еще не исполнил. Ты должна меня простить. Это тоже из самосохраненья. Боюсь избытка тебя в делах и в дне. С исполненьем просьбы запоздаю.
Письмо 54а
<ок. 22 мая 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку
Мой отрыв от жизни становится все непоправимее. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью, обессиленной жизнью, а живой из живых.
Подтверждение – моя исполнительность в жизни. Я исполнительна как раб. Только унеся вещь из дому, я могу ее понять, изымя<сь>, отвлечась.
Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем, я слишком суеверна, боюсь вслух, боюсь сглазить [то, что все-таки, очевидно, является – счастьем] – не объяснить. Боюсь оказаться неблагодарной. Но, очевидно, мне так трудно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу – полную. В тебя.
Борис, ни один мой час не принадлежит мне. Никуда не могу уйти, все заранее распределено. Я бы и умереть не могла – п.ч. распределено. Кем? Мною. Моей заботой. Я не могу, чтобы Аля не мылась: Аля, мойся! по 10 раз. Я не могу, чтобы газ горел даром, я не могу, чтобы Мур ходил в грязной куртке, я не могу —. У меня горд<ость> нищего – не по карману, не но собственным силам. И вот, как заведенная: <оборвано>. Борис, я тебя хочу – без завода, в каком-то жизненном промежутке, в состоянии паузы. Такая пауза – мост, поезд, всё, что движется: переносной пол, maison roulante[38]38
дом на колесах (фр.).
[Закрыть] – моего (и м.б. твоего) детства.
Я ненавижу предметы – я загромождена ими. Точно мужчина, давший честное слово уехавшей жене, что все будет в порядке. Поэтому – не упорядоченная жизнь, а безумие, вдруг среди разг<овора> – срывается: забыла, вывешено ли полотенце: солнце, нужно воспользоваться.
Словно вытверженный урок – как Отче Наш, с которого не собьешь, п.ч. не понимаешь ни слова.
Нынче письмо от Аси. Есть о Мо́лодце. «Борис, по своей добр<оте>, увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя». Ты опять прав. Конечно, простое освобождение: от чего? от насилия жизни, от непременности жить. [Она честно как нужно оберегалась от счастья. Оно пришло. Разве важно, – что именно во время Херувимской.] Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее – за себя. Что они будут делать в «огнь-синь»? Лететь в него вечно. Так я вижу счастье. Никакого сатанизма. Просто сказка, как упырь – силой любви – превр<ащается> в человека (его нарастающие, крепчающие предостережения, его мольбы!). А человек – Маруся – силой той же любви – в упыря <вариант: нечеловека> (перешагнула же через мать! – через себя! – в конце: через ребенка и барина). Как в Греции: любовь делает богов людьми и людей – богами.
Херувимская? Так народ захотел. И, нужно сказать, хорошо выбрал час для встречи. Борис, я не знаю, что́ такое кощунство. Любовь. М.б. – степень огня? Красный – синий – белый. Белый (Бог) м.б. силой бел, чистотой сгорания? Чистота. Мое обожаемое слово.
То, что сгорает без пепла – Бог. Так?
А от этих – моих – в простр<анстве> огромные лоскутья пепла.
Продолжение
То, что ты пишешь о себе, я могу тебе написать о себе: со всех сторон любовь, любовь, любовь. И – не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде так была щедра, тоже затрепывается. Люди, которые прежде не замечали, вдруг – увид<ели>, воззрились, обмерли: А я та же. Что мне эта прихоть их часа? Я прежде тоже была.
Когда я прихожу в комнату, мне поскорее хочется из нее уйти.
Я совсем не умею жить в доме и жить с др<угими>.
<Оставлена пустая строка> – ты мне ответил «поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно. Гёте в старости. В молодости нужно было – всё, а в старости – Эккерман (воля последнего к II Фаусту, уши и записная книга). Рильке перерос Эккермана, он больше знает о бессмертии, чем Гёте. На меня от него веет последним холодом имущего, который и меня включил в свое имение. Да, да, несмотря на жар писем, на бесконеч<ность> вслушив<ания> и вним<ания>, на безукоризненность слуха, – я ему не нужна, и ты не нужен. Эта встреча для меня – большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он – прав, что я в свои лучшие, высшие – часы высшей силы во мне – такая же. И, м.б., от этого спасаясь, четыре года подряд, за неимением Гёте, была Эккерманом – Волконского?! И так всегда хотела во всяком, в любом – не быть?!
О, Борис, Борис, был бы ты здесь, я бы врылась в твою грудь <вариант: тебе в грудь>, закрыв глаза <от?> эт<ого> ледникового периода в груди.
Письмо 54б
22 мая 1926 г., суббота
Цветаева – Пастернаку
Борис!
Мой отрыв от жизни становится всё непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью – обескровленной, а столько ее унося, что напоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!
Свидетельство – моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученное. Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем. Боюсь вслух, боюсь сглазить, боюсь навлечь, неблагодарности боюсь – не объяснить. Но, очевидно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу – полную. (Конец «Мо́лодца».)
Да, о Мо́лодце, если помнишь, – прав ты, а не Ася. «Б. по своей неслыханной доброте увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя».
Борис, мне всё равно куда лететь. И, может быть, в этом моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама – Маруся: честно, как нужно (тесно, как не можно), держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья, полуживая (для других – более, чем – но я-то знаю), сама хорошенько не зная для чего так, послушная в насилии над собой, и даже на ту Херувимскую идя – по голосу, по чужой воле, не своей.
Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее – за себя. Что они будут делать в огнь-синь? Лететь в него вечно. Никакого сатанизма. Херувимская? Так народ захотел. (Прочти у Афанасьева сказку «Упырь». – Пожалуйста!) И, нужно сказать, хорошо выбрал час. Борис, я не знаю, что такое кощунство. Грех против grandeur[39]39
величие (фр.).
[Закрыть] – какой бы то ни было, потому что многих нет, есть одна. Всё остальное – степени силы. Любовь! Может быть – степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь-синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть силой бел, чистотой сгорания? (Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией. Просто – линией.)
То, что сгорает без пепла – Бог. Тает?
А от этих – моих – в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть Мо́лодец.
Я недаром отдала эту поэму тебе. Переулочки и Мо́лодец – вот, досель, мое из меня любимое.
Еще о жизни. Я ненавижу предметы и загромождения ими. Точно мужчина, давший слово жене, что всё будет в порядке. (А она умерла или вроде.) Поэтому – не упорядоченность жизни, построенная на разуме, а мания. Вдруг, среди беседы с другом, которого не видела 10 лет, срывается: «Забыла, вывешено ли полотенце. Солнце. Надо воспользоваться». И совершенно стеклянные глаза.
Словно вытверженный урок – как Отче наш, с которого не собьешь, потому что не понимаешь ни слова. Ни слога. (Есть деления мельчайшие слов. Ими, кажется, написан «Мо́лодец».)
* * *
То, что ты пишешь о себе, я могу написать о себе: со всех сторон – любовь, любовь, любовь. И – не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде так была щедра, – имя ведь тоже затрепывается. Не воспрещаю. Не отвечаю. (Имя требует имени.) Вдруг открыли Америку: меня. Нет, ты мне открой Америку!
* * *
«Что бы мы стали делать с тобой – в жизни?» (точно необитаемый остров! на острове – знаю). – «Поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно силы, всегда влекущей, отвлекающей. Рильке – отшельник. Гёте в старости понадобился только Эккерман (воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). Р<ильке> перерос Э<ккермана>, ему – между Богом и «вторым Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гёте и ближе к делу. На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: всё взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания – я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня – большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие, отрешеннейшие часы – сама такая же. И может быть от этого спасаясь (оборонительного божества в себе!), три года идя рядом, за неимением Гёте, была Эккерманом, и бо́льшим – С.Волконского! И так всегда хотела во всяком, в любом – не быть.
Всю жизнь хотел я быть как все.
Но мир, в своей красе,
Не слушал моего нытья
И быть хотел – как я.
Даже без кавычек. Этот стих я так запомнила со слов Л.М.Э<ренбург> еще в 1925 г. весной. И так он мне ближе. Век ведь – поправка на мир.
Да! Доехал ли Э<ренбур>г? Довез ли? Посылала тебе еще тетрадку, для стихов. Сегодня у нас первый тихо океанский день: ни ветри́нки. – Такие письма можно писать? – Недавно у меня был чудный день, весь во имя твое. Не расставалась до позднего часа. Не верь «холодкам». Между тобой и мною такой сквозняк.
Присылай Шмидта. У меня в Праге был его сын, и для него была трагедия и добавка «Очаковский». Чудный мальчик, похожий на отца. Я помню его в 1905 г. в Ялте на пристани. Будь здоров. Обнимаю, родной.
М.
Письмо 55
23 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
У меня к тебе просьба. Не разочаровывайся во мне раньше времени. Эта просьба не бессмысленна, потому что, поверив сейчас про себя, на слух, слова: «разочаруйся во мне», я понял, что я их, когда заслужу, произнести способен. До этого же не отворачивайся, что́ бы тебе ни показалось.
И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке, то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя.
Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Существенности, которая бы развела нас врозь, я никогда в свой круг не втяну, не захочу. А поэтическая воля предвосхищает жизнь. Собственно, я никогда никакой воли за собой не помню, а всегда лишь предвиденья, предвкушенья и… осуществленья, – нет, лучше: проверки.
И вот недавно, с тобою, решительно впервые случилось это со мной по-человечески, как у людей воли.
Ты простоте открыла радость недостававшего разряда. Степень стала основаньем[40]40
Об этом (о воле, предвосхищеньи и простоте беспредельного разряда) есть у меня рассказ 1916 года, не сделанный. Сейчас решил, что отделаю летом. – Приписка Б.Л. Пастернака.
[Закрыть].
И вот ты сейчас возмутишься, точно это я завожу неожиданный plusquamperfect[41]41
плюсквамперфект, давнопрошедшее время (лат.; грамматическая категория).
[Закрыть].
Ничего не изменилось.
* * *
Все равно, одно одиночество, одни выхода, и рысканье то же, и те же излюбленности в лабиринте литературы и истории, и одна роль. Чудесно о тебе написал Свят<ополк>-Мирский. Тот же самый Зелинский прислал, раскаявшись и устыдившись политической клеветы, идущей от Кусикова, убогого ничтожества, ни на что лучшее не способного, которого и я достаточно хорошо знаю по столкновеньям в Берлине, где они, засев в «Накануне», травили Белого и, когда требовалось, та́к нагло переписывали его заслуги в чужую графу, что так и ждалось номера, где просто будет снят Бор<ис> Ник<олаевич> и подпись под фотографией: Ал. Н.Толстой. Таков-«сяков» сей Кусико́в, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый. Сказанное похорони, памяти не стоит. Держал он книжную лавку. В крайнем случае, когда он заведет мясную, забирать, из злопамятности, будешь не у него.
* * *
Статья переремингтонена на тонкой посольской бумаге. Не только пожалел, но значит нашел, отчеркнул, поручил на Rue de Grenelle машинистке. Задала им работу. Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно. Люблю С<вятополка>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли определяет меня. Я не про оценку, про определенье именно. Ведь это выходит вроде «Шума Времени», как ты его определяешь – натюрмортизм. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю в реалистическом обличии спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя: читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного. Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы заслонить тебя от него. Ты – большой поэт. Это загадочнее, превратнее, больше «первого». Большой поэт – сердце и субъект поколенья. Первый поэт – объект дивованья журналов и даже… журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае – первый, но тоже и большой как ты, т. е. таимый и отогреваемый на груди поколеньем, как Пушкин между Боратынским и Языковым – Маяковский. Но и первый. Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придиркой. Разность терминологии. Св<ятополк>-Мирский под «первым» разумеет подлинно большой, т. е. я бы так рассуждал: единство поколенья – единственность лирической стихии – единственность, в своем бое сосредоточивающаяся в данное время в данном лице. Постоянна только наша способность быть проводниками или приемниками единственности. Волны же эти все время в движеньи. Стихия именуемости ошеломительней имени. Устойчивое имя то же, в отношении духа, что атом в учении о материи: – приближенное обобщенье.
<На полях:>
Говорю о ст<атье> в «Совр<еменных> Зап<исках>». Статьи под рукой нет. Тотчас по прочтеньи послал Вильяму в Красноярск, надеясь на скорый привоз ее Эренбургом. Оттого коротко и отзываюсь. Следовало бы перечесть.
* * *
Я еще хотел сказать о цели предостереженья. В случаях моего молчанья не приписывай ему ничего типического, напрашивающегося. Так, например, когда в журналах помещается что-ниб<удь> мое, я эти номера получаю. В толстых всегда есть что-ниб<удь> любопытное, интересное или даже достойное. В теперешний, трудный для меня период преодоленья реализма через поэзию, там всегда есть вещи, лучше моих, нередки даже случаи, когда вообще весь номер, в своей праздничной легкости, этажом выше и опрятнее моих отяжеленных будней. Я этих журналов не читаю, то есть не могу читать не из небрежности. Но у меня сердце не на месте. Будь ты тут, я бы, верно, ими зачитывался. Так вот, пример из тысячи. Если бы тебе вручили бандероль новеньких журналов с двумя-тремя страницами, разрезанными для правки, ты не думай, что это я рвусь осчастливить тебя своими неудачами и только ими занят изо всего тома. Нет, это значит совсем другое. У меня является возможность послать тебе книжки в нетронутом виде, где много хорошего (в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли). Я этой возможностью и пользуюсь.
Спекторский определенно плох. Но я не жалею, что с ним и 1905-ым, за исключеньем двух-трех недавних глав из «Шмидта», залез в такую скуку и аритмию. Я эту гору проем. А надо это: потому что в природе обстоятельств и неизбежно, и еще потому, что это в дальнейшем освободит ритм от сращенности с наследственным содержаньем. Но таких вещей в двух словах не говорят. Ты поймешь неправильно и решишь, что я мечтаю о холостом ритме, о ритмическом чехле? О, никогда, напротив. О ритме, который девять месяцев носит слово. Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички, за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убежденья, мож<ет> быть даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в форме выраженья, чем м.б. ее и затрудняют. Святополк говорит, что мы разные. Прочти. Неужели разные? Разве это не ты? У меня это единственный экземпляр. Если ты с чем-нибудь будешь настолько несогласна, что захочешь спорить, приведи задевшее место целиком, а то не буду знать, о чем говоришь. А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова. – Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и м.б. что-ниб<удь> из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг – в сторону. – Живу его благословеньем. Если будет что, посылай просто по почте. Дойдет, думаю, лишь бы не швейц<арские> марки.
<На полях:>
Верно, не удержусь и пошлю 1-ю часть Шмидта. Когда она была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо существеннейший, чем тот, кот<орым> пользовался. Переделывать – надо бы поместьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны. Допишу эту дополнительную главу и тогда вышлю.
Если письмо покажется чудным, тем скорее вспомни о просьбе, с кот<орой> оно начинается.
Кланяйся Але, поцелуй мальчика, кланяйся С.Я. Мы м.б. будем обеими семьями друзьями. И это не ограниченье, а еще больше, чем было. Увидишь.
Этой весной я стал сильно седеть. Целую тебя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































