Текст книги "В беде и радости"
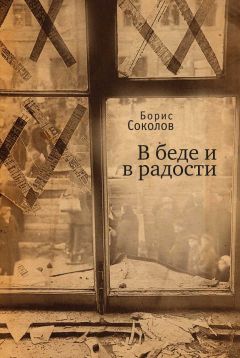
Автор книги: Борис Соколов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
При дневном свете всё разъяснилось. У хозяйки нашей было два кота и, совсем как в народных сказках, один – любимчик, а другой – пария. И этот к тому же был хромой на одну лапу. Ложась спать, бабушка неизменно выставляла его за дверь. Ежедневная бесцеремонная акция отверженной персоне сильно не нравилась и, будучи выдворенной наружу, она терпеливо дожидалась вожделенного момента, когда дверь приоткроется. Замеченная мной тогда тень, шмыгнувшая под ногами, как раз и была тем самым хромым пройдохой, который, видно, был ещё и большой шутник, потому что потом забрался на печку и устроился поудобнее между баловнем судьбы и хозяйкой. Ну а что последовало за этаким опрометчивым поступком – я уже рассказал.
Вообще студенчество – это некий период становления личности, время наполненное впечатлениями и событиями, которое требует отдельного и обширного повествования. Поскольку в заметках моих речь идёт о другом, здесь оставлены лишь самые запавшие в душу, а по какой причине – не так уж и важно.
Вот ещё одно происшествие.
В шестидесятом году я должен был пройти военно–морскую практику. Нашу группу отправили в Севастополь, и я, вместе с двумя однокашниками, попал на корабль, который стоял под парами и должен был выйти на учения в море.
Это был эсминец довоенного проекта – прямой потомок славного рекордсмена с громким именем «Нови́к», воевавшего на Балтике ещё в Первую мировую. В наши дни он был уже староват, но ещё мог выжать скорость около тридцати узлов, что не так уж мало для относительно большого корабля. И он был красив: его стелющийся силуэт даже на стоянке был весь порыв к движению.
Как это нередко бывает, назначенный день похода совпал с непогодой. Из бухты мы вышли на закате и за мысом Херсонес нас встретило штормовое море.
Полчища взъерошенных сизых волн атаковали корабль, но он с железным упорством неумолимо резал их острым форштевнем, бесстрашно принимая мощные удары то левой, то правой скулой – туча брызг, взлетая на ветру над баком, крупной дробью секла носовую надстройку. Как будто нехотя, корабль переваливался с борта на борт – это качание пока было скорее любопытным, чем неприятным. Время от времени его узкая, как нож, носовая часть зависала над пустотой меж волнами, и в следующую секунду тысячи тонн стали ухали вниз, вздымая по бортам горы пенящейся воды.
Быстро стемнело. Беззвёздное, клубящееся низкой облачностью, грязно–серое небо растворилось в опустившейся тьме. Корабль огласился сигналом учебной боевой тревоги – всё задвигалось, загремели по трапам ботинки. Мы, трое практикантов, числились по боевому расписанию в трюмной группе – пробежав вдоль правого борта и задраив за собой водонепроницаемую дверь в надстройке, спустились по вертикальному скобтрапу в глубокую шахту первого трюма. Почему–то нас здесь оставили одних на время – может, потому, чтоб не путались салаги под ногами в ответственный момент.
Прошёл час, а может, и больше, качка сделалась сильнее. Мы сидели внизу и слушали, как бухают в обшивку волны и утробным гулом отзывается сталь. Килевая качка – от носа к корме – явно преобладала. Полупрозрачные паёлы, на которых мы расположились, казались опорой ненадёжной: они то резко проваливались под нами, заставляя сжиматься сердце, то вдруг подхватывали тело, вздымая вверх, – руки и ноги тяжелели. В голове, словно налитой свинцом, шумело; кровь стучала в висках. Один из моих собратьев лежал пластом на металлической решётке – под ним кое–как закрепили ведро. Он уже вывернул из себя всё, что мог. Лицо приобрело синеватый оттенок, глаза были закрыты, он уже и стонать перестал. Впервые в жизни, и с каким–то даже страхом, я наблюдал, что делает с человеком морская болезнь.
Я заскучал. Меня подмывало подняться и посмотреть, что творится теперь там, наверху. И – да простят меня командиры за нарушение устава! – вскарабкался по трапу, выбрался на палубу и сразу понял, что салагам вроде нас и в самом деле пока лучше сидеть взаперти и не рыпаться.
Крепко держась за задрайку двери, я огляделся. Ни единой звезды не взблёскивало в кромешном мраке. Корабль мчался сквозь аспидно–чёрную штормовую ночь, от напряжения и даже как бы от нетерпения дрожа всем корпусом. Ровный гул турбин перемежался с завываниями ветра. Над моей головой, полуприкрытый колпаком, светился синий огонёк – единственная рукотворная звёздочка в океане тьмы. В ненатуральном свете его, буквально в двух шагах, мокрый, скользкий край палубы без снятых у торпедных аппаратов лееров, на крене валился и нырял в кипящую и шипящую, мертвенно отсвечивающую волну. Это была немыслимая, сумасшедшая красота!
Странное чувство овладело тогда мной: восхищение могуществом человека, способного противопоставить слепой вольной стихии силу своей изобретательности, – смешалось с удивлением, отчего стихия, которая может всё, мирится с таким нахальством. Тут же мелькнула в голове не совсем приятная мыслишка об опасности быть случайно выброшенным в эту беснующуюся стихию – во мрак, в завывания ветра, – и я как–то очень ясно осознал, что моряки – особое племя, которое сильно отличается от всех других людей.
Вдруг палуба подо мной дрогнула и совсем рядом, из–за угла надстройки, с громким чуфыканьем вылетела, проскочив над самым бортом, тяжелая, толстая сигара, плюхнулась, зарылась в волну и пошла от корабля куда–то в клубящуюся тьму, оставив за собой короткий, пузырящийся, молочный след, который тут же был стёрт очередной волной. Почти сразу за первой торпедой пошла вторая, затем – третья. Атака была сделана, и, весьма довольный, я вернулся к своим.
4
Вышло так, что профессия накрепко связала меня с морем и неотъемлемой частью моей собственной жизни стала жизнь водной стихии – от неё я уже не мог отрешиться даже на суше. Океан нигде не даёт о себе забыть. Странствия по волнам в самых разных уголках планеты оставили неизгладимый след в памяти. А в них, в этих странствиях, – как и во всей нашей жизни – непременно встречалось то нечто забавное, а то и не совсем.
Казалось бы, привычная для нас, знакомая работа на палубе научного судна, лежащего в дрейфе: мы только что подняли лебёдкой из океанских глубин приборы, измеряющие температуру и прочие характеристики морской воды. Предстоял второй этап – снятие показаний температуры: довольно кропотливое считывание данных с парных термометров, соединённых с металлическими стаканами, которые доставили пробы воды с разных глубин. В это время стоявший на вахте третий штурман, который наблюдал за нашей работой с мостика, скомандовал в машину дать ход. Мы, как обычно, продолжали работать: напарник мой шёл вдоль закреплённой у борта стойки с приборами и диктовал данные, а я, прислонясь спиной к надстройке – для большего равновесия на качке – записывал их в рабочую тетрадь. Тем временем наш пароход, набирая скорость и разворачиваясь, оказался в позиции лагом к волне. Услыхав гулкий, словно кувалдой по стали, удар, я поднял голову и… увидел, как над фальшбортом стеной встала гривастая, в белой пене и полосах волна – очень похожая на ту, что изображают на японских гравюрах. Я даже не успел испугаться и зачарованно смотрел, как мой напарник присел, ухватившись обеими руками за стойку. В тот же миг волна всей своей мощью рухнула на палубу, некто могучий словно огромной своей ладонью подхватил меня – возле самого моего носа промелькнула траловая лебёдка – и опустил на палубу около комингса трюмного люка, столь бережно, что я не ощутил ни малейшего толчка. Несколько секунд я лежал, ещё не веря, что всё обошлось, потом вскочил, мельком увидел, что с напарником всё в порядке. Встревоженное лицо третьего мелькнуло в окне рубки и исчезло: он опрометью бросился к переговорной трубе, поняв свою ошибку. При сильном волнении на ходу волна нет–нет да и перехлёстывает через низкий борт нашего судёнышка, и поэтому нельзя было давать полный ход, пока мы не снимем отсчёты и не покинем палубу.
Мы работали в открытом океане восточнее Японии – в неспокойном районе. Одно время с помощью ежедневных метеосводок, регулярно передаваемых страной Восходящего солнца, нам удавалось избегать встречи с тайфунами. Но один из них успел нас задеть краем. Пришлось штормовать, болтаться на волнах около суток вблизи двух небольших островов. Скучное это дело – торчать всё время внутри стальной коробки. Я улучил момент выбраться наружу.
Что и говорить, здесь было веселее. Истошно голосил, и гудел, и выл в снастях плотный, тугой ветер. Ни на мгновение он не ослаблял и не усиливал своей мощи: он был ровен и почти тяжёл материально – казалось, можно отрезать от него кусок и положить в карман. Он неистово рвал с головы волосы и, словно снежком, залеплял неосторожно открытый рот.
Пригибая голову и отворачивая от ветра лицо, цепко перехватываясь за поручни вертикального трапа, я взобрался на крышу надстройки. Невозможно было смотреть вперёд – туда, откуда дул сейчас ветер, – глаза мгновенно наполнялись слезами, но всё же я разглядел аспидно–чёрную линию облаков низко над горизонтом, а между ней и водой – яркую карминно–красную полоску неба. Рдели нижние края облаков, как–то объёмно светились – будто вата, набухшая кровью. Я вытер глаза, посмотрел вбок. Океан был темно–зелёным, почти чёрным, ветер сбил волну – она была короткой и невысокой, – а над самыми гребнями по всему видимому пространству змеилась настоящая «февральская позёмка» (здесь, в тропиках, тучи брызг, срываемые с волн и гонимые поверху бешеным ветром, напомнили зиму в средней полосе России).
А этот случай произошёл вдали от берегов, когда на сотни миль вокруг была лишь одна вода Великого океана и никто, кроме нас самих, не мог наблюдать не столько забавное, сколько драматическое происшествие. Пожалуй, я был бы неправ, если бы умолчал о нём, хотя тут и маловато веселого, потому что вполне всё могло закончиться так, что мне теперь вообще не пришлось бы ни о чем рассказывать.
В сооответствии с планом тренировки, которая обычно проводится на всех судах, в открытом океане на нашем большом пароходе (свыше трех тысяч тонн водоизмещения, 76 человек на борту) была объявлена учебная шлюпочная тревога. Экипаж со спасательными жилетами сбегается на шлюпочную палубу и в одну из шлюпок усаживаются человек двадцать. Спуском на воду командует старпом. Шлюпка уже висит на талях над водой у самого борта судна. Чтоб ее не слишком болтало, левый ее борт пока удерживается узким стальным кранцем, зацепленным за судовой леер. Наконец, всё готово, можно начинать. «Приготовились!» – командует старпом и включает спуск. Но тут же обнаруживает, что шлюпка, вместо того чтобы, как положено, опускаться вниз, начинает заваливаться на один борт ( в последний момент матрос забыл снять кранец!), – и нажимает на тормоз. А тормоз не держит! Я сижу у самого правого борта шлюпки – того, который заваливается. Глянул вниз – до воды добрый десяток метров. Голову охватывают мгновенные мысли: сейчас шлюпка опрокинется, все мы посыплемся в воду – и она тут же накроет нас всей тяжестью (вес – полтонны); но если прыгнуть самому теперь вниз – можно спастись, успеть отплыть подальше… По коже прошел мороз, иглами закололо в затылке. Я не прыгнул: чувство, что ли, солидарности со всеми остановило. Глянул наверх – там лицо старпома было еще белее, чем белая надстройка. И тут взгляд мой приковало к кранцу – стальная полоса, толщиной чуть ли не в палец, разгибалась на глазах, точно картон… Наконец, не выдержал леер – его сорвало с крепежа – шлюпка качнулась, отпрянула, выровнявшись на талях, – и рухнула вниз, вздыбив мощные волны с обеих бортов. И закачалась на воде…
Это был, доложу я вам, номер почище циркового! Но, надо отдать должное морякам, переживали они не сильно – подумаешь, легкий испуг да отбитые задницы!
Но оставим океан, было бы несправедливо ограничиться лишь связанным с ним поприщем. Ведь жизнь человеческая складывается из многого – в ней равноправно существуют, скажем, и семейные, и прочие дела. И в ней порой случаются вполне незначительные встречи – этакие мимолётные эпизоды, казалось бы не заслуживающие особого внимания. Но они почему –то застревают в памяти и вдруг оборачиваются неожиданной стороной, открываясь каким–то своим внутренним содержанием.
Вот как бывает перед грозой… Небо сплошь заволокло тучами. Идешь по дороге ночью в степи, идешь и не знаешь, сколько уже прошёл и сколько ещё идти. Ни луны, ни звёзд – темень кромешная, не видно ни зги. И тут вдруг вспыхивает зарница – и в её ярком, ослепительном свете, как из–под земли, встают крайние избы деревни, в которую держишь путь. И так зримо, так отчётливо всё явится перед тобой: и сама дорога, и резные оконца изб…
Так и в жизни нашей бывает, жизни внешне простой, обыкновенной, когда кажется, что всё идёт буднично, ничего особенного не происходит – как вдруг какие–то минуты одним махом осветят скрытые до того подробности, как та зарница. Внезапно, волшебным образом, перед внутренним взором проявится, можно сказать, всё нутро мелькнувшего перед тобой человека. И даже забрезжат некие черты будущего попавшегося ли на пути мальчишки или случайно встретившихся взрослых с их детьми.
Это было в семидесятые во время моей командировки на Шикотан. Я вышел из домика Штаба экспедиции, чтобы принести воды из колонки. Подошёл, подставил одно из вёдер, открыл кран – полилась маленькая струйка (вода на середину сопки подавалась с трудом). Надо было дождаться, пока ведро наполнится – я отошёл, сел на крылечко, закурил.
Гляжу: появился у колонки пацан с небольшим ведёрком, деловито отставил моё и водрузил на его место своё. Я сказал:
– По–моему ты, брат, не очень–то хорошо поступил… Как думаешь?
Мальчишка оглянулся, расцвёл в плутоватой улыбке. Но он как будто не слышал. Никаких перемен не последовало. Я подошёл к колонке.
– Чего молчишь? Уж не глухой ли ты?
– Вот и нет.
– Ну так говори. Нечестно сделал–то?
Он заулыбался снова.
– А мне надо воду быстро.
– Но ты же не знаешь – может, и мне тоже быстро надо.
– Так вас же тут, рядом, не было… Значит – не быстро. Да ещё два ведра ваших…
Теперь пришёл мой черёд улыбнуться.
– Ну а всё–таки? Почему же ты в таком случае не подождал, пока наполнится хотя бы одно моё ведро? Ты ведь его отставил неполным.
– Да моё маленькое, а ваше большое. А я быстро набрал бы и после ваше поставил бы…
Я засмеялся.
– Однако ты шустрый малый. Сколько же тебе лет?
– Осенью десять будет.
Помолчали. Я пригляделся к нему. Сперва–то мне показалось, что он постарше. Ведёрко его наполнилось, он сам отставил его, пододвинул моё, посмотрел на меня весьма изучающе, и тут мы поменялись ролями: теперь он сам стал задавать мне вопросы.
– А сколько вам лет?
– Интересно, сам–то как думаешь?
– Ну… наверно двадцать или чуть больше.
– Ого! – я рассмеялся. – Мои двадцать уже тю–тю… Не угадал ты, парень. Дочка моя, например, уже почти такая, как ты.
– А сколько вам на самом деле?
– Тридцать пять.
– О! Значит, вы старше моей мамы?
– Откуда мне знать, сколько лет твоей маме?
– Тридцать один.
– Ну вот – считать ты умеешь. Выходит – старше на четыре года.
– Зато папа мой тогда старше вас.
– А сколько ему?
– Сорок два года.
– Твоя взяла – конечно старше. Но ты молодец однако. Многим интересуешься.
– А папа мне точно, как вы, сказал. Еще сказал: хорошим моряком буду.
– Ага, папа твой наверно моряк?
– Да, он сейчас в рейсе… Ну, я пошёл. Мне надо дела делать. Вот мама придет с работы, а у меня горячая картошка готова…
И он пошёл от колонки с чувством собственного достоинства, держа ведёрко в руке, слегка наклонясь на одну сторону. Худенькие, острые плечи углами торчали под синей футболкой.
А вот несколько иная история. Но прежде чем рассказать её, надо бы упомянуть о некоторых, не так уж и редко встречающихся, представительницах прекрасной половины человечества. Существуют особи женского пола, которые пребывают в твердой уверенности, что, родив ребёнка, уже одним этим фактом они делают счастливым всё остальное человечество и что все люди подряд, которые имеют счастье соприкоснуться с их драгоценным чадом, должны боготворить оное… Словом, этакие богородицы наоборот.
Ехал я однажды в поезде на родину предков с шестилетним сыном. На верхних полках купэ поместились два родителя: я и отец двух девочек четырёх–пяти лет, дети – соответственно – на нижних полках.
Ах, как веселó мы ехали!
Две маленькие обезьянки напротив на своей полке уже заполночь продолжали творить маленький шабаш: пинали друг дружку пятками, тискали, щипали и беспрестанно хихикали и визжали. Сын мой, естественно, был поглощен наблюдением за этим удивительным спектаклем, спать и не думал. Я спать, естественно, не мог. Безмятежно спал в нашем купэ единственный человек – молодой папаша.
А поутру – новое явление: в проёме открытой двери нарисовалось ещё одно существо женского полу и лет двух от роду. Оно пристально посмотрело в мои глаза, поразив своим прозрачно –синим и наглым взглядом, и сразу поняло, что дядя этот – ничего, верёвки из него вить можно. Оно беспрепятственно проникло в купэ, забралось на полку к обезьянкам, село задницей на подушку и принялось вышвыривать вещи из подвернувшейся под руку сумки. Тут заглянула мамочка этого создания (как–то сразу стало заметно, что она из породы мам, описанных выше), решила, что всё идёт как надо – и смылась. Оставшееся у нас чадо её продолжало разбойничать под визги и крики обезьянок, потом и само ударилось в плач. Потом успокоилось и уже все трое стали ходить на головах. Должно быть, через час (!) заглянула–таки мамаша двухлетней пиратки и – как ни в чём ни бывало – осведомилась:
– Анечка, ты писать не хочешь?
За чадо ответил я:
– Вы знаете, мне кажется она того… какать хочет.
– Да? Анечка, ты какать хочешь?
Чадо молчало, и я снова вмешался:
– Вообще–то она, по–моему, уже и покакала…
Что было дальше, объяснять не надо – ты, читатель, можешь догадаться. Но вот что бы ты ответил на этот вопрос моего сына…
– Папа, а почему это дядя всё время спит? Он что – ничего не слышит? И эта тётя, которая приходила, она правда мама?
2013
День до вечера
Второй день мать не вставала с постели, а сегодня ей и вовсе сделалось плохо, и она то ли была в забытьи, то ли дремала от слабости. В маленькой комнате, куда они (Валерка, его мать и соседка тётя Маша – все, кто остался в большой, когда–то шумной коммунальной квартире) собрались, чтобы сохранить больше тепла, стояла ненасытная железная печка. Сожгли уже почти всё, что горело, теперь наступила очередь соседкиного шкафа. С утра Валерка помогал тёте Маше ломать его – это было нелегко. Вооружившись топором, она разбивала ящики, а он оттаскивал доски в сторону. Работая так, они часто присаживались отдыхать на покрытую серым инеем голую железную кровать – в комнате соседки было холодно, как на улице.
– Вот он, Новый год–то какой, – говорила она, отдуваясь. – полезную вещь рушим, чтобы согреться… – Она подмигнула Валерке. – Но ничего, парень, не расстраивайся. Дед Мороз, конечно, к нам не придёт, а вот отца твоего, может, на денёк–то отпустят…
И Валерка воспрянул духом: надо дождаться вечера. Он был уверен: стоит отцу прийти – тут и кончатся все их беды.
Последнее время тётя Маша не оставалась ночевать на заводе, как она делала это раньше, а возвращалась домой и часто что – нибудь приносила с собой, подкармливала Валерку. Сама она едва держалась на ногах, но пергаментно –серое, измождённое лицо её всегда было весёлым, ласковый прищур глаз успокаивал, и весь её словно и не меняющийся ладный, уютный облик, казалось, говорил: «Это всё ничего… переживём – вот увидите!»
Валерка сдвинул заслонку печки и подбросил несколько щепок. Он чувствовал себя неважно, его пошатывало, время от времени кружилась голова, а впереди ещё долгий унылый день – на сегодня положенное уже съедено и ничего больше не будет до самого вечера, а может, и до завтра. После утренней еды Валерка долго не мог успокоиться: желудок, вобрав жалкие крохи пищи, приготовился принять ещё, но его обманули, и он обезумел, взбунтовался: как какое–нибудь существо, поселившееся внутри, казалось, он хочет вырваться наружу, чтобы пожирать всё на своём пути.
Так было сначала, потом боль утихла, но не думать о еде было невозможно. Валерка то бродил, как лунатик, по комнате, то подсаживался к печке. Жёлтое пламя в ней весело гудело, доски от разбитых ящиков сгорали быстро, превращаясь в кучу мерцающего пепла.
Чтобы немного отвлечься от голода, он придумал себе игру. Дождавшись, когда в печке прогорит очередная порция деревяшек, он разбивал кочергой остатки на мелкие угольки и собирал их потом в небольшой вал. Пышущая жаром груда угольев исходила ярким оранжевым сиянием, которое шло от слабого, едва заметного, словно сочащегося во все стороны плвмени. Он следил за тем, как пламя укорачивается, потом исчезает вовсе… как угли становятся багровыми и начинают темнеть – вот в это самое время всё покрывается тонким слоем седого пепла, а из–под него то здесь, то там выплёскиваются, тут же угасая, синие огоньки. Получалось, что в тёмном чреве печки, будто занесённый снегом, ощетинивался огнём по врагу окоп: то отдельными выстрелами освещалась в ночи позиция, а то вдруг перебегал залп вдоль всей линии.
Валерка принимался считать выстрелы и залпы, и чем больше считал – тем легче становилось у него на сердце, словно они могли помочь нашим уничтожить жестокого врага. В том, что это будет, он не сомневался. Там, на фронте, все бойцы были такими, как его отец, а уж с ним – он был в этом твёрдо уверен – не сможет сладить никто во всём мире. Бывало, посадит отец Валерку на ладонь да так, одной рукой, и поднимет его над собой. И он тоже будет похожим на отца, надо только потерпеть, побороть голод.
Валерка вздохнул и прислушался.
Тётя Маша хлопотала возле матери: осторожно, понемногу, она вливала тёплую воду в её безжизненный рот. Словно сквозь сон, он слышал шёпот тёти Маши, но слова не доходили до его сознания. Он знал, что она просовывает сквозь стиснутые зубы матери припасённые кусочки хлеба, которые мать ни за что не стала бы есть, будь она не в беспамятстве. Он догадывался, что тётя Маша старается делать это тайком от него. Голодное воображение услужливо рисовало ему картину кормления, и Валерка не выдержал.
– Тёть Маш, я – во двор…
Она повернулась и некоторое время внимательно, молча смотрела на него, потом сказала:
– Но только туда – и обратно.
Выходя на площадку, он нечаянно стукнул дверью – гулкое эхо камнем свалилось в холодный пустой лестничный пролёт. Валерка принялся осторожно спускаться вниз, при этом старался держаться подальше от стен, сквозящих холодом, и не касаться заиндевелых перил.
Во дворе он постоял немного, отдыхая и привыкая к свету, который шёл от огромных сугробов снега, хотя края их были в грязно–жёлтых потёках и промоинах. Двор был безлюден, пустые окна глядели в него глухо и отчуждённо.
Обратно Валерка поднимался ещё медленнее и отдыхал на каждой площадке. Ему осталось одолеть последний отрезок лестницы, когда он услышал сзади чьи–то шаги и остановился. По лестнице тяжело взбиралась соседка с верхнего этажа. Валеркины ноги приросли к месту: Вера Андреевна, торопясь так, будто кто гнался за ней, ела хлеб, по лицу её текли слёзы, и она глотала их вместе с хлебом. Он отчётливо видел тёмный брусочек, от которого она жадно откусывала и судорожно проглатывала, брусочек этот приковал его взгляд и придвигался всё ближе и ближе. Валерка почувствовал – на это нельзя смотреть, но отвести глаза не удавалось. Он сказал себе: надо просто отвернуться – но голова его не шелохнулась. Тогда он приказал себе сделать это, и на какое–то мгновение в его голодном сознании произошёл сдвиг: ему почудилось, что он отвернулся, а глаза его остались на месте (он даже испугался – как такое может быть?). Опомнившись, он обнаружил, что ничего такого с ним не произошло: он не отрываясь смотрел на хлеб, как и раньше, не поворачивая головы. «Это я заснул на минутку, и мне приснилось, что я отвернулся…» – с тоской подумал он, и вдруг ему показалось, что рот его полон слюны. Валерка глотнул, но слюны не было – высохшее горло прорезала боль, в нём перекатился сухой и жесткий, словно корка хлеба, комок воздуха. Желудок горел – каждая его клеточка кричала о спасении. У него задрожали руки, и он понял: сейчас он бросится и вцепится в этот кусок, уменьшающийся на глазах.
Ему стало страшно.
Едва передвигая ослабевшие ноги, он с трудом развернул и переместил себя вместе со своей головой и глазами ближе к углу, увидел прямо перед собой покрытую лёгкой мерцающей изморозью стену.
Женщина медленно и отрешённо прошла мимо, будто его тут и не было, на ходу она рассматривала свою ладонь, видно, выискивала – не осталось ли там чего. Валерку она не признала, а может, просто не видела. Он вспомнил, что у Веры Андреевны были две девочки Сима и Наташка, которых он уже давно не встречал на лестнице. Он подумал о них и тут же забыл – во всём теле была такая слабость, что ноги подгибались в коленях, тряслись руки, и ему хотелось сесть и закрыть глаза, и он уже начал было поддаваться этому сладкому желанию, но в замутившемся сознании проявилось печальное лицо матери и возвратило ему память о том, что он не один, что совсем недалеко остались родные ему люди. К нему вернулся потерянный на какое–то время слух, и он услышал шаги – соседка всё ещё поднималась на свой этаж.
Валерка постоял ещё немного, подождал, пока стало тихо, и сделал первый шаг. Нечаянно, без всякого повода – он вовсе не собирался глотать ещё раз – по его горлу, казалось, начавшись в самом желудке, вновь прошла мучительная судорога, она потрясла всё его маленькое высохшее тело, и он заплакал.
Кое–как, боясь упасть на лестнице, держась за стену, он добрался до своей площадки. Последнее, что он слышал, – звук открываемой двери. Здесь, возле тёти Маши, Валерка падал легко, без страха и очень плавно, будто это было в воде. И как–то даже тепло и совсем не больно.
Очнулся он на кушетке возле печки, узнал склонившуюся над ним тётю Машу и удивился: она плакала. Этого он никогда раньше не видел. Потом лицо её отодвинулось и в тесную их комнатку… бесшумно втиснулся здоровенный Дед Мороз – и сразу стало холодно. Валерке дед показался знакомым, но он никак не мог вспомнить, где он видел эти прозрачные ледяные бусины, поблёскивающие из–под мохнатых седых бровей. Дед уселся на скамеечку перед печкой и, не снимая рукавиц, протянул к огню руки. Валерка ахнул – весёлое янтарное пламя вдруг сделалось чёрным, а печь покрылась густым белым инеем. Он почувствовал, как холод подбирается к нему, как стынут ноги, и узнал деда – ведь это он заморозил целый лес со всеми зверями и птицами, а теперь вот и сюда добрался… «Мама!» – еле слышно позвал Валерка.
Дед исчез, и огонь стал прежним, и тётя Маша сказала сердито и громко:
– Ну вот, ну вот, ты чего это средь бела дня спать–то взялся? – потом наклонилась к нему и зашептала на ухо. – Ты вот что, Валерка, ты ведь у нас мужик–то один, а потому на тебя вся надежда. Ты о нас не забывай – не годится так. Вот уже мать проснулась да про тебя спрашивала, я сказала ей – прилёг, мол, спит, так ты мня не подводи, не показывай виду, что плохо тебе, держись, ты же мужчина…
Валерка приподнялся – комната легонько качнулась и поплыла перед глазами, но когда ноги его коснулись пола, всё снова стало на своё место.
– Ну вот, я так и знала – ты молодец, – просияла тётя Маша, – ну–ка, ну–ка, пройдись, я погляжу…
Валерка встал с кушетки и сделал несколько не совсем уверенных шагов. Тётя Маша испуганно глянула в сторону кровати, но Валеркина мать снова была в забытьи: рука её, лежавшая поверх одеяла, чуть заметно поднималась и опускалась.
– Ну, ничего, ничего… расходишься. Ты присмотри за матерью да про печку не забывай. И никуда не выходи, а я сейчас, я скоро…
Тётя Маша плотно укутала голову и шею платком, надела ватник и, прихватив сумку, ушла.
Валерка подошёл к матери – она покойно дышала во сне, повернув к стене голову. Здесь, возле окна, было холоднее, и он вернулся в свой угол, подбросил в печку щепок и немного посидел рядом, глядя на то, как старые, покрытые краской дощечки занялись пламенем.
Голова уже не кружилась, чувство голода поутихло, но ему было не по себе, он как будто хотел что–то вспомнить – и не мог. Ещё когда он очнулся на кушетке, странный сон слетел с него и забылся, но засело внутри, осталось смутное беспокойство. Оно мешало, как заноза. Мешало всё время, пока он слушал тётю Машу и ходил по комнате. Неотвязное чувство, что он что–то забыл, не давало покоя и мучило, словно зубная боль.
Вдруг Валерка отпрянул от печки, его даже бросило в жар, и бешено заколотилось сердце – там, на лестнице, Вера Андреевна могла уронить кусочек хлеба, не зря же она так рассматривала свою руку!
Он заторопился, пробрался на лестницу и стал спускаться, пристально оглядывая каждую ступеньку. Обсмотрев освещённый участок площадки, на которой он стоял тогда, и не найдя ничего, он опустился на колени и принялся шарить по полу. Ладони быстро онемели от холода, но он упорно искал. В тёмном углу рука его наткнулась на твёрдый комочек, и ему сдавило горло от радости. Цепко держа то, что он нашёл, Валерка поднялся, вышел на свет и разжал кулак. Это был не хлеб, и он выронил слегка подтаявшую в руке находку.
Возвратился он в комнату совсем разбитый и долго сидел, греясь возле печки, и не слышал, как его тихо окликнула мать. И ей пришлось позвать его несколько раз, изо всех сил возвысив голос. Наконец он услышал её (будто из далёкого далека) и вздрогнул от неожиданности.
Мать сидела, опершись обеими руками о край кровати, в глазах её плавал беспокойный лихорадочный свет, который шёл изнутри и пугал Валерку.
– Сынок… – произнесла она почти шёпотом. – Как ты?
Не забыв наставления тёти Маши, стараясь не смотреть на мать, он ответил:
– Да я ничего, мама.
Мать попросила его не прятать глаза, и тогда он выдержал её испытующий взгляд. Но молчание затягивалось, и он неожиданно для себя сказал:
– А сегодня папа прийти к нам должен.
Бледные, ввалившиеся щёки матери чуть порозовели.
– Ну уж, откуда ты знаешь?
– А вот увидишь, – сказал Валерка. – Ты ложись, тебе отдыхать надо…
Когда вернулась тётя Маша и застала мать сидящей, а Валерку хлопочущим возле печки, она всплеснула руками.
– Вот здóрово, вот это молодцы. Я так и знала: приду, думаю, а они тут вовсю делами занимаются. – Она засмеялась. – Не–е–т, нас так просто не возьмёшь, мы им ещё покажем! Они у нас ещё попла–а–чут, – приговаривала она, раздеваясь, а Валерка с жадностью, с надеждой на невозможное чудо не мог оторвать глаз от её чёрной сумки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































