Текст книги "В беде и радости"
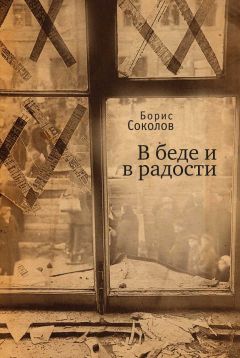
Автор книги: Борис Соколов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
И чудо свершилось: тётя Маша извлекла из неё хлеб – целую буханку! – и головку сахара. Мать в ужасе прикрыла ладонью рот и спросила её про старинный золотой медальон: тётя Маша с девических лет хранила его, и это было единственное, что у неё оставалось.
– Ничего–о–о, – как–то беспечно и весело пропела она. – Они думают, что мы все перемрём… А мы выдюжим. Мы ещё выведем их на чистую воду…
Валерка сразу сообразил, что тётя Маша так говорит не о немцах, но эта догадка мелькнула и пропала – всё его существо заполнилось ощущением предстоящего. Он снова почувствовал слабость в ногах и, чтобы скрыть это тихонько присел на кушетку, сделав вид, что подбирает щепки с пола.
Отхлёбывать горячую, подслащённую воду и глотать распаренные, размокшие кусочки хлеба – какое пиршество может сравниться с этим!
У матери лоб покрылся испариной: видно приём пищи стоил ей немалого труда. Она легла и в изнеможении прикрыла глаза. Валерку после еды стала одолевать дремота (желудок его наконец успокоился), и он не заметил, как провалился в тёплый чёрный мешок сна, в котором не чувствуешь ни единой клеточки тела и густые потёмки сознания не мучают больше тем, что было или будет в жизни…
А вечером, когда все проснулись, тётя Маша принесла из своей комнаты запылённую коробку, в которой оказались ёлочные игрушки и завёрнутый в зелёную бумагу небольшой Дед Мороз. После долгих поисков нашли моток проволоки. Под руководством тёти Маши Валерка вырезáл из зелёной бумаги полосы, она соединяла их с кусками проволоки, а те, в свою очередь, прикрепляла к длинной щепке. Работали при свете печного пламени, медленно, не торопясь, и незаметно в руках у них родилась молодая и красивая ёлочка. Слабо освещённое лицо матери счастливо улыбалось им из темноты. Закончив, воткнули ёлку в щель меж досками рассохшейся крышки тумбочки, повесили игрушки, набросали немного ваты, нащипанной из шубы Деда Мороза, – и ёлка была готова.
«А теперь – погадаем!» – объявила тётя Маша. Положила на блюдце комок смятой бумаги из отходов и подожгла, а блюдце подняла и приставила к стене. Языки пламени проворно перебегали по бумаге, она съёживалась, желтела и, разом вспыхнув и прогорев, становилась прозрачно –розовой, потом чернела, превращалась в пепел, который тлел огненными разводами и колебался слегка от дыхания гадалки. На стене шевелились тени. Они пропадали и вновь появлялись, в них чудился отблеск пожарищ, в них было что–то от невиданной никогда жестокой войны. Внезапно с блюдца сорвалась горка пепла – тень скользнула по стене – легко слетела на пол и рассыпалась. Мать вскрикнула. А тётя Маша смущенной скороговоркой запричитала:
– Ну вот… какая из меня гадалка? Не к месту вздохнула – оно и слетело. Да и по правде гадать–то надо в полночь…
Потом долго перебирали старые фотографии. Из рук в руки переходила фотокарточка отца в белой расшитой косоворотке – таким миром веяло от его вида, от молодой доброй улыбки, что трудно было теперь представить его в шинели и с винтовкой в руках. Валерке попалась открытка, изображавшая бой. Немец, одетый в противно–зелёный мундир, занёс штык над упавшим красноармейцем, а другой наш боец замахнулся над головой немца прикладом. Лицо у врага было синее, с выпученными глазами, в страшной рогатой каске он был похож на чудовище, а штык был плоский и металлически блестел, как бритва. Невозможно было понять, кто из них успеет раньше, и Валерка с досады бросил открытку в печь.
Разглядывая довоенные снимки, слушая, как тихо разговаривают мать и тётя Маша, он вспоминал, как весело когда–то праздновали Новый год, как много было гостей, и, вспоминая, отрывался от какой–нибудь фотографии и оглядывал полуосвещённую багровым светом убогую комнату. И так бесконечно далеко отодвигались эти воспоминания, будто ничего и не было вовсе, а так – приснилось когда–нибудь…
Под монотонный говор женщин Валерка задремал, так и не дождавшись полуночи. И вдруг увидел: в дверях стоит отец. У него защипало в носу и стало горячо глазам, со всех ног он бросился к двери и ткнулся в пахнущую снегом и ветром холодную кожу полушубка…
В слабом отсвете затухающей печки на лице мальчишки блуждала счастливая улыбка.
1976
В беде и в радости
Вышло так, что осенью сорок девятого года мне пришлось перебраться в город. Надо было учиться дальше, возможности к тому в нашем посёлке не было, и тётя Зина, сестра отца, привезла меня в Воронеж – в пятый класс.
Город ошеломил меня. Поразил многолюдством, трамваями, многоэтажными каменными домами, кинотеатрами, тающим во рту чудом – мороженым. И уж вовсе доконала меня школа на Комиссаржевской, снаружи и внутри огромная – на её многочисленных лестницах, в длинных её коридорах на разных этажах можно было вполне заблудиться.
Наша сельская начальная школа, в которую я ходил четыре года, не шла ни в какое сравнение с этой. Учились мы в обыкновенной небольшой избе – в одной–единственной классной комнате. Да и было–то в моём классе всего восемь человек.
Здесь, в городе, теперь во всё это верилось с трудом и вспоминалось как что–то не совсем настоящее, как будто было такое с кем–то другим – не со мной. Да и вся моя жизнь, словно поле, пропаханное глубокой межой, разделилась на две жизни, одна из которых была до, а другая – после того злосчастного лета.
В то, что случилось с моими родителями в мирное уже, послевоенное время – нельзя было бы поверить, если бы не начиналось всё на моих глазах. Тётя говорила, что о таких ужасных совпадениях можно прочесть в старых книгах, в которых вредят людям тёмные силы, устраивая всякие козни. И добавляла, что в наше время никаких тёмных сил нет даже в книгах – просто дикий случай выпал нашей семье и больше ничего.
А было вот что: в конце горячей уборочной страды мой отец, агроном, будучи директором совхоза, целые дни, а то и ночи проводил в поле и однажды ночевал на току. Ночь была холодная, он сильно простыл – дала знать о себе застарелая, с юности, болезнь легких – и слёг в горячке с высокой, под сорок, температурой. Прибывший из районного центра врач определил… брюшной тиф – надо было срочно везти отца в город, за сотню вёрст по железной дороге. Несчастье, как это бывает, нагрянуло непрошено: мама ждала третьего ребенка. От горя плохо соображая что делает, она сама отправилась на станцию Таловая за билетами на поезд. Ехала в кабине совсем недавно полученного, новенького совхозного грузовика, была ночь, дождь лил стеной, двенадцать километров по раскисшему, в колдобинах, грейдеру показались долгими – она торопила шофёра. Вблизи станции, у переезда через пути был открыт шлагбаум, и водитель направил свой ЗИС–5 вслед за проезжавшей через линию передней машиной. А в эту минуту в мокрой, кромешной тьме к станции подходил товарняк и паровозом – он шёл без огней – ударило грузовик слева, как раз между мотором и кузовом. От мощного удара шофёра подбросило вверх так, что он, пробив головой брезентовый верх кабины, вылетел из неё и повис на перилах ограждения передней площадки паровоза. И отделался испугом да синяками. Пассажирка же застряла в измятой кабине; поломанные, искорёженные останки грузовика – месиво дерева и железа – какое–то время тащило по рельсам; потом её – покалеченную, израненную, едва живую – откинуло в сторону, на кучу шлака.
Когда пострадавшую привезли в станционный медпункт, дежурный фельдшер кое–как обработал рваную рану на икре, не очистив её как следует от попавших крупинок шлака (что впоследствии едва не привело к гангрене и потере ноги).
Превозмогая боль, она боялась потерять сознание, поражённая совершенной нелепостью происшедшего: дома лежит в бреду муж, нуждающийся в срочном лечении, – там её теперь ждут и там остались сыновья – старшему девять и младшему всего полтора, – а она вот сама попала в беду и теперь, полуживая и на пятом месяце беременности, застряла на станции по воле нелепого случая. И теперь оба они – обездвиженные, лишенные малейшей возможности влиять на что бы то ни было и роковым образом отделённые друг от друга – находятся почти в двухстах километрах от города, в котором спасение. (Позднее она не перестанет удивляться, как вообще она смогла пережить такое.)
А в это самое время в доме, где над всем всегда безусловно первенствовал отец, ровный со всеми и особенно ласковый с детьми, всегда весёлый, скорый на уморительную остроту или какую–нибудь мгновенную потешную импровизацию, – человека этого боготворили все: и взрослые, и дети – в доме нашем царила растерянность. В комнату, где он лежал теперь, то и дело бегали насмерть перепуганные женщины: старшая сестра матери тётя Маша и Акулина, домработница, фактически давно уже ставшая равноправным членом нашей семьи. Лёжа в своей кровати, я настороженно вслушивался в шорох шагов в коридоре, ловил долетавшие, негромко произносимые слова. Маленький брат мой давно уже спал, а я никак не мог погрузиться в сон: страх за отца и общее напряжение передались и мне.
А когда мама не вернулась ни этой злосчастной ночью, ни утром, а потом ужасная новость дошла и до нас, Акулина сказала со вздохом, уронив слезу: «Беда не ходит одна». Эта не раз слышанная мной народная мудрость, в смысл которой раньше я не слишком вдавался, теперь поразила своей очевидностью и показалась чрезвычайно обидной. Из других речей Акулины мне было известно, что существует кто –то, кто на людей насылает беды, и я думал: этот кто–то должен быть очень злым, поскольку обрушил несчастья на отца и мать, которые как раз никому не делали зла. И Бог, который всё видит и которому истово возносил молитвы дед в своём родовом гнезде, – не мог ведь быть таким несправедливым, чтобы не вмешаться, не защитить.
Но несчастья сплачивают и трудно себе представить, что было бы со всеми нами, если бы не друзья отца.
Весть о случившемся разнеслась по всей округе. Из Чиглы, за тридцать километров от Таловой, секретарь райкома Евсигнеев Николай Александрович, прихватив с собой врача, в ту же ночь под дождём, в открытом тарантасе, помчался на станцию. А утром в Воронеже штурман аэропорта Мильман Давид Ильич добился отправки в наш район лёгкого самолёта и потом сам встречал со скорой помощью сначала мать, потом отца – оба они были доставлены в областную больницу. Там открылась еще одна неожиданность. Районный эскулап ошибся: у отца, уже помещённого в инфекционное отделение нашли вовсе не тиф, но туберкулёз в открытой форме… А у матери, закованной в гипс – у неё был обнаружен перелом тазовых костей, – открытая, огромная рана на икре заплыла гноем и поднялся сильный жар – первый признак начинавшегося заражения крови. Впереди у обоих были многие месяцы больниц (мама, помимо всего прочего, после перенесённых страданий, едва выкарабкавшись из, казалось бы, безнадёжной ситуации, должна была по истечении срока разрешиться от бремени). Друзья совершали невозможное, чтобы их спасти: внимательно следили за лечением, помогали доставать лекарства – особенно недавно появившийся пенициллин. На каком–то этапе Давид Ильич перевёз отца из больницы в свою небольшую двухкомнатную квартиру. Пять человек: он сам, его мать, жена и двое детей – теснились в одной комнате, вторую предоставив больному.
Теперь в этой комнате, в которой два года назад лежал медленно выздоравливающий отец, обитал я вместе со своим ровесником, сыном Давида Ильича Олегом – мы были с ним всё равно что братья. Домашние просто–напросто приняли меня как члена своей семьи, и я быстро привык ко всем и к городской квартире с непривычными для меня удобствами: водопроводом с холодной и горячей водой и ванной, в которой раз в неделю устраивалась для нас баня. Давид Ильич, словно щенят, сажал нас с Олегом в ванную и одного за другим до красноты тёр обоих жёсткой мочалкой. Распаренные, мы сразу отправлялись ко сну – я не чуял ни рук ни ног и, казалось, плыл по коридору; забирался в объятье прохладных, пахнущих дождём простыней, их прикосновение было последним ощущением дня… И будто тотчас же, без всякого перерыва, плеча касалась мягкая, ласковая рука бабушки Олега – она будила нас утром. Меня ждала школа на Комиссаржевсеой.
Теперь–то я вспоминал сельскую школьную избу как уютный, безвозвратно утраченный мир. Когда в твоём классе не наберётся и десятка учеников и каждый из них или твой сосед, или приятель по играм, – сидение за школьной партой остаётся простым продолжением прежнего общения, в котором продолжают действовать спайка, содружество, солидарность. Городская же школа – этот огромный, многоэтажный муравейник – поглотила меня, как мелкую букашку. Я потерялся в её коридорах, которые кишели бесчисленными, снующими туда–сюда собратьями и были наполнены неумолчным óром; а в огромном классе, где было втрое больше учеников, я чувствовал себя совсем одиноким и заброшенным. Моё сельское детство протекало довольно мирно, и я не приобрёл бойцовских качеств, столь необходимых в стычках. И теперь здесь, в городской мужской школе, мне нередко доставалось в потасовках.
А сам город, со всеми его соблазнами, магнитом тянул меня на свои улицы.
На удивление самому себе я стал неважно учиться. Мне как– то вдруг расхотелось дома всё время высиживать за уроками, и при одном воспоминании о краснокирпичном здании школы меня охватывала такая тоска, которой я раньше не знал. А возвращаясь из школы, всячески оттягивал момент домашнего общения с учебниками и поэтому домой шёл кружным путём – причём каждый раз старался выбирать новый маршрут. Но чаще всего по Комиссаржевской доходил до проспекта Революции и поворачивал налево – в другую сторону от дома. Напротив здания со шпилём – Управления Юго–Восточной железной дороги – пересекал проспект, выходил к Петровскому скверу. Отсюда пространство раздавалось вдаль и вширь – горизонт раздвигался и убегал на край земли. Передо мной вниз по холму, уступами, спускалась широкая, с тяжёлыми каменными перилами, лестница, а в самом низу, у подножия, лежала обширная долина, наискось перечеркнутая узенькой речушкой. Общий вид был такой, будто на зелёный ковёр земли кто–то уронил длинную, извилистую, голубую ленточку неба.
А в сквере над всем этим, опершись на якорь, возвышался Пётр. Где–то был огромный город, построенный им на болотах, но именно здесь, у нас, начинался русский флот. Наверно, в те времена река была другой – нынешняя, узкая да мелкая, не смогла бы нести на себе большие парусные корабли. Теперь же длиннющий Чернавский мост, убегавший в долину, всего одним пролётом перешагивал речонку, как Гулливер ручеёк; мост соединял не берега реки, а Правый и Левый берега города.
От Петровского сквера я медленно шёл по проспекту обратно, переходя с одной стороны на другую, задерживаясь у витрин магазинов. У кинотеатра «Пролетарий» останавливался и долго разглядывал афиши. Я уже побывал в нём, но всё ещё не мог привыкнуть к огромному по моим понятиям залу. В нашем посёлке опять – таки всё было проще: набивался народ в избу – кто на лавках сидел, кто стоял – а мы, пацаны, помещались на полу, прямо перед экраном. Так, задрав головы, смотрели «Чапаева», «Железную маску», «Мстителя из Эльдорадо». И не было для нас ничего сильнее тех переживаний, тех минут, когда тут, рядом с нами – можно было чуть подвинуться и дотянуться рукой до полотна и всё равно мы ничем помочь не могли, – совсем рядом неминуемо погибал Чапай… Или когда израненный мститель, с трудом передвигая ноги, шёл умирать к могиле своей возлюбленной – и с каждым его шагом тихо позвякивали шпоры (я и теперь, вспоминая фильм, слышал этот тихий, мндодичный звон).
Обыкновенно за кинотеатром я, наконец, поворачивал к дому. Иногда, прийдя домой, оставлял портфель и, предупредив бабушку, возвращался на проспект и продолжал путешествие: шёл дальше мимо сгоревшего в войну здания универмага, прозванного «утюгом» за внешнее сходство, потом – по Кольцовскому скверу и налево, по Плехановской, к самому началу её. Здесь передо мной открывался пустырь, сплошь усыпанный обломками. Посередине возвышалась уродливая, похожая на кривой гриб, каланча из сплошь выщербленной кирпичной кладки (останки колокольни монастыря). Стоять возле неё было страшно: на тонкую ногу нахлобучена была в вышине громадная, бесформенная шапка, которая того и гляди рухнет вниз. Поодаль справа маячила уцелевшая, с пустыми глазницами окон, коробка здания. Хрустя битым кирпичом, я подходил к ней, нырял в один из проломов – сразу за ним вдоль стены поднималась лестница и я шёл по ней наверх. Из–за того что и в пустых проёмах окон, и над головой я видел только небо – лестница казалось висящей без всякой опоры, и я невольно крепко перехватывался за сохранившиеся железные перила.
А на площадке третьего этажа вдруг обнаруживалась удивительная здесь – в этом царстве ущербного, обезображенного войной кирпича – целёхонькая, аккуратно выкрашенная коричневой краской дверь. Я стучал в неё.
Мне открывала тётя Зина, я переступал порог, делал шаг – всего лишь один обыкновенный шаг – и тут происходило настоящее чудо. Я оказывался в небольшой, чистой, уютной комнате со всеми приметами нормального человеческого жилья: опрятно заправленная кровать, на стене коврик собственной вышивки, тумбочка, этажерка с книгами, стол, два стула. Человек, нечаянно перенёсшийся сюда, ни за что бы не догадался, что находится снаружи, за стенами комнаты. И лишь случайный взгляд в завешенное простенькой занавеской окно сказал бы многое: виднелся унылый кусок пустыря и повсюду темнеющие, словно пятна засохшей крови, кучки битого кирпича.
Этот высокий правый берег Воронежа, во время войны бывший под немцем, после освобождения почти весь лежал в руинах. И ещё многие последующие годы следы войны напоминали о себе. В городе была хроническая нехватка жилья и многие искали его в развалинах. Так и тёте моей её сотрудники по работе сумели найти здесь уцелевшие четыре стены с потолком и оборудовали под жилище.
Всякий раз, стоило мне появиться, тётя Зина, не спрашивая меня, разводила примус и готовила главную нашу еду – жареную картошку. Жарила она её на сковородке как–то по–особенному: тонко нарезанные, подрумяненные ломтики слегка хрустели на зубах, а уж замечательный их вкус я помнил с того времени, когда к нам нагрянула беда и тётя, взяв большой отпуск за свой счёт, приехала и несколько месяцев жила у нас и была нам с братом вместо матери.
После еды начиналось для меня заветное: как в речку с пригорка нырнув, с головой погружался я в подшивки «Огонька» и спохватывался лишь тогда, когда тётя зажигала керосиновую лампу.
И я проделывал путь обратно по вечернему городу. Загорались фонари на улицах, окна в домах. Вспоминались несделанные уроки и с новой силой хватала за сердце тоска.
Зимой моё отвращение к школе сделалось, кажется, ещё сильнее. Кое–как, наскоро сделав уроки, я сбегáл на улицу и ухитрялся целыми вечерами пропадать на мостовой, укатанной в настоящий – плотный и гладкий – каток. По ней я гонял на коньках вместе с пацанами из нашего двора. Машины здесь проезжали нечасто, если попадался грузовик, можно было, ухватившись эа кузов, со свистом в ушах промчаться на каком–то отрезке.
Олег завидовал мне – ему меньше перепадало такой радости. Помимо обычной, учился он ещё в музыкальной школе. И каждый день, приходя домой после уроков, я слышал, как в большой комнате он гоняет на пианино бесконечные гаммы или разучивает что–нибудь заданное, повторяя много раз. Я уже привык к тому, что мелодичные звуки словно витают в воздухе, почти не задевая моего слуха и не отвлекая внимания.
Но однажды Олег заиграл что–то такое, отчего я остановился в прихожей, позабыв раздеться и снять коньки. Медленная, печальная мелодия накатывала волнами, настойчиво повторяясь, – она странно была похожа на жалобу Олега, вынужденного сидеть дома, когда все пацаны пропадают на улице. Что –то перевернулось в моей душе: ни с того ни с сего вспомнился посёлок, наш дом в зарослях сирени… И почему именно он? Ведь это было не единственное место, в котором мне доводилось жить. За последние годы – и особенно за годы войны – я привык к тому, что жильё может часто меняться.
Олег играл «К Элизе» Бетховена.
А пятый класс, впрочем, окончил я благополучно и вернулся к своим. К этому времени отец уже окончательно подлечился в санатории и был уже дома – проработав какой–то срок в прежней должности, он ждал нового назначения. После болезни он немного отяжелел, располнел, но вообще мало изменился. Мама, сильно припадая на увечную ногу, хлопотала по хозяйству. Здесь не было музыки, дом полон был других звуков: не поделив игрушек, ссорились брат с сестрёнкой, которую мама привезла, возвратясь с больничной койки… Жизнь потихоньку налаживалась.
В город я снова попал лишь через два года: летом отец собрался навестить сестру (тётя Зина получила, наконец, нормальную квартиру) и прихватил меня с собой. Вид у него был чрезвычайно живописный: лёгкий летний, из светлой фланели, костюм, белые парусиновые туфли, соломенная шляпа. Под ней – весёлый насмешливый взгляд, слегка округлившееся, гладко выбритое лицо. Трудно было представить теперь, каким той страшной осенью видел я его, лежащего в беспамятстве: ввалившиеся щёки и заострившийся нос на сером, как газетная бумага, лице.
Приехали мы под вечер, но тётю Зину дома не застали. Отец засмеялся.
– Ну, сын… Теперь у нас с тобой масса свободного времени. Нынче заезжие москвичи, слыхал я, дают спектакль. А тётя твоя заядлая театралка. Правда, рановато ушла. Но и тут – полная ясность: сидит где–нибудь в парикмахерской. Так что погуляем пока…
Пора было ужинать, и отец повёл меня в ресторан возле Кольцовского сквера. Этакое заведение мне пришлось посетить впервые и бросилось в глаза, как было здесь торжественно–тихо и светло от многочисленных белых скатертей на столах. Войдя, отец как будто добавил света костюмом своим и улыбкой. Кроме нас, посетителей в этот час не было, и мне казалось, что пожилой официант принимает нас, как гостей, и всё здесь приготовлено для нас и в нашу честь. Я был поражён тем, что простой приём пищи бывает столь торжественным – таким его я видел только в кино.
Посмеиваясь, отец показывал мне, как правильно следует орудовать ножом и вилкой. О том, как есть хлеб, я давно знал сам и не оставил ни кусочка недоеденным и на скатерть не уронил ни крошки. Ели не торопясь да и нас никто не торопил, а когда уходили, официант на прощанье наклонил седеющуюголову – как старым знакомым.
Потом мы прошлись по Плехановской – как раз туда, где раньше жила тётя Зина.
И я не узнал места. Той памятной каланчи не было. Весь бывший пустырь заняла огромная стройка, возвышались краны, возводились стены какого–то большого здания. И теперь трудно было определить, где стояла та кирпичная «башня» или дом, в котором жила тётя.
– Раньше здесь был Митрофаньевский монастырь, – сказал отец, – да и сам город когда–то, в конце шестнадцатого века, пошёл отсюда. А теперь вот появится здесь новое здание университета…
Мы стояли, смотрели. Я вспомнил, как приходил сюда, и странно было теперь подумать, что где–то здесь когда–то стоял я, задрав голову, перед каланчой, потом поднимался по несуществующей лестнице в несуществующую комнатёнку…
– Знаешь что… – вдруг сказал отец. – Пойдём обратно, давай–ка зайдём к Мильманам.
Я удивился – как он узнал, что я подумал о том же?
1977
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































