Текст книги "В беде и радости"
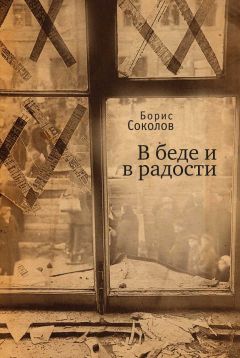
Автор книги: Борис Соколов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– А что, хозяин–то дома?
– Не… Тут хозяина нету. Хозяйка одна живет, теперь к сестре пошла.
– Так ты один, что ли?
– Ну.
– А радио?
Витька вытаращился, удивленный.
– Чево?
– Радио–то кто выключил?
– Та не… радиа у бабки нету.
Теперь уж моя настала очередь пялиться на Витьку.
– Так я ж еще на улице… слышал музыку!
– А – а… – Витька облегченно вздохнул и махнул рукой. – Так то я играл…
– Ты? Ну да!
– Ну я… Кто ж еще?
Я ушам своим не верил.
– Да на чем же это?
Витька вытащил из–за тумбочки старенькую гармошку.
– Ну, вот…
– А ну–ка сыграй!
– Чо сыграть?
– А что со двора я слышал.
И те же звуки, только здесь же, рядом, усиленные, волшебным образом полились из–под его пальцев. Я был поражен: казалось Витькины руки не имеют никакого отношения к своему хозяину, склонившему голову и поглядывающему в окно, а живут сами по себе, своей независимой, вольной жизнью. Зачарованный, я глядел, как пальцы его свободно перебегают по пуговкам и кнопкам, и теперь уже не верил и своим глазам.
Когда он остановился, я попросил поиграть еще. И он, как заправский гармонист, стал наигрывать разные вещи, одну за другой: здесь были известные танго и вальсы и еще какие–то незнакомые мне мелодии. А потом Витька, незаметно для себя, начал напевать, негромко, но так, что я и вовсе оторопел – никто из нас никогда не слышал, чтобы он умел петь. Особенно хорошо он спел «Темную ночь», «Землянку» и «Снова замерло всё до рассвета». Мы позабыли о времени, он пел и играл, играл и пел, как вдруг… Я аж вздрогнул – уж эту песню я сам знал наизусть: когда–то, тайком от воспитателей, пацаны распевали ее в пионерском лагере. И я принялся подпевать Витьке:
В Кейптаунском порту,
качаясь на шварту,
«Жанетта» поправляла такелаж…
А перед глазами вставало: огромный парусник покачивался на лазурной воде и моряки в синих беретах сходили на утопающий в зелени берег…
Они идут туда,
где можно без труда д
обыть себе и женщин, и вина…
В песне было всё, о чем только может мечтать сердце мальчишки: парусник в тропиках, далекая чужая страна, моряки, отчаянная драка в кабачке, которую мы могли легко, в подробностях, вообразить себе, и, наконец, вино и женщины – непостижимые вещи, с которыми не могло справиться наше воображение и о которых мы могли лишь туманно мечтать – уж этого запретить нам не мог никто. К тому же в песне оживал неведомый прекрасный мир, в котором много чего было по – другому, не по–нашему. Песня ласкала наши сердца – всеми силами души мы торопились в такую заманчивую жизнь взрослых.
А клеши новые,
полуметровые
ласкает бриз… Ха–ха! Ха–ха!
Мы допели, и я с завистью подумал, что у меня не получается петь так хорошо, как поет Витька.
– А ты где учился–то? В музыкальной школе, да?
Он смутился.
– Та не… Сперва это… у гармониста нашего, а после уж сам… по слуху.
Я молчал в изумлении – такое было просто невозможно.
– Да то ж нехитро вовсе… Вот попытай…
Витька сунул мне в руки гармошку, и по его указке я принялся старательно нажимать деревянными пальцами пуговки инструмента. Но странное дело! У хозяина она пела так, что не устанешь слушать – в моих же руках шипела, хрипела, а то и взвизгивала, словно подавившись. Раз за разом терпеливо Витька показывал, как правильно растягивать меха, как сподручнее работать пальцами. Когда я уставал, брал у меня гармошку – и комната снова наполнялась волшебными звуками.
Так прошло, наверно, полдня, пока я хватился, что пора и честь знать. И засобирался домой. Но Витька остановил меня, сказал, чтоб я подождал немного. Сходил, принес дров, быстро и споро затопил печь в соседней комнате и поставил варить картошку «в мундире». Пока варилась она, он выставил на стол миску с холодной похлебкой: в подслащенной воде плавали разбухшие продолговатые зерна. До этого мне не приходилось есть ничего похожего. И это было очень вкусно. Работая ложками, мы быстро увидели дно, и я спросил, чего это мы ели.
– Дома мамка моя часто делает. Навроде тюри с ячменем вареным… И хозяйка моя этим кормит.
Добрались до картошки. Обжигаясь, чистили ее – сухую снаружи, с поблескивающей глянцевито кожурой, и распираемую изнутри жаром так, что порой картофелина лопалась в руках… Глотали, почти не жуя, огненные, рассыпчатые, слегка присоленные куски – и от них, и из наших ртов валил пар. Это было просто объедение! За едой я узнал, что сам Витька – из соседней деревни, где есть только начальная школа. А сюда приезжает на постой на время учебы.
Когда я заторопился, наконец восвояси, было уже довольно поздно. И только теперь я вспомнил, зачем приходил…
4
Сегодня мы шли с Витькой к нему домой прямо из школы – я решил не заходить к себе и сказал Ленке, чтоб передала маме. Но решил так не из–за того, что случилось: хоть я и схлопотал свою первую в жизни двойку, очень–то переживать я и не думал. Просто надо было, наконец, начинать наши занятия, о которых мы из–за гармошки просто забыли.
Миновали кирпичное здание вокзала с большими, выделанными в камне, буквами ЮВЖД.
С путей от шпал пахло мазутом, ветром наносило угарную вонь паровозной топки. Мимо нас, набирая темп, уходил со станции пассажирский. В окнах зеленых вагонов частенько видны были военные, уже семь лет прошло с окончания войны, а все еще ехал кто–то, должно быть, возвращаясь домой. Мелькали за стеклами белые занавески, лампы с абажурами – незнакомый и чем–то притягательный мир. Казалось: вот он – совсем рядом. Но он был так же далек от нас, как и вся жизнь взрослых с ее порой непонятными заботами. Мне стало жаль, что не пришлось ездить в таких вагонах.
Не пришлось?
Скрывшийся уже за длинной, изогнутой змеей поезда – оттуда видна была лишь наклоненная ветром кишка дыма – паровоз загудел протяжно, жалобно, словно ему не хотелось покидать станцию. Гудок его, вибрируя, потолкался о водокачку, пристанционные дома и замер, пропал в пустом небе. И меня вдруг поглотила черная, без огней, военная ночь, вой сирены воздушной тревоги, потом жуткая тишина и еще более жуткий в тишине этой – пронзительный, истошный крик паровоза у станции… Ведь я сидел в таком же вагоне! И глядел из темноты сквозь стекло на большие, висящие на столбе часы, циферблат которых едва заметно светился – то было единственное слабое пятно света во мраке. А рядом сидели взрослые, кто–то из женщин испуганно шептал молитву. Где же всё это было? Теперь уж мне не вспомнить…
Витька шел понурившись – чувствуя себя передо мной виноватым. Я легонько толкнул его локтем в бок:
– О руска земле! Уже за шеломянем еси!
Он кисло улыбнулся.
Весь фокус был в том, что учитель живо напомнил нам обоим, что шутить он вовсе не собирался и ждет результата от наших занятий.
А дело было так. Митрофан Николаевич урок начал прямо с Витьки и, конечно, тут же понял, что всё на том же месте, как было. Учитель спросил у него, занимались ли мы (ха–ха! знал бы он чем…) – и тот соврал не моргнув глазом.
– Хорошо, – вздохнул он. – Думаю, нечестно было бы с моей стороны не выполнять условия нашего договора.
И против наших фамилий в журнале появились двойки.
Весь класс, конечно, веселился по поводу таких дел, но мы с Витькой держались. Мы были теперь вроде знающих свое дело заговорщиков. Тяжело было только видеть смеющиеся черные глаза Оксаны. «Ничего, – говорил я себе, – мы еще поглядим, чья возьмет!»
Когда мы добрались до места, я нарочно сел спиной к гармошке, чтоб не было соблазна. А как за дело приняться – я и понятия не имел. Подумав, решил по свежим следам начать со «Слова…» и попросил Витьку прочитать вслух страничку. Он читал, запинаясь, а я иногда поправлял его, заглядывая через плечо. Когда выяснилось, что пересказать прочитанное он толком не может, я подсунул ему в помощь учебник. Домучив отрывок и даже вспотев от усилий, он закрыл книгу, подумал с минуту и начал:
– Половцы – это были враги русские…
И замолк, испугавшись, что я стану смеяться. И опять стал искать чего–то в учебнике.
– Постой, – сказал я, – вот ты когда чего рассказываешь, ты представляешь себе?.. Ну, думаешь о… о том, допустим, что значит каждое слово?
– Не знаю…
– Как это так – не знаешь?
– А рассказываю – и всё. Чего тут думать?..
– Да как же тогда ты книжки читаешь?
Витька просиял лицом.
– Ну–у… Книжки! То другое дело…
– Почему?
– Та интересно же!
– Ну ладно, можно из книжек. А ну, давай, расскажи чего–нибудь. Ты же говорил, что читал «Остров сокровищ»?..
На губах его заиграла хитроватая улыбка, и глаза заблестели.
– То ж другое дело.
И без всякого перехода, понизив голос, он забормотал: «Этот доктор – чего он понимает в моряках? Бывал я в странах, где жарко, как в кипящей смоле. Там люди так и падали от Желтого Джека, а от землетрясений на суше была качка как на море. И я жил только ромом, да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом…».
Я припомнил: кажется, он сейчас рассказывает о том, как капитан ждет роковую «черную метку». И удивился. До чего гладко – уж не наизусть ли он шпарит? Слегка смущаясь, опустив глаза, скороговоркой и почти без запинки Витька выкладывал фразу за фразой. Заприметив, я взял с тумбочки совершенно затрепанную книгу Стивенсона, нашел нужное место… и был поражен – он пересказывал текст почти слово в слово!
– Послушай… Ты что же – учил наизусть?
– Та не… Читал много раз, интересно…
– А история князя Игоря, выходит, неинтересна?
Витька кивнул.
Тут к нам заглянула старуха–хозяйка. И не в первый раз уж так: станет в дверях и скажет с улыбкой:
– Всё учитесь? Вот молодцы…
– Знаешь что? – сказал я Витьке. – У меня есть и другие книги. Пойдем–ка теперь к нам в гости.
У меня дома уже всё знали, и мама Витьку встретила как желанного гостя, отчего тот порозовел да так и сидел с нами за едой красный.
Узнала–то мама обо всей истории, естественно, от Ленки, у которой хватило выдержки всего лишь на один день. До чего ж у девчонок язык накрепко связан с глазами и ушами! Про записку – то она, конечно, умолчала, зато историю, похоже, изложила во всех подробностях. Я сразу заметил, когда это случилось: мама вдруг перестала спрашивать меня о школьных делах. По всему видно было, что родители устроили меж собой этакое тайное совещание. Чего они говорили там обо мне – не знаю, но даже синяк мой под глазом поминать перестали. Меня даже смех разобрал и я уж было хотел сказать Ленке спасибо, да во–время спохватился – не дай Бог! Похвали ее только – она такую деятельность разовьет…
После еды мы устроились за моим столом и на этот раз я сам читал Витьке отрывок.
«Широкой рекой разлились по Руси пожары, разрушения и смерть. Страшная монгольская орда из далекой степной Азии налетела… Киев, Канев, Переяслав – пали и были разорены до основания… Бату–хан, прозванный Батыем, шел во главе своей стотысячной орды, гоня перед собою вчетверо больше разных пленников, которые должны были биться за него в первых рядах, – шел по русской земле, широко распуская по ней свои отряды и ступая по колено в крови…»
Я нарочно выбрал «Захара Беркута» – тема была близкой к недавнему уроку – и Витька клюнул на приманку. Он забрал книгу с собой и назавтра принес ее в школу. Я удивился такой скорости.
– Не понравилась, что ли?
– Что ты! Интересно! А можно ещё чево–нибудь?
– Да эту–то когда ж ты читал?
– А ночью.
– И хозяйка тебе разрешила жечь свет?
– Та не… Я с фонариком.
Я восхитился – ай да Витька!
– Ладно. Книжку я тебе дам другую, но возьми на заметку, что в тогдашних битвах главными были кони. Ты сам–то верхом ездил?
– А то как же! Былó в ночное мы водили коней – ого!
– Ну тогда всё поймешь, тебе легко будет.
После уроков мы завернули ко мне домой, и я, не показав ему названия, раскрыл книгу и нашел то место, которое я сам отметил:
«С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в поле незнаемом…»
– Что за книжка? – не выдержал Витька. – Вроде как что–то знакомое. Дай почитать…
И осекся, когда я показал ему знакомую обложку.
Еще не раз ходил я на эту, уже чем – то понравившуюся мне улочку на окраине. Кроме основной задачи, мы находили время для общения с гармошкой. И, надо сказать, учеником по музыкальной части я оказался малоспособным. Зато занятия наши литературой сдвинулись с мертвой точки, это было заметно уже по живому блеску глаз моего подопечного.
Через неделю мы оба заработали первую четверку – оценку, которая – как мы все успели уже убедиться – у нового учителя была очень даже серьезной, без дураков. Это была победа. А ночью мне приснился удивительный сон.
По сумеречной степи низко стлался дым костров – степняки к ночи стали лагерем. Я скакал на коне, опасаясь погони. И я знал: при случайной встрече с кочевниками мне не сдобровать – и меч мой, и щит были деревянные. Рядом, не отставая, мчался Логинов, у него совсем не было никакого оружия, но на широком ремне, переброшенном через грудь, подпрыгивала на скаку гармошка. Мы неслись во весь опор – надо было успеть предупредить князя.
1979
Солнечные зайчики на воде
1
Женщина напоминала девочку–подростка: небольшого роста, тонкая, с кукольным лицом – она стремительно вошла, почти вбежала, в комнату. Огненно рыжие волосы её костром вспыхнули в косом солнечном луче, когда она прошла сквозь него; лицо же будто осветилось само по себе, изнутри – сплошь оно было покрыто крупными и такими же яркими, как волосы, веснушками. Небольшой вздёрнутый нос придавал её обличью и вовсе детское выражение, а из–за верхней губы, чуть приподнятой, рот казался полуоткрытым – так, будто приготовленное на ходу слово вот–вот сорвётся с припухлых губ.
И при всём том видно было, что она одних лет с его матерью.
У Серёжки, стоявшего возле окна, вдруг стало холодно внутри, как если бы он чего–то испугался.
– А!… Так это и есть ваш восьмиклассник, ваш старший? – с улыбкой спросила вошедшая у матери. – Хорош парень!
Проходя рядом, она взъерошила волосы на его голове – всё тело Серёжкино отозвалось на мимолётный жест коротким, острым, колючим ознобом. Он покраснел и отвернулся.
Ирина Николаевна – так звали новую соседку – была учительницей. Мужа её перевели работать сюда, в МТС, где нет школы, и ей теперь придется устраиватьтся в железнодорожную десятилетку на станции – в пяти километрах отсюда.
Все эти сведения она выложила единым духом и, повздыхав, посетовала на такое положение вещей: «Просто представить себе не могу, как буду работать в таких условиях…» Серёжкина мать утешила её, сказав, что местных школьников возят на станцию в специально оборудованной машине – так что и ей тоже пешком ходить не придётся.
Воспользовавшись тем, что за разговором женщины забыли о нём, Серёжка тихонько улизнул из дому.
Ирина Николаевна вместе с семьёй объявилась в посёлке несколько дней назад и, обживаясь на новом месте, стала запросто, без церемоний, забегать к ним, чтобы справиться о чём–нибудь или узнать новости.
А вскоре, как водится, соседи пришли в гости. Ирина Николаевна явилась загодя – на ней было лиловое крепдешиновое платье, на котором цвели тёмные, как кровь, маки. Ещё более оживлённая, чем прежде, оттого что на ней новое – такое шикарное – платье, она порывисто перемещалась по комнате, разговаривая с матерью, которой Серёжка помогал накрывать на стол. Казалось, что лиловый цвет и огромные маки заполнили всё пространство. Платье плотно прилипало к её фигуре, а при быстрых движениях отставало, вилось волнами за ней и трепетало, как знамя на ветру. А вблизи даже был слышен шорох крепдешина и пахло жасмином.
И гостиная с обыкновенными, буднично знакомыми, предметами волшебным образом преобразилась в сказочную залу, в которой от окна к этажерке и от неё к окну порхала удивительная райская птица – подобная тем редким тропическим птицам, которых он видел на цветных вкладках–иллюстрациях в книгах, посвященных путешествиям по джунглям Южной Америки.
А потом, в застолье, негромко звучали гитарные струны. Звонкий голос матери забирал высоко – ему было тесно в комнате; голос отца гудел низко – казалось, от него дрожал, вибрировал воздух. Но как же хорошо, как странно хорошо оба они сочетались!
На Кубе,
где под сводом лазурных небес…
Это был старинный романс, Серёжка слышал его, можно сказать, с пелёнок. Отец–то пел его ещё в молодости, в двадцатых годах. И он говорил, что до революции его распевали студенты и гимназисты старших классов.
Ах Куба! Что же такое была она тогда, когда создавался этот романс? Далёкая земля, где царит вечное лето, – страна отдохновения, прибежище красоты и любви…
Начитавшись «Водителей фрегатов», Серёжка грезил дальними странами. Острова, затерянные в ласковых южных морях… тонконогие пальмы, склоняющие кроны свои в причудливом свете тропического заката… Сам романс был красивой песней–сказкой, в которой обитала «смуглянка», «прелестная дева».
Блестевшие влагой глаза Ирины Николаевны были широко и удивленно раскрыты.
А в дивном взоре
твоих чудных очей
сочетался мрак ночи
и блеск солнца лучей…
Эти, давно уже знакомые ему, слова раньше не задерживали на себе особого внимания и смысл их толком не доходил до Серёжки, а тут внезапно открылось: враждебные друг другу и никак не смешивающиеся меж собой вещи – свет солнца и тьма ночная – соединиться могут только в одном… в человеческих глазах!
Крепко запомнился этот удивительный вечер, а ночью приснилась ему Ирина Николаевна в своём лиловом платье. Она ласково–насмешливо говорила что–то, а потом вдруг поцеловала его – так, наверно, целуют феи, добрые волшебницы. Но поцелуй был странным – от него Серёжка весь обратился в надежду–ожидание какого–то невозможного чуда. И ощущение это длилось, было тягучим и сладким.
С тех пор он стал избегать встреч с соседкой: в голове засела нелепая мысль, что она может догадаться про приснившийся поцелуй. Он старался не попадаться ей на глаза, а когда всё же такое случалось, глупо и тяжко краснел – до него с трудом доходили обращённые к нему слова. И каждая такая встреча была для него настоящей пыткой. Он, кажется, скорее согласился бы выдержать сильную физическую боль, чем торчать, как пень, перед Ириной Николаевной – стоять, опустив глаза и проглотив язык.
Серёжка стал бояться её чёрных пристальных глаз. Однажды случайно он встретился с ней взглядом и тут же стушевался – она разглядывала его так, как любопытный человек осматривает интересную вещицу или редкое насекомое.
– Такой красивый мальчик – и такой робкий, – смеялась она. – Что же ты краснеешь, как девушка?
В другой раз она при нём сказала матери:
– Ваш сын – исключение из правил. Смотрите, попадётся бойкая…
Тут она прикусила язык и сделала движение рукой – как тогда, в первый день, – чтобы коснуться его волос. Он резко отшатнулся, стукнувшись головой об этажерку.
– Ну–ну, Серёжа, господи… Дикий ты какой! Вот уж и обиделся, я ж ничего такого…
Какие тут обиды! Просто он стал бояться её прикосновения, как боятся удара электрического тока.
2
А скоро и вовсе приключилось такое, отчего вся жизнь Серёжки переворотилась до неузнаваемости.
Обыкновенно по утрам он ходил за водой к колодцу, расположенному на отшибе, у подножия лесистого холма. Дважды подняв воротом бадью на поверхность и наполнив вёдра, он, бывало, медлил уходить и некоторое время следил, как тёплый утренний свет опускается с верхушек деревьев на холме на крышу соседского дома, потом, скользнув по склону, зажигает жёлтым большие окна ремонтных цехов машинно–тракторной станции и, наконец, заливает до краёв всю круглую низину, в которой расположился посёлок. Это было похоже на игру в прятки: солнце, заглядывая в прореху меж холмами, словно разыскивало кого–то.
В этот раз Серёжке не удалось застать игру солнечных лучей и оно уже вовсю освещало соседский дом и голубой заборчик полисадника. Он невольно задержался на нём взглядом и тут увидел, как из–за дома на тропинку, идущую вниз, вышла соседка.
Он заторопился: не хотелось столкнуться с ней нос к носу, если она вздумает зайти к ним. Надо было успеть занести домой воду и смыться. В один переход с полными вёдрами, не отдыхая, он достиг дома, внёс вёдра в сени, поднял на лавку, кинулся назад, соскочил с крыльца да так, тяжело дыша, и обомлел, застыл на месте.
Получалось так, что прямо перед ним уже стояла та, с которой он так жаждал разминуться. Но он просто оцепенел от страннного обмана зрения: как будто в результате какого–то колдовства или волшебных чар соседка сделалась лилипуткой! И платьице на ней было другое – детское! – и маленькие ноги обуты в сандалии. Причёска – копёнка рыжих волос – была похожей, и лицо тоже: всё в веснушках и с носом пуговкой… Только всё это было сильно уменьшенное!
– Здравствуй, тебя ведь зовут Серёжа, да?
Он кивнул оторопело – с ним говорила обыкновенная девчонка… может, ровесница, может годом моложе. Но как же похожа она была на Ирину Николаевну – ему ещё не приходилось видеть, чтоб два человека так сильно, до мелочей, были похожи друг на друга. К тому же и лицо, и открытая шея девочки были усеяны такими же, как у её матери, веснушками.
– Я приехала на лето из города, – слегка важничая, сообщила она и добавила: – Меня зовут Марианна.
– Сергей, – сказал он, протянув руку, и она легонько пожала её своей (маленькая кисть вся была в золотых нашлёпках). – А почему на лето? Слыхал я, что родители твои прибыли сюда жить, работать…
– Про меня мы ещё не решили, – она вздохнула. – Не хочется бросать воронежскую школу… Может, на время учёбы я останусь у бабушки.
– Ага, уже познакомились, – прозвучал рядом знакомый голос. – Серёжа, здравствуй. Мама твоя дома?
Понятное дело: это была Ирина Николаевна, но тут уж было гораздо легче – в присутствии дочери разговаривать с соседкой было не так мучительно.
3
Серёжка подружился с соседской девчонкой и та присоединилась к разношерстной поселковой компании, которая большей частью проводила время на речке. С чьей–то лёгкой руки все звали её Марийкой.
Серёжкин ровесник, сын местного конюха Митяй, помогая отцу, нередко мотался куда–нибудь по мелким поручениям, самостоятельно управляясь с лошадью. Иногда он подвозил на телеге ребятню до речки, и там Серёжка вместе с ним выпрягал пегого коня Зайчика и купал его. Конь был смирный, послушный, как верный пёс, – когда терли ему бока, косил благодарно розовым глазом, пофыркивая от удовольствия. Городская девчонка всё порывалась прокатиться на нём, но Митяй решительно пресёк баловство: «Верхом на нём никто не ездит, мало ли что…»
Бывало, возвращаясь с речки, Серёжка с Марийкой отставали от компании и на подходе к посёлку садились под дубом на лесной опушке и часами просиживали за разговорами о всякой всячине. Но однажды кто – то из «голопузых» прокричал от крайних домов: «Тили – тили тесто – жених и невеста!»
Серёжке надоели усмешки и подмигивания пацанов, и он решил поправить дело. Каждый раз его семилетний брат Николка просился на речку, и Серёжка решил найти для купания место получше. Он отыскал что–то подходящее поближе к лесу, который на самом краю раздавался, как бы выпуская речку на простор, – дальше она пересекала широкую луговину, чтобы, вильнув излучиной, выбежать в степь, а там, петляя по ней, бежать и бежать до самой железнодорожной насыпи и ещё дальше – в неведомые края.
У луговины берегá речушки сплошь закрывались зарослями куги и осоки, зеркало чистой воды обуживалось – по нему то поодиночке, то кучками белели водяные лилии. Но купаться здесь было невозможно: у самого берега ступни выше щиколотки тонули в скользкой, словно маслянистой тине – уж тут сразу хотелось оторвать ноги от дна и плыть посерёдке по вольной воде, которой здесь было маловато.
Зато у самого леса небольшая проплешина полого спускалась к воде, дно тут было чистым и можно было пешком перейти на другую сторону – всего каких–нибудь десятка два шагов, причём на серёдке вода едва доходила до пояса. Место было просто находкой для Николки – он мог бултыхаться на мелководье до тех пор, пока от холода не начинали постукивать зубы. А он с Марийкой, выйдя на середину, пускались вплавь неподалёку вдоль русла – туда, где было поглубже. Тут берег был покруче и можно было выбраться наверх и, разбежавшись, прыгнуть головой вниз и вынырнуть на середине реки.
Однажды произошла история, доставившая Серёжке немало переживаний.
Он стоял на берегу и смотрел, как плыла Марийка – «по–собачьи», смешно задрав подбородок. Проснулся в нём какой–то охотничий азарт. Прикинув расстояние, он бросился в воду, донырнул до неё, обхватил – рука легла ей на живот и спустилась ниже… он коснулся сокровенной части тела и с удивлением обнаружил, что сквозь тонкую ткань трусов явственно ощущается щёточка жестких волос… На остатке воздуха в легких, он ушел вбок, выскочил, как пробка, на поверхность, судорожно глотая воздух. Потом видел, как она, отчаянно покраснев и не глядя в его сторону, плыла обратно, шла к своей одежде.
Серёжка вразмашку достиг берега.
– Постой… Я ж не хотел, не нарочно, – соврал он.
Она не ответила. Одеваясь, молчала. Когда шли домой, он попытался взять Марийку за руку – она выдернула её. И за всю дорогу не произнесла ни слова. Ничего не понявший Николка плелся сзади и канючил – он никак не мог взять в толк, почему в этот раз так мало были на речке.
Остаток дня Серёжка провёл в страхе – в состоянии, близком к отчаянью. Всё пропало! Едва начавшись, навсегда окончится теперь их дружба… Всплывало в памяти лицо Марийки, залитое краской, в которой веснушки как будто даже растворились. Он вообразил себе, что всё станет известно её матери. Что будет после, он не мог и представить. Но был уверен – будет что–то ужасное. Да и от родителей тоже ничего хорошего ждать не приходилось…
Однако на следующий день он встретился с Марийкой возле колодца и она заговорила с ним как ни в чём не бывало. Серёжка обомлел от удивления и счастья: значит, всё забыто! Выходит, он плохо подумал о ней, а она поверила его словам и простила… Есть ли на свете радость сильнее той, когда, прогнав все мучения и страхи,– вдруг возвращается потерянная дружба? И как же хорошо жить на свете!
4
Само собой вышло, что они время от времени стали гулять вдвоём. Но Николка то и дело увязывался за ними, докучал своим присутствием. Тогда неподалёку от посёлка, в лесу, Серёжка отыскал потаённое место для встреч. В густом подлеске, среди зарослей, скрывался небольшой округлый водоём – к нему ни одной тропинки не было. Странно: сверху выглядел он как полное до краёв блюдце, но речка была далеко отсюда и с ней он не мог соединяться никак. Похоже, после дождей вода набиралась в воронку от бомбы или снаряда, оставшуюся с войны. Но было непонятно, почему она не высыхает летом, в жаркую пору, а если на дне этой ямы бьёт ключ, то почему вода не переливается через край.
Рядом на взгорке Серёжка облюбовал дупло в старой осине, придумав использовать его вместо почтового ящика: повыбрасывал оттуда насыпавшиеся обломки веток, влажную, остро пахнущую труху. И вышло удобно: в дупло можно было лишь руку просунуть, зато в него даже в дождь вода не попадала. Получилось проще некуда: он опускал в дупло записку, в которой назначал время встречи, – и Марийка приходила. Иногда он вынимал ответ, в котором она просила перенести свидание.
Но однажды она не явилась в назначенное время. И ответа в дупле тоже не было. Он вернулся домой, но ещё не успел сообразить, как быть дальше, как вдруг увидел в окно почти бегущую к их дому Ирину Николаевну – на ней лица не было. Он понял: что–то стряслось. Не желая попадаться сейчас на глаза ни соседке, ни матери, которая была на кухне, он заскочил в спальню и прикрыл за собой дверь. «Проходите, проходите, пожалуйста», – услыхал он голос матери. Женщины вошли в гостиную.
– Вот не ожидала… – голос Ирины Николаевны прервался то ли от волнения, то ли от быстрой ходьбы. – Вот уж не ожидала!
– А что случилось?
– Где ваш сын?
– Мой сын? Какой из них? Оба пообедали недавно и ушли гулять. А что…
– Младшего я видела, старший–то где?
– Да вы не волнуйтесь… Скажите толком, случилось–то что?
– Не волнуйтесь! – нервно повторила соседка. – Да известно ли вам, что вытворяет ваш Серёженька?
– Что?! Что такое?
– Полюбуйтесь!
Наступило зловещее молчание. Прислонясь спиной к стене, Серёжка стоял ни жив ни мёртв. У него бешено колотилось сердце, пересохло в горле… Что у них сейчас в руках? Неужели его записка к Марийке?
– Вы подумайте! Ваш сын водит мою дочь в лес! Он назначает ей там свидания! – Послышался вздох матери.
– Ох, как вы меня напугали – я уж решила… Я видела: дети гуляют вместе – что же тут страшного?
– Что стра–а–шного?! – Ирина Николаевна взгвизнула, как ужаленная. – Вам говорить легко: у вас сын! А у меня дочь – да! Дочь, которой пятнадцать!
– Но Ирина Николаевна! Вы же сами называли Серёжу чересчур скромным… и мне кажется, мой сын – мальчик хороший и не позволит…
– Хорош мальчик! Испорченный мальчишка – вот он кто! Он целовал мою дочь, ваш сыночек! Да! Она мне созналась!
Снова наступило молчание. Освещенное солнцем окно в спальне в глазах Серёжки на миг стало чёрным, как в негативе.
– Ирина Николаевна, дорогая… Может быть, мы с вами всё понимаем со своей колокольни, подзабыли наши те же годы. А детские поцелуи…
– Ну, знаете! Этого я от вас не ожидала… Речь идёт о наших же детях, а вы бог знает что говорите! Я думала найти с вами общий язык… Очень жаль!
Раздались быстрые, сердитые шаги, сильно хлопнула входная дверь, потом он услышал, как мать тоже пошла из комнаты – она так и не узнала, что он стоял рядом, в нескольких шагах.
5
В дождливых сумерках низкий, плотный, сизый облачный полог изнутри разом вспыхивал весь бело–голубым и как будто шипящим светом – следом тяжело падал оглушающий грохот грома. А после слышно было, как шумит и плещется дождь. По мнению старожилов, подобные светопреставления в этих местах случаются из–за расположенных поблизости залежей железной руды, которые «притягивают» молнии.
Серёжка стоял возле приотворённого окна. Впервые в жизни он видел такую сильную грозу. Жутковато было торчать здесь: от ослепляющих вспышек и громовых раскатов словно съёживалась душа, хотя в ней самой тоже бушевала невидимая миру буря – неведомая сила вызывала оцепенение, окаменелость, всецело завладела его телом и не давала ни затворить окно, ни отойти от него, она была сильнее страха.
Мимо дома ехала подвода. Лошадь бежала рысью, тускло поблёскивали её мокрые бока, шлёпали копыта по лужам, далеко разнося брызги. Она торопилась домой, под крышу, – туда, где сухо и не так ужасна расходившаяся стихия. Серёжке показалось, что это был Зайчик. Седока плохо было видно: над боковиной телеги лишь тряслась чья–то голова, накрытая намокшей мешковиной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































