Текст книги "В беде и радости"
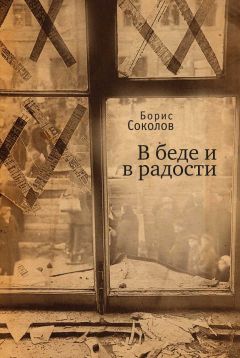
Автор книги: Борис Соколов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Подвода обогнула сквер и пропала из виду, выехав на площадь перед конторой. Близкая вспышка ослепила Серёжку – он невольно зажмурился. Но в глазах – как на мгновенном снимке – отпечаталось, осталось: кривая, быстрая, голубоватая огненная змея скользнула к земле там, за сквером, на площади – и обрушился мощный удар грома. Он вздрогнул, открыл глаза, но не двинулся с места.
Очередной сполох осветил огороженный невысоким забором сквер: и кустарники жёлтой акации, и памятник погибшим на войне солдатам – всё было занавешено ровной, отвесной сетью дождя. Серая, устремлённая ввысь, игла обелиска словно парила в воздухе, отделившись от земли. Серёжка глянул на неё – и его вдруг пронзила мысль:
если б его убило молнией, тогда бы они – и мать, и соседка – сильно пожалели бы о том, что сделали… и Марийка, когда узнала бы о его гибели, – никогда не простила бы своей матери… И так горько и сладко сделалось на сердце, что из глаз его полились слёзы.
Как же могла мать так с ним разговаривать? Не подозревая о том, что он слышал тогда все их речи, она начала издалека, окольным путём стараясь выведать подробности. Эта хитрость возмутила его – значит, она ему не верила! Зачем же надо было в таком случае защищать его? Чтобы потом допрос устраивать? Если бы она открылась ему про тот разговор, он ответил бы ей тем же, а тут он поначалу отмалчивался, потом начал дерзить – в результате мать и вовсе заподозрила неладное.
Кончилось всё тем, что Марийку срочно отправили к бабушке – как было сперва сказано – до сентября. И только потом он узнал, что не вернётся она и к сентябрю – останется учиться в городе.
Последней каплей стало то, что мать с отцом отправились в гости к соседям (мать помирилась с Ириной Николаевной, им удалось–таки «найти общий язык»).
Это было уже настоящее предательство. Ясно было, что взрослые всегда солидарны меж собой и держатся заодно. Теперь им всем там весело, а Ирина Николаевна, конечно, красуется в своём шикарном платье и хохочет без причины, а родители поют романсы – и никому до него дела нет.
Умереть – это же так просто. Как заснуть. Потом им всем будет плохо, а ему – лучше всех: он будет спать себе и ничего не видеть, не слышать…
Он растворил окно настежь, влез на подоконник и спрыгнул на землю. Через минуту был уже в сквере. Дождь хлестал без остановки, шумел в траве, в акациях. Он вымок насквозь, вода лилась с головы, капли катились по лицу и хорошо было теперь плакать от жалости к самому себе – ведь он остался один перед всем миром. В поисках спасения от одиночества, заброшенности он шёл к памятнику, к высоченной его игле, которая тоже должна притягивать молнии.
Дрожа от озноба, он сел, прислонился к гранитному постаменту и стал ждать.
Свет молний проникал сквозь сомкнутые веки. Небо время от времени полыхало, разламывалось от грохота, но сполохи были уже далеко – гроза уходила.
И тут сквозь шум и плеск дождя он услыхал чей–то крик со стороны площади – там, за кустами акаций, кто–то бежал и голосил заполошно. Безотчётно повинуясь внутреннему толчку, он вскочил и побежал на крик.
Посередине площади торчала знакомая телега – перед ней в завернутых на сторону оглоблях, запрокинув голову, неподвижно лежал Зайчик, почему – то огромным, безобразным шаром вздымался его живот. Как завороженный, Серёжка не мог оторвать взгляда от коня – что с ним сделалось?
Уже собравшиеся здесь мужики из ремонтных мастерских обсуждали происшествие.
– Эка его молоньёй шарахнуло!
– Ты гляди, как раздуло–то…
Дождь всё лил и лил на мёртвую лошадь, на собравшихся людей.
– А ехал–то кто? Кто ехал? – спохватился кто–то.
Заглянули в телегу: на дне её, опрокинувшись навзничь, с закрытыми глазами, сложив руки на груди, как покойник, неподвижно лежал Митяй – в лице его не было ни кровинки, он не подавал никаких признаков жизни. Кто–то наклонился к нему – дышит! Попробовали растормошить его, стали вытаскивать из телеги, и тогда он, как лунатик, не открывая глаз, принялся отбиваться, крича с закрытыми глазами: «Помер я! Помер!.. Схороните меня скорей!»
– Да он, видно, без памяти… со страху–то, – сказал кто–то.
Мужики начали трясти Митяя как куклу – и тут он пришёл в себя, озираясь, выпучился, увидал мёртвого ужасного Зайчика и заревел в голос.
Серёжка повернул к дому – он сам теперь как будто очнулся от жуткого потрясения. Вот, кажется, только что Зайчик бежал мимо дома, торопился в конюшню… Так это был тот самый удар молнии, который ослепил и почти оглушил его, стоявшего в комнате в доброй сотне метров отсюда! А что пережил Митяй, когда в каких–то метрах от него молния ударила в коня?.. Сидел бы он не на дне телеги, а выше, на передке – шарахнуло бы в него. Так и стоял в памяти раздутый до неузнаваемости труп лошади – а ведь то же самое могло быть и с Митяем…
В сенцах он наткнулся на дрожащего, перепуганного Николку.
– Серё–о–ож… – захныкал он, – почему ты ушёл?..
Серёжку кольнула острая жалость к позабытому, оставленному им, ни в чём не повинному младшему брату.
– Да ты что же не спишь?
– Стра–а–шно…
Серёжка погладил голову прижавшемуся к нему брата. Сквозь ночную рубашонку чувствовалось тепло его маленького тела, и живое тепло это непостижимым образом окончательно возвратило к жизни – буря, поднявшаяся в душе, улеглась, затихла.
«Господи, да как же я мог?!»
Он упал на колени и крепко прижал к себе брата. Тот притих, одеревенел, почувствовав состояние старшего. А у него в горле застрял комок; сдерживая себя, чтоб не разрыдаться, он мотнул головой, но непрошенная слеза, попутно вобрав в себя дождевые капли, сорвалась, упала за ворот сорочки младшего. Николка поёжился.
– Там дождик, да?
– Да–да, Ник… Сильный дождь… Идем спать. Не бойся – теперь я никуда не уйду.
6
Шло время. Словно покрывающиеся защитной коркой царапины, глохли, отодвигались переживания ушедшего лета. Серёжка в этом году начал занятия в новой школе на станции и теперь редко вспоминал о том, как он хотел умереть. Но о Марийке помнил всегда.
А уж последнюю их встречу у того лесного омута он помнил до мельчайших подробностей.
Была такая минута, когда, осмелев, он притянул к себе её за плечи и коротко, неумело поцеловал её в твердые, сжатые губы. Щёки её схватились мгновенным пламенем румянца, на глазах выступили слёзы, и она, нагнув голову, спрятала лицо на его груди. Он смешался.
– Что ты? Что? Ты плачешь?
– Я… мне… – она всхлипнула. – Я не знаю. Голова кружится…
– Это, наверно, ничего. У меня тоже…
В сырой тени деревьев у самой воды было прохладно, и она сказала, что ей холодно. На бугорке они сели рядышком на траву, тесно прижавшись друг к другу, и стали смотреть на игру солнечных бликов на поверхности омута. Он подумал о том, как после школы они поедут в город поступать в ВУЗ и тогда уже, ни от кого не таясь, смогут всегда быть вместе…
Вздохнув, она вытянула руку, раскрыла ладошку и поймала в неё золотое пятнышко солнечного света. Зажмурилась и прошептала, улыбаясь:
– Когда закроешь глаза – кажется, что на ладони лежит тёплый комочек живого существа…
И, помолчав, добавила:
– Они такие тёплые… Эти зайчики.
1978
Обыкновенная запятая
Ах, как она улыбается! Как смеются её глаза, щедро расточая искры, – будто это не привычный орган зрения, а два самостоятельных источника живого весёлого света, от которого хочется не то петь, не то плакать по неизвестной причине. Две чёрные вишни, обрамлённые густыми загнутыми ресницами, – они похожи на нездешние диковинные цветы.
Меня бросает то в жар, то в холод: вот её улыбка, и взгляд, и тихий смех обращены ко мне – и меня словно приподнимает над землёй какая–то сила, и я не чую себя, своего веса… И тут же вижу с пронзающим всё моё существо ужасом: поворотясь, совершенно то же самое она с обычной своей ласковостью дарит моему лучшему другу.
Тут у меня вроде слух пропадает начисто: губы её шевелятся, а я не слышу ни единого слова.
И эта пытка, эти терзания длятся почти каждый день. Всё дело в том, что мы с Толиком провожаем её после уроков (это как раз в сторону противоположную от того места, где мы живём, – а нам–то после ещё топать обратно километров шесть).
Светлана всегда шествует посерёдке, мы – по бокам, как два верных пажа. Не знаю, как Толик, а я иду, как по облаку, не замечая ничего вокруг. Немного прихожу в себя лишь на окраине посёлка – там, где тропа вплотную подходит к глубокому оврагу и в одном месте бежит по–над самой кручей, – тут уж я начинаю замечать, что ноги мои всё же шагают по земле и как–никак от меня зависит, куда я сделаю следующий шаг.
А на подходе–то и не понять, что впереди – овражина. В самом начале, в неглубокой впадине, сплошь укрытой зарослями ивняка, маячит одинокая ветла и в густой кроне её всегда стоит неумолчный щебет – иногда перед нами, как с неба свалившись, упадёт трясогузка и побежит, мелко семеня лапками и подрагивая длинным, узким хвостом. Здесь, в этой впадине, наверно, и начинается ручеёк, бегущий дальше – всё вниз да вниз – по глубоко ушедшему дну в глинистом ущелье, как будто прорезанном гигантским ножом.
У крутого, почти отвесного, обрыва – там, где тропа, словно нарочно поддразнивая идущего мимо, подходит к самому краю, мы невольно прерываем наш разговор. На какое –то время бездна отвлекает, притягивает наши взгляды, но, разумеется, очень скоро наше говорение, подобно тому птичьему гомону, возобновляется с прежней силой.
На обратном пути мы с Толиком шагаем быстрее.
И вот же в чём штука: мы оба, не сговариваясь, вроде забываем о Свете и всю дорогу болтаем о чём угодно, только не о ней. Тем более что потолковать нам есть о чём.
И удивительно! Во время наших прогулок втроём, когда Света улыбнётся вдруг Толику, снизу заглянув ему в лицо своими лучистыми глазами, бывает так больно, что в тот момент я должен ведь ненавидеть своего друга… А по мне боль никак с ним не связана. Просто похоже на ожог от неосторожного обращения с огнём: саднит обожженное место и уже не можешь думать ни о чём другом – кроме как о чёртовой болячке. И потом: мучаешься–то лишь пока болит – вот в чём дело!
Ну, а в этих беседах с Толиком на пути обратном – тут уж всё нормально. Света незримо сопровождает нас – то, что она вообще существует на земле да ещё где–то недалеко, кажется, сближает нас ещё больше.
От расположенной наособицу хаты, в которой Толик живёт с родителями, до моего дома ещё с полкилометра, и путь этот я проделываю наедине со своими мыслями. Не то чтобы это какие–то там важные мысли, а, если разобраться, просто мечтания. Вот идём мы втроём, например, вдоль крутого склона оврага – и Толик срывается вниз, подвёртывает ногу, а я потом несу его на себе…
Но жизнь, как известно, не терпит подобных фантазий. И не то что она напрочь отвергает мечту – она как будто даже с юмором порой переворачивает всё с ног на голову: как раз моему другу и пришлось спасать меня самого.
Это случилось как раз во время выпускных экзаменов, когда мой младший брат заболел корью и был сразу изолирован в отдельной комнате. Только мама имела право входить к нему – из нас она одна переболела в детстве и корь ей была не опасна. Отец переселился в свой служебный кабинет и даже ночевал на работе. Как сказала мама, для взрослых, если они заболевают корью впервые, болезнь очень тяжела, почти смертельна. Я тоже получил строжайший наказ обитать в другой части дома – чтоб не заразиться – и она, конечно, думала, что я хорошо понял всю серьёзность положения, как понял бы всякий нормальный человек. Зря она на меня понадеялась – мог ли я долго выдержать? Брат хныкал в своём вынужденном заточении, и я, улучив момент, прошмыгнул к нему. Я ничего не боялся – просто не верил, что на свете могут быть какие–то микробы, способные совладать со мной. Брат ещё мал и слаб, потому и заболел, но чтобы я?.. Чтоб развеселить затворника, я прихватил с собой «Двенадцать стульев», а для чтения выбрал случай с инженером Щукиным. Примостившись на его койке, я тихо читал ему ужасно смешную историю о том, как – совершенно голый и весь в мыле – взрослый человек оказался на лестничной площадке перед запертой дверью в собственную квартиру…
Брат визжал от смеха, глаза его сияли восторгом – мы были счастливы оба.
Мама, конечно, застукала нас на месте преступления, сильно разволновалась и не успокоилась, пока вызванные бдительные медики не ввели мне огромную дозу белёсой, как снятое молоко, вакцины. Но было уже, наверно, поздно – а может, и вовсе зря… И дальше произошло вот что…
За последний экзамен (по немецкому языку), помимо отличной оценки, удостоился я и отдельной похвалы, провозглашённой председателем комиссии. Вообще я любил предмет, но теперь, к удивлению своему, не испытал ни малейшей радости. Голова моя внезапно словно наполнилась какой–то горячей ватой, я тупо глядел на экзаменаторов, молчал и не двигался с места. Бедный наш учитель, должно быть, немало был озадачен – я плохо помню, потому что в глазах моих, размывая лица сидевших за столом людей, плыл фиолетовый туман.
Наконец, пошатываясь, я побрел к двери, кое–как выбрался во двор и остановился. Кружилась голова, огнём горело лицо – я не понимал, что со мной такое, лишь чувствовал: сделаю несколко шагов – и упаду. А до дому–то надо было идти от школы пять километров.
Уж не знаю, что было бы со мной, но вот тут и явился мой спаситель – неразлучный дружок мой Толик. Приехал он на экзамен на велосипеде и теперь повёз меня на раме домой.
Когда ехали, всё у меня плыло перед глазами; Толик что–то говорил мне – я едва слышал, слова доносились глухо, как сквозь толщу воды; время от времени я будто проваливался в душную, мокрую яму и снова с великим трудом выплывал из неё.
Дома я впал в беспамятство.
И мои дни и ночи слились в одно: в этом знакомом мире, где возле меня хлопотала мама, – я отсутствовал. Она говорила потом, что я выжил чудом. Наверно, как всякая мать, она склонна преувеличивать. Но всё же я помню, как странно было для меня всё, казалось бы, раньше такое знакомое.
Когда я первый раз очнулся, потолок и стены покачивались, будто собираясь кружиться. А потом и вовсе приключилась со мной странная штука: будто воспарил я легко и просто, без всякого труда и, не ощущая никакого неудобства и собственного веса, парю, плаваю себе без малейших усилий и поглядываю вниз, как на кровати беспомощно кто–то лежит на спине… Да кто же это? Кто? Да ведь то сам я и есть… Галлюцинация с раздвоением была ошеломляющей: мне – верхнему – было хорошо и легко, а я – нижний – не мог даже поднять руки, пошевелить пальцем. Но продлилось всё это недолго, потом я опять лежал как раньше и разглядывал потолок и стены комнаты, которая почему–то казалась мне чужой.
Ну да всё, слава Богу, оказалось позади, я начал выздоравливать. Когда уже мог привставать с постели, хоть и дрожала рука ещё, я стал есть самостоятельно. И мама, глядя на мои упражнения с ложкой, сказала, что приходил Толик – сначала один, а потом ещё и с девушкой.
Я замер, посмотрел на неё.
– Когда?
– Да ты ещё бредил и никого не узнавал…
– И ты пустила их сюда?!
– Нет–нет, что ты! Я сказала, чтоб зашли попозже, когда тебе будет лучше… Ты что покраснел?
– Вот ещё, – проворчал я, – чего мне краснеть?..
– Ну… может, мне показалось. – Она помолчала. – Что за девушка–то приходила?
– Да откуда я знаю, мама…
Почему – то сейчас мне не хотелось признаваться, хотя я сразу догадался, что это была Света. Чёрт его знает, времени –то прошло всего–ничего: неделя с лишком, а какими давними, какими далёкими казались теперь и экзамены, и наши прогулки втроем..
И вместе с этим ощущением огромности времени, непонятным образом вместившемся в считаные дни моей болезни, – полынной горечью, отравой поднялось во мне воспоминание о проклятой запятой… Да как же, как согласился я на такое? Ах, знать бы тогда, что ничтожный крючочек, убранный из моей письменной экзаменационной работы, с того дня, словно червь, поселится внутри и станет разъедать душу мою мукой обжигающего стыда. То, что тогда я всё подробно рассказал маме и она пыталась успокоить меня, говоря, что я ни перед кем ни в чём не виноват, – ничего не меняло. Я понимал: уже одно то, что сотворённое мной составляет тайну для Светланы, а особенно для Толика, есть не что иное как обыкновенная подлость.
А они–то приходили ко мне.
Я представил себе, как шли они сюда от школы целых пять километров, Толик со Светой, и потом тут, на крыльце, а может, и совсем рядом, в коридоре возле моей двери, разговаривали с мамой. И мне стало жаль себя из –за того, что я лежал через стенку в бреду и не соображал ничего.
Уходя с опустевшей миской, мама сказала мне, что они собирались прийти ещё.
И они действительно заявились ещё раз. Уже из окна я увидел, как они идут по дороге, подходят к нашему дому: Толик в неизменной своей вельветовой куртке, а Света в цветастом ситцевом платье – Толик говорит ей что–то, а она молча улыбается его словам.
Когда они вошли ко мне, сначала всем было неловко: я вообще не знал, о чём говорить, а они оба смущались. Но потом ничего, разговорились потихоньку; правда, сам я больше молчал. Света объявила, что теперь окончательно выбрала себе будущую профессию (она давно мечтала стать учительницей) и собирается ехать в областной город и поступать в университет. Хорошо, подумал я, когда человеку нравится что – то одно – тогда он запросто может решить, что делать после школы…
– А ты куда поступать будешь?
Вопрос Светланы застал меня врасплох, и я разозлился – обязательно надо лезть человеку в душу.
– А в шофёры подамся. Мне, например, даже кое–что обещали…
Светлана покраснела (отличник – и в шофёры?) и, как бы взывая о помощи, стрельнула глазами в Толика. И то, как она посмотрела и каким взглядом ответил ей Толик – меня больно задело. Я подумал, что они, наверно, уже целовались, и у них теперь началась любовь – как раз, когда я свалился. Кончились наши хождения втроём…
«Ну и ладно, – сказал я себе. – Ну и замечательно.»
А у самого внутри стало так холодно, будто туда положили хороший кусок льда.
– Ты, конечно, шутишь… – сказала Света.
– Да в чём дело? – вскинулся я. – По–твоему, за рулём можно быть неучем?
Сказать по –честному – я просто ей позавидовал. Хорошо, когда у тебя впереди, что называется, полная ясность. Зря, конечно, я так Светлане ответил – она–то чем виновата? Знала бы она, что творится в моей душе. Ох, как мне было сейчас не до разговоров!
Вообще ещё до болезни я начал ловить себя на том, что, бывает, приходит такая минута, когда тебе совсем неохота отмачивать всякие штуки или, допустим, острить по любому поводу – то есть пропадает настроение к веселью. Похоже на то, что у меня стал портиться характер, ей–богу! Ни с того ни с сего наваливается жуткая хандра – и тут уж не до вопосов, которые тебе задают.
Так что Светлане я действительно не знал что ответить. С первого класса, который начался для меня в сорок пятом, в школу я ходил с охотой и учился с удовольствием. Каждый из новых предметов, которые добавлялись при переходе из класса в класс, был интересен по–своему, и я принимался за него, пожалуй, даже с бóльшим рвением, чем следовало бы. Ну а когда тебе интересно, то какое тут может быть учение? Всё происходит вроде само собой, легко и просто.
Зато попробуй выбери, что тебе больше всего по душе – враз запутаешься, заблудишься, как в лесу. И то хорошо, и другое неплохо, а третье, глядишь, и того лучше. И возникает сумасшедшая мысль: а почему жизнь так устроена, что нельзя заниматься всем сразу?
Позавидовал Свете я потому, что сам ещё понятия не имел, как распорядиться собственной судьбой. То есть я вообще не понимал, как могут быть связаны успехи в учёбе по отдельно взятому предмету и профессия – это ведь разные вещи! Я, например, хотел бы стать капитаном, таким как Джеймс Кук, или учёным – путешественником как Миклухо – Маклай, а ещё лучше – и тем и другим одновременно. Отправиться в далёкую страну, где живёт незнакомый народ, выучить его язык, наблюдать обычаи… Всякому ясно: тут надо знать географию, но разве математику или, допустим, иностранный учить вовсе ни к чему?
Конечно, я догадывался, что такие мечты мои вряд ли сбудутся. Но вот что до меня не доходило: как можно хорошо учиться, например, по таким предметам как русский язык и литература и плохо – по математике и наоборот? И разве может быть скучным предметом логика с её удивительными упражнениями, неожиданно открывающими удовольствие мыслить?
То –то и оно, так уж заведено: скажем, решаешь запросто сложные задачки – значит, быть тебе математиком. Ну а у меня и в мыслях такого не было, мне всегда просто интересно было искать и находить заковыристые решения. И потом: даже в арифметике – чистой цифири – спрятано что –то привлекательное, а уж в алгебре с её буквенной символикой и геометрии с её жесткой, зримой взаимозависимостью линий и углов – тем более… Каждый раз, следя, как железная последовательность математических выкладок неумолимо ведёт к нахождению единственно верного решения задачи или примера, я испытывал незнакомую до той поры и даже не совсем понятную мне самому радость. Я смутно чувствовал, что во всём этом есть не одна лишь логика, но нечто, может быть, не менее важное – какая–то невидимая глазу красота. Толком объяснить свои ощущения было трудно да я и не стал ни перед кем распространяться на эту тему. Сказал как–то одному Толику, какие чудеса лезут мне в голову – и мой друг меня прекрасно понял и согласился со мной.
Меня удивляли жалобы на то, что учебники по математике нудные и что кое–кто вынужден заставлять себя механически запоминать правила и формулы. Мне это было непонятно. Старенького Киселёва я открывал не для того, чтобы зубрить. Я читал его, как интересную книгу: даже простенькие, всем известные формулы, такие, например, как
(а + b)² = а² + 2аb + b² ;
(а³ – b³) = (а – b) (а² + аb + b²)
трогали своей скрытой симметрией и неуловимой красотой. А когда, рассчитав координаты параболы, случалось соединять карандашом нанесённые на милимметровку соответствующие точки, я поражался совершенству ложащейся кривой. Даже не верилось, что её чертит моя рука!
При всём том у меня и в мыслях не было, что именно математика должна заслонить мне весь свет.
Но наша математичка (и она же – классная руководительница) после родительского собрания заявила моей маме: «В моём классе есть два ученика: ваш сын и Толя Печонкин, оба они – прирожденные матеметики. И знаете, мне совершенно ясно: оставить их способности без применения – просто преступление! Ваш сын обязательно должен поступить в математический вуз!»
Узнав об этом, я удивился. Уж если на то пошло, ничуть не меньше мне нравились и другие предметы: история, например, или немецкий… И не то чтобы я любил именно этот язык, скорее мне просто по душе было изучать иностранный (другого в нашей школе не было). Узнавание чужих, незнакомых слов и звуков языка было похоже на путешествие в неизведанную страну, однажды отправившись в которое, я успешно забирался всё дальше и дальше к удовольствию учителя и, особенно, соклассников – некоторые из них нередко обращались ко мне за помощью.
Увлечения у меня и другие были: когда на меня найдёт, я мог часами просиживать за рисованием. Правда, на школьных уроках скучно было изображать топоры, врубленные в колоду, орнаменты из дубовых листьев и желудей, бюсты или вазы античной формы… Точно выполнить рисунок да правильно наложить тени – вот и всё, что требовалось. И в классе я работал с прохладцей, но дома…
Иногда у меня буквально чесались руки – даже зуд какой–то возникал на коже, честное слово! И тут уж я трудился как следует: сам рисунок давался мне легко, но когда я пробовал работать с акварелью – никак не мог совладать с красками. Лишь перейдя на цветные карандаши, я добился неплохого результата. Однажды к годовщине восстания декабристов для стенгазеты я выполнил цветную копию одной картины: каре восставших на Сенатской площади, фиолетовые сумерки, белые клубы дыма от орудийного залпа… Вышло здóрово – это все говорили.
Куда тяжелее было другое: рисовать с фотографии портрет Светланы (однажды она подарила мне и Толику одинаковые снимки), тут уж я потерпел неудачу. Получилась–то она похожей – можно было узнать сразу – но, увы, я нипочём, сколько ни старался, не мог схватить её улыбку. Она ускользала от меня, делаясь какой–то ненатуральной, из–за чего и всё лицо приобретало деревянный вид.
Вот и теперь, за нашей глупой болтовнёй, украдкой я подглядел, как она улыбнулась Толику, и понял в отчаяньи: никогда в жизни не смогу я изобразить эту улыбку.
Когда я снова остался один, от всех этих мыслей такая тоска меня взяла – хоть плачь. Как мне смотреть в глаза Толику, ничего не знающему про гнусную запятую? Может, надо было взять да рассказать, как с математичкой я состряпал паршивое это дельце?
Ещё до начала экзаменов всему классу было известно, что я, как говорится, тянул на медаль – ну, если не на золотую, то на серебряную уж точно. К ожиданию этому я и сам, конечно, привык (кроме меня, во всей нашей школе было еще два возможных претендента на медали). Да ведь не всё в жизни сбывается так, как о том мечтают люди. И надо бы почаще вспоминать об этом законе природы.
Сначала от меня уплыла медаль золотая: неожиданно я получил четвёрку по сочинению. А потом… та же отметка была выставлена за мою письменную работу по математике. Наша классная была вне себя и передала с оказией, чтоб я немедленно явился в школу.
Когда я пришёл, она ничего толком не объяснив, привела меня к себе домой и усадила за письменный стол. Мне бросилось в глаза, что она была в сильном волнении.
– Вот что… – наконец выдавила она, глядя на меня как–то вымученно. – Фактически ты парень уже взрослый и, конечно, поймёшь меня. Ну, я имею в виду – поймёшь правильно…
Я ничего не понимал.
– К сожалению, – продолжала она, – в жизни бывает немало… всяких ошибок, которые… Которые, когда мы их обнаруживаем, надо исправлять, – как веером, она помахала ладонью перед своим порозовевшим лицом. – Ты ведь уже знаешь, что Печонкин, твой друг, получил отличную оценку…
Во мне шевельнулось недоброе чувство к классной – при чём тут Толик?
– Нет–нет, тут как раз всё справедливо, не хмурься… Сказала я о нём к примеру. А представь себе, что он всё решил правильно, а в тексте сопроводительном поставил лишнюю запятую и ему снизили бы отметку.
– Разве за это снижают?
– Вот–вот! Не должны снижать, правда?
Я пожал плечами.
– Наверно…
Я всё ещё не мог понять, зачем математичка ведёт такие разговоры, и тут Клавдия Семёновна достала из ящика стола и положила передо мной экзаменационные листы, исписанные знакомым почерком. Я обомлел – это была моя работа!
– Взгляни, Серёжа… У тебя всё правильно решено, но вот она, злополучная запятая – из–за неё и поставили тебе четвёрку.
– Значит, всё–таки снижают… – прошептал я.
– Да нет же! Нет! Ну… не могу тебе объяснить но это неверно. Это нужно исправить!
– Исправить?!
– Да ты послушай, если б ты допустил хоть малейшую ошибку в математике, тогда и речи не было бы. Но ведь тут честно заработанная тобой пятёрка…
Я совсем растерялся – учительница, кажется, была права, но…
– Ну вот что, – решительно сказала Клавдия Семёновна. – У Печёнкина эта пятёрка пока единственная и не решающая, но даже и у него, случись такое, надо было бы исправлять положение. А у тебя – тем более, потому что решается судьба медали. Ты знаешь математику на отлично, уж за это я отвечаю. И ты сейчас аккуратно перепишешь всё, но уж на этот раз без запятой. А я приму меры к тому, чтобы комиссия окончательно выставила ту оценку, которую ты фактически заслужил.
И передо мной на столе появились чистые листы с синим штампом.
Наверно, тогда из – за одного ошеломляющего напора её речей я сделал так, как она велела. Но по дороге домой я как следует обдумал происшедшее, и меня взяли сомнения: как ни крути, выходило, что я подделал экзаменационную работу! И пусть там всё решение осталось прежним, что и в первом варианте, но ведь тут всё равно обман.
По пути я даже не заглянул к Толику, прошёл мимо его дома – мне было стыдно, будто я перед ним провинился.
Сперва–то у меня было сильное желание вернуться и отказаться от всего, но я вспомнил, что классная, распрощавшись со мной, сразу отправилась в школу. Бежать туда? Глупо. Да и что теперь после драки кулаками размахался? Хорош, нечего сказать! Там, в её квартире думать надо было…
В общем я плюнул на всё. Надо было готовиться к следующему экзамену, а там уж будь что будет. А потом и болезнь отодвинула мои переживания, было не до них.
Но теперь я хорошо понял, что натворил. Я совершил самый настоящий подлог и запятнал свою честь, как говорили в старину. Отец ещё не знает, что я наделал, позарившись на треклятую медаль. Я, которому он втолковывал, что честь следует беречь с молоду, даже с детства и всю жизнь. А мне – как с гуся вода…
Вспомнилось мне, как сидели мы с ним вдвоём на крылечке. Вечерело. В густеющих сумерках слабо светились стволы берёз в палисаднике.
«Знаешь, парень, – тихо говорил отец, обняв мои плечи сильной, тёплой рукой, – наше прошлое не кануло без всякого следа, как иногда думают. Ну вот тебе хотя бы такой пример… Был у нас в России, ты это знаешь из учебников, класс такой – дворяне. В дворянской среде всегда были замечательные люди, о декабристах я уж не говорю. Да вот хотя бы князь Андрей, Пьер Безухов. Не надо думать что Толстой рисовал некий идеал, что ли… Уверен: многое он брал из жизни, из своего окружения, которое хорошо знал. Они были всегда – люди, по–настоящему благородные, не способные на ложь, на подлость. Не способные, чтобы унизить человека и дать унизить себя другим. Вот этому у них и сегодня надо учиться. Слово честь заключает в себе понятие старое, но, если присмотреться внимательнее, – оно живёт. Береги честь смолоду – так, кажется, у Николая Островского? Да, её надо беречь и в наше время. В любых условиях, как бы ни было трудно. Когда легко – это проще простого. А когда наперекор чему–нибудь или кому–нибудь быть честным перед собой, перед людьми… это не просто. Зато ты узнаешь: быть настоящим человеком – наука стóящая…»
Береги честь смолоду… а то как же… «сберёг».
Пошатываясь, я ходил по комнате и ни о чём другом думать не мог. В конце концов, я дал себе клятву, что это позорное пятно на моей совести будет первым и последним. А в школу на выпускной вечер не пойду и медаль получать не стану. Я болен – и точка.
Душевные мои терзания разрешились неожиданным образом – Клавдии Семёновне не удалось осуществить свой план. Наверно, она сильно удивилась бы тому, как я ликовал, узнав об этом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































