Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
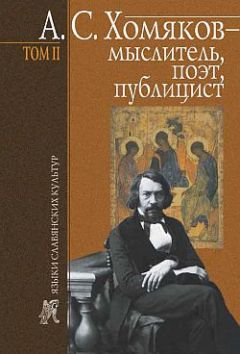
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
С. Ю. Николаева
Поэзия А. С. Хомякова в контексте литературных связей
Поэтическое наследие А. С. Хомякова невелико по объему, но недооценено с точки зрения литературных (интертекстуальных) связей и влияния на литературный процесс. В статье Б. Ф. Егорова в томе «Библиотеки поэта» были отмечены такие связи, но, думается, далеко не все: упомянуты имена Жуковского (в связи с неоднозначной метафоричностью некоторых поэтических образов), Блока и Вл. Соловьева (в связи с темой приближающихся мировых катаклизмов), Тютчева (в связи с трактовкой «философской трагедийности ночи»), Лермонтова, Некрасова и Тютчева (в связи с темой родины), Раевского, Кюхельбекера, Рылеева и Пушкина (в связи с темой новгородской вольницы и образом легендарного Вадима Новгородского), Пушкина (в связи с антитезой «закон—воля», которая восходит к пушкинским «Цыганам» и развивается вплоть до Льва Толстого).[644]644
См.: Егоров Б. Ф. Поэзия А. С. Хомякова // Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 5–56.
[Закрыть]
Этот круг литературных параллелей может и должен быть расширен. В некоторых случаях речь может идти о параллелях генетических, в некоторых – о типологических, но все они представляются в равной степени значимыми для корректного современного прочтения поэтического наследия Хомякова.
Предлагая свои наблюдения, мы располагаем их в основном в соответствии с хронологическим принципом: от древнерусских аллюзий и реминисценций у Хомякова к аллюзиям и реминисценциям из произведений Хомякова в творчестве писателей и поэтов Нового времени.
Прежде всего обратим внимание на хомяковскую концепцию поэта и творчества, которая, несомненно, испытала на себе влияние древнерусского культурного наследия, преимущественно «Слова о полку Игореве». В частности, имя Бояна прямо упоминается в стихотворении «Ода» (1830):
Упоминание о «перунах» поддерживает очевидность литературных параллелей со «Словом о полку Игореве». Образ Бояна мотивирован тем, что в стихотворении Хомякова речь идет о вражде славянских племен, которую необходимо преодолеть, равно как и в «Слове о полку Игореве» речь шла о княжеских междоусобицах, с которыми необходимо покончить. Конечно, Боян в древнерусском «Слове» – это оппонент автора-повествователя и с точки зрения идеологии, и с точки зрения эстетики. Хомяков метонимически (через посредство образа Бояна) представляет самого автора «Слова», который не прославляет князей, но «поет согласье и покой». Аллюзией на «Слово» являются и следующие строки:
Да будут прокляты преданья,
Веков исчезнуших обман,
И повесть мщенья и страданья,
Вина неисцелимых ран (90).
«Слово о полку Игореве» – это и есть печальное «преданье» о княжеских винах, «трудная» повесть «мщенья и страданья».
Итак, хомяковский Боян – это певец и рассказчик «трудных повестей». Вместе с тем в нем есть, так сказать, аутентичные черты Бояна из древнерусского «Слова», а именно: широкий полет творческой мысли и воображения. Он способен «растекаться мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы». Развернутой реализацией этих метафор представляется «Желание» (1827):
Хотел бы я разлиться в мире,
Хотел бы с солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь.
Хотел бы зыбию стеклянной
Играть в бездонной глубине
Или лучом зари румяной
Скользить по плещущей волне.
Хотел бы с тучами скитаться,
Туманом виться вкруг холмов
Иль буйным ветром разыграться
В седых изгибах облаков;
Жить ласточкой под небесами,
К цветам ласкаться мотыльком
Или над дикими скалами
Носиться дерзостным орлом.
Как сладко было бы в природе
То жизнь и радость разливать,
То в громах, вихрях, непогоде
Пространство неба обтекать! (72)
Данное произведение лишь на первый взгляд может показаться воплощением пантеистического мировосприятия, но на самом деле выражает творческую программу, особую эстетику универсализма, всеохватности, особого рода «украшенности» стиля, «извития словес», когда «стройные песнопенья» подобны «сладкозвучной волне», когда в каждой строчке поэта отражается красота мира Божьего.
Любопытным дополнением к хомяковской концепции поэта может служить стихотворение «По прочтении псалма» (1856), которое завершается словами, вообще отсутствующими в псалме-первоисточнике:
<…> Есть дар бесценный,
Дар, нужный Богу твоему:
Ты с ним явись, и, примиренный,
Я все дары твои приму.
Мне нужно сердце чище злата
И воля крепкая в труде,
Мне нужен брат, любящий брата,
Нужна мне правда на суде (139–140).
В этом стихотворении противопоставляется служение Богу, предпринимаемое народом Израиля, т. е. религия, принявшая некие искусственные, этикетные, установленные внешние формы (они описываются в первой части текста произведения), и вера в Бога, основанная на любви; искусство, поддержанное ученостью, и искусство «безыскусное», но религиозно-нравственное. Смысловая аналогия есть у протопопа Аввакума, ссылающегося в свою очередь на апостола Павла:
<…> и аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обыкъ речи красить, понеже не словес красныхъ Богъ слушает, но делъ наших хощет. И Павелъ пишетъ: «Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имам – ничто же естъ». Вотъ, что много рассуждать: ни латинъским языком, ни греческимъ, ни еврейским, ниже иными коими ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетельми хощет, того ради и я не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго.[646]646
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. ХVII век. М., 1989. Кн. 2. С. 454.
[Закрыть]
Те функции языка (государственные, богословские, научные), которые принадлежали благодаря мировой традиции греческому, латинскому, еврейскому, с успехом может выполнять язык русский. Такова позиция Аввакума, который осмыслял свой «природной» язык как синтез «московской редакции церковнославянского языка, разновидностей русского литературного языка и живой народной речи».[647]647
Калугин В. В. «Русской природной язык» в системе религиозно-культурных ценностей раннего старообрядчества // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992. Сб. 4: ХVII – начало ХVIII вв. С. 204.
[Закрыть]
Любовь к Богу и миру из категории духовно-нравственной превращается у Хомякова в эстетическую, способствует формированию творческой программы поэта. С древнерусской топикой и стилистикой связана у Хомякова и тема родной земли, тема Руси. «Русская песня» (1830-е?) представляет собой стилизацию народного стиха, былины и содержит в себе важнейшие мотивы, складывающиеся в целостный мотивный комплекс, в целостный образ Русской земли, заставляющий вспомнить «Слово о погибели Русской земли»:
О светло светлая и украсно украшена, земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, реками и кладязьми месточестьными, горами, крутыми холми, высокыми дубравоми, чистыми польми, дивными зверьми, различными птицами, бещислеными городы великыми, селы дивными, винограды обителными, домы церковьными, и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами. Всего еси испольнена земля Русская, о правоверьная вера християньская![648]648
Цит по: Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 130.
[Закрыть]
Древнерусский автор перечисляет богатства Руси, дает характеристику ее геополитического пространства и, наконец, делает итоговое заключение о роли христианства в жизни Русского государства. Пожалуй, можно говорить даже о тождестве Руси и православной веры, которое осознается автором этого произведения вполне отчетливо.
Очень важно, что все вышеприведенные мотивы из «Слова о погибели…» повторяются в «Русской песне» Хомякова:
Гой красна земля Володимира!
Много сел в тебе, городов больших,
Много люду в тебе православного!
В сини горы ты упираешься,
Синим морем ты омываешься…
<…>
По земле ходит слово Божие…
<…>
А господних слуг да молельщиков,
Что травы в степях, что песку в морях (105).
Данная параллель тем более знаменательна, что, как известно, рукопись «Слова о погибели…» была опубликована Хрисанфом Лопаревым лишь в 1890-е годы. Мог ли текст памятника быть известен Хомякову по какой-либо не дошедшей до нас рукописи, или же поэт, хорошо знавший древнерусский литературный пласт, просто угадал общую тональность, уловил самый стиль подобных описаний – это вопрос, требующий дальнейших разысканий и, вполне возможно, не имеющий перспективы быть разрешенным. В данном случае важно подчеркнуть, что древнерусский культурный слой довольно органично вошел в творческое сознание и наследие Хомякова, причем в своих лучших, вершинных образцах.
Второй аспект, на который хотелось бы обратить внимание, – это воплощение в поэзии Хомякова темы (и топоса русской культуры) «русский Бог». Как известно, этот топос появился и присутствовал еще в древнерусских воинских повестях (например, в «Сказании о Мамаевом побоище»), в поэзии XVIII века, особенно ярко у Николая Львова; затем в поэзии XIX века вплоть до иронического переосмысления в одноименном стихотворении П. А. Вяземского. Можно сказать, что во всех этих случаях речь шла об историческом пути России, о ее судьбе, о русской ментальности, о русском духе, и все варианты данной формулы восходили к реплике, якобы произнесенной Мамаем: «Велик русский Бог!».[649]649
См. об этом подробнее: Николаева С. Ю. «Русский бог» Николая Львова // Гений вкуса. Н. А. Львов: Материалы и исследования. Тверь, 2001. Сб. 2. С. 57–66.
[Закрыть]
Хомяков по-своему примыкает к обозначенной традиции. В его стихах не встречается дословно выражение «русский Бог», но есть целая парадигма его вариантов и воссозданы все контексты, в которых оно могло употребляться.
Один из вариантов – характеристика русского богатыря в стихотворении «Вадим» (1828). Выступая «спасителем славян», он сопоставляется с «Богом брани», потому что «русский Бог» проявлял себя прежде всего на поле битвы:
Не столь ужасен брани Бог,
Когда мрачнее черной ночи
Несется в вихре он меж небом и землей,
Одетый ужасом, сопутствуем враждой! (78)
Еще один вариант «русского Бога» появляется в стихотворении «На перенесение Наполеонова праха» (конец 1840-х), где поражение Наполеона и победа России объясняются так:
И не меч, не штык трехгранный,
А в венце полнощных звезд —
Усмиритель бури бранной —
Наша сила, русский крест! (119)
Как видим, задолго до Льва Толстого было понято и высказано, что исход сражения решает не количество пушек и солдат, не место, на котором стоят войска, а дух народа и войска, что «нет величия там, где нет простоты, добра и правды». В тексте Хомякова это звучит так:
Нет могущества, ни силы,
Нет величья под луной!
Кроме «русского креста» и славянского «Бога брани», у Хомякова появляется еще и «парус русский». Все три словесные формулы связаны с военной проблематикой, но в первом случае речь ведется о защите от внешнего врага, во втором – от врагов вообще (в том числе от внутренних), а в третьем говорится о единении всех славянских народов вокруг «русского корабля» и «русского паруса». Хомяков весьма активно участвует в разработке важнейшей топики русской культуры.
Прочтение поэзии Хомякова в аспекте литературных связей позволяет установить соответствия с теми художниками слова, которые, казалось бы, были далеки от славянофильского направления и от поэтического мира Хомякова, но все-таки обнаруживают с ним любопытные точки соприкосновения.
Стихотворение «Степи» (1828) содержит не только пейзаж, выдержанный в духе Православия (хотя он там, несомненно, присутствует), не только противопоставление «закона» цивилизации «воле» степей, но еще и концепцию русского характера:
Ах! я хотел бы быть в степях
Один с ружьем неотразимым,
С гнедым конем неутомимым
И с серым псом при стременах (76).
Б. Ф. Егоров полагает, что это стихотворение повлияло на Л. Н. Толстого (ср. слова Феди Протасова), но корректнее, по-видимому, считать, что данное влияние было опосредовано А. П. Чеховым с его знаменитым высказыванием: «Россия – громадная равнина, по которой носится лихой человек»[650]650
Чехов А. П. Записные книжки 1891–1904 годов // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. Письма: В 12 т. М., 1974–1983. Соч. Т. 17. С. 93. Далее ссылки на произведения и письма А. П. Чехова даются в тексте по этому изданию с указанием в скобках серии Сочинений (С) или Писем (П), тома и страниц.
[Закрыть]. Чехов имел в виду сложность русской истории, обусловленную географией и национальной психологией. Свое понимание проблемы он изложил в одном из писем к Д. В. Григоровичу от 5 февраля 1888 года:
Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа. С одной стороны, физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли; с другой – необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина… славянская апатия… Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается… Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться (П 2, 190).
Художественная реализация данной темы была осуществлена Чеховым в повести «Степь» (1888), одноименной со стихотворением Хомякова, где есть герой, словно бы заимствованный у поэта-славянофила и представленный более конкретно. Этот герой занимает совершенно особое место в системе персонажей «Степи», возвышаясь и над отцом Христофором, и над Кузьмичовым, и над возчиками, и над Егорушкой, так как воплощает собой силу, вольность и власть над людьми и природой, даже над самой степью:
Кто же, наконец, этот таинственный, неуловимый Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? <…> Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут (С 7, 43–44).
Судя по этому фрагменту, Чехов описывает личность неординарную и неоднозначную, в которой совмещаются и черты, обусловленные влиянием цивилизации (власть денег), и черты, являющиеся следствием неизбывной, генетически закрепленной в русском человеке «степной вольницы».
В дальнейшем Чехов развивает и детализирует эту антитезу, лежащую в основе характера героя. В реальности оказывается, что «таинственный» Варламов выглядит весьма обыденно и прозаично – это «малорослый серый человечек, обутый в большие сапоги, сидящий на некрасивой лошаденке», у него «простое, русское, загорелое лицо», он «не упустит дела», на таких людях «земля держится», но главное в нем – это его независимость: «Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью» (С 7, 79–80).
В повести «Степь» (1888) с ее глубинными подтекстами, рассчитанными на читателей с изощренной памятью и «сильно искусившихся на грамоте», была воплощена концепция сложности, многообразия и единства мира, в котором живет человек. По словам Чехова, в этом произведении он раскрыл дорогие сердцу образы и картины, решившись «выступить оригинально»: «Есть много таких мест, которые не поймутся ни критикою, ни публикой; той и другой они покажутся пустяшными, не заслуживающими внимания, но я заранее радуюсь, что эти-то самые места поймут и оценят два-три литературных гастронома, а этого с меня достаточно» (П 2, 178). «Степной» замысел вынашивался долго, он не поддается однозначной расшифровке и становится яснее лишь на фоне исторических разысканий писателя, в широкой перспективе его литературных интересов той поры. Чехов отталкивался от традиций русской литературы, в том числе от поэзии Хомякова, и в то же время – не без влияния последнего – обращал свой взгляд художника в глубины русской истории и культуры.
В «Степи» имеется загадочная фраза. В разговоре о пользе книжного учения отец Христофор говорит, как бы вспоминая: «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению» (С 7, 21). Слова о «существе» представляют собой терминологически точное определение субстанции – «общее место» всех трактатов и руководств по логике, философии, риторике и диалектике еще со времен Аристотеля. «Из философии и риторики кое-что еще помню», – замечает отец Христофор. Из какого источника взята эта фраза? Восходит ли она вообще к какому-либо конкретному источнику? Оказалось, что отец Христофор, вслед за Чеховым, «знает» это определение по книге Петра Могилы «Собрание краткия науки об артикулах веры» (М., 1649)[651]651
См. подробнее: Николаева С. Ю. Источник чеховской цитаты // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985. № 5. С. 449–450.
[Закрыть], а также по «Изборнику Святослава» 1073 года.
Чехов реалистичен и документален в построении образа: отец Христофор когда-то готовился стать «ученейшим мужем», «светильником церкви», хотел «в Киев ехать, науки продолжать»; ведя беседу о пользе книжного учения, он постоянно ссылается на Нестора-летописца, апостола Павла, на одного из трех первосвятителей – Василия Великого (Кесарийского) и, наконец, на Петра Могилу – основателя Киевской духовной академии, слушателем которой отец Христофор так и не стал. Чехов редко делает «глухие» отсылки, он почти всегда дает знак, сигнал, указание на источник. В данном случае таким знаком послужило имя Петра Могилы.
Выявление древнерусских источников повести подтверждает существование связи между «степным» замыслом Чехова и «детством» русской литературы – древнерусскими темами, мотивами, образами. В пейзажах «Степи» при внимательном чтении обнаруживается ряд ключевых слов, общее поэтическое значение которых больше суммы их отдельных значений: «судьба», «счастье», «иго», «терпение», «поединок», «засада», «ненависть», «боль», «болезнь», «тоска», «скука жизни», «грусть и жалоба», «плач», «тревога и досада». Дополнительный поэтический смысл обусловлен «эффектом системы», поэтому психологическая, эмоциональная, идейно-образная целостность этого ряда выявляется только на основе системного подхода.
Отмеченная последовательность мотивов и образов не оформлена писателем в однородное синтаксическое единство, каждый из ее членов трансформирован, как бы растворен в повествовании, в связях с другими формами образности. Тем не менее она восстанавливается относительно легко, и не только потому, что в ней воплощена важнейшая для Чехова тема «тяжелой, холодной» русской истории с ее «татарщиной, чиновничеством, бедностью», поэтическая тема «судьбы человеческой, судьбы народной». Целостность и глубокая содержательность художественного мира «Степи» подтверждается яркими историко-литературными аналогиями: подобные тематические ряды часты в памятниках древнерусской литературы. Это своеобразные формулы, перечисляющие бедствия родной земли. Как показывает сопоставительный анализ, они являются «общим местом». Приведем пример: «И бяше видети тогда в граде плач и рыдание, и вопль мног, слезы неисчетенныа, крик неутолимый, стонание многое, оханье сетованное, печаль горкаа, скорбь неутишимаа, беда нестерпимаа, нужа ужаснаа, горесть смертнаа, страх, трепет, ужас, дряхлование, изчезновение, попрание, безчестие, поругание, посмеание врагов, укор, студ, срамота, поношение, уничижение» («Повесть о нашествии Тохтамыша»)[652]652
Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV века. М., 1981. С. 200.
[Закрыть]. Система ключевых образов «Степи» генетически восходит к подобным формулам древнерусских авторов и выполняет едва ли не главную функцию: необъятные степные пространства становятся для читателя пространствами историческими.[653]653
См. об этом подробнее: Николаева С. Ю. А. П. Чехов и древнерусская культура. Тверь, 2000
[Закрыть]
Путешествие по степи – первый опыт Егорушки в деле постижения сложности мира и поисков своего места в нем. Среди всей совокупности древнерусских источников, сформировавших литературный пласт в «Степи», наибольшее значение для понимания авторского замысла имеет, конечно, философская цитата о «существе». Она имеет прямое отношение к концепции образа главного героя повести. Единое, целостное существо – таким вышел Егорушка из-под материнской опеки. Столкнувшись с испытаниями, которые приготовила ему судьба, сможет ли он сохранить свою цельность и самобытность и вместе с тем не замкнуться в самом себе, установить связь с миром?
Чехов нашел новые на фоне русского романа XIX века формы для изображения человека, наделив его память историческими преданиями, введя в подтекст образов быль, былину, быличку, сказку, миф – древнейшие из всех исторических преданий и создав, по его словам, «степную энциклопедию». Прозрачность и ясность подтекста поддерживалась особой системой знаков. Мифические, былинные, легендарные имена и слова помогали ориентироваться в художественном мире «Степи»: Христофор, Моисей, Соломон, Георгий Победоносец; Илья Муромец и Соловей Разбойник; летописец Нестор, Василий Великий, киевский митрополит Петр Могила, «человек на всю Европу» Ломоносов – все эти имена значили многое для внимательного читателя. Разговор же о великой пользе книжного учения, в котором прозвучала философская мысль о «существе», велся на Руси испокон веку, еще автором «Повести временных лет».
Путешествие Егорушки по степи складывалось из целого ряда картин древней жизни родной земли, из воспоминаний о ее прошлом, которое нет-нет, да и отзовется в настоящем – и тогда в непроницаемой ночной мгле почудится незнаемая страна, гроза и степные псы напомнят о грозах былых сражений, происходивших на бескрайних степных просторах, а засыхающая от зноя трава пробудит смутное ощущение тревоги, предчувствие трудного пути, трудной судьбы.
Прошлое родины, которое созидает нравственное существо человека, вступающего в большую и неведомую жизнь, – так следует понимать историческую концепцию «Степи», так воплощено в ней временное триединство (прошлого, настоящего и будущего) и метафизическая связь личности с универсумом.
Русская вольница, которая сформировалась в древности и которая дает о себе знать в новое время, подчас вступая в противоречия с законами современной цивилизации, глубокий исторический подтекст – вот что объединяет философско-историческую повесть Чехова «Степь» и философскую поэзию Хомякова. Л. Толстой устами Феди Протасова, по сути дела, эту связь подчеркнул, обозначил: «Это степь, это X век, это не свобода, а воля».
И еще один пример из творчества Чехова. Рассказ «Черный монах» (1893) давно интригует литературоведов своей таинственностью, неоднозначностью, загадочностью. Во множестве работ делаются попытки обнаружить истоки образа монаха, объяснить видение магистра Коврина научно-медицинскими познаниями или же философскими увлечениями писателя. Не углубляясь в детальный анализ чеховского текста, вспомним, что главная коллизия чеховского рассказа – противоборство индивидуализма, книжной премудрости, гениальности и зла, с одной стороны, и добра, тихой веры и упования владельцев сада на Божью волю, с другой, – также предугадана в поэзии Хомякова. «Видения», воссозданные Хомяковым, могут быть для лирического героя как благими прозрениями, так и мрачными, бесовскими наваждениями. В «Видении» (1840) лирический герой беседует с Богом:
Как темнота широко воцарилась!
Как замер шум денного бытия!
<…>
Ты здесь, ты здесь, владыка песнопений,
Прекрасный царь моей младой мечты!
Небесный друг, мой благодатный гений,
Опять, опять ко мне явился ты!
<…>
По-прежнему эфирным дуновеньем,
Небесный брат, коснись главы моей;
Всю грудь мою наполни вдохновеньем;
Земную мглу от глаз моих отвей! (116–117)
В чеховском рассказе явление черного монаха Коврину происходит в похожей обстановке и тоже поначалу выглядит как проявление благодати:
Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря… Монах в черной одежде, с седой головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо (С 8, 234).
Речь монаха, обращенная к магистру Коврину, отчетливо соотносится с хомяковским «Видением» и воспринимается как ответ на призыв лирического героя Хомякова:
Ты один из немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно… Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почило на людях (С 8, 241–242).
Так Чехов показывает сам механизм прельщения человеческой души бесовским соблазном под видом благодати.
У Хомякова в стихотворении «Широка, необозрима…» (1858) раскрывается внутреннее состояние человека, обольщенного злыми, бесовскими силами, порабощенного мировым злом и неверием и ожидающего пришествия не Бога, но самого дьявола:
Но в своем неверьи твердый,
Неисцельно ослеплен,
Все, как прежде, книжник гордый,
Говорит: «Да где же он?
И зачем в борьбе смятенной
Исторического дня
Он проходит так смиренно,
Так незримо для меня,
А нейдет, как буря злая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?» (142–143).
В рассказе «Черный монах» магистр Коврин видит нечто подобное – такое же мрачное видение:
Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови» (С 8, 241);
На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда… Босые ноги его не касались земли… (С 8, 234).
Эта «оптическая несообразность», казалось бы, безобидная, подчиняет душу, разрушает личность человека и даже окружающий его мир: погибает прекрасный сад, умирают те, кто его растил и лелеял, расстается с бренной оболочкой и сам «гений» – магистр Коврин. Художественной задачей Чехова становится показать эволюцию героя от одного полюса, положительного, духовно-религиозного, к другому, отрицательному, к полюсу индивидуализма, бездуховности и безнравственности, продемонстрировав губительность безверия и чрезмерного увлечения книжной фарисейской премудростью. Безусловно, в художественном мире Хомякова в данном случае предваряются чеховские открытия, они содержатся в этом мире в форме зародыша, малого зерна, из которого Чехов «выращивает» собственную концепцию трагически напряженного духовного поиска своего современника.
Далеко не исчерпав вопрос о литературных связях поэзии Хомякова, можно сказать, что основные ее темы (творчество, Русская земля, русский бог, Русь-степь, индивидуальный духовный опыт и поиск современного человека) делают стихотворное наследие Хомякова весьма заметной и влиятельной органической частью в составе русской литературы. Это наследие невелико по объему, неброско по жанрово-стилевым находкам, но замечательно по богатству высказанных мыслей, которые доминировали в истории русской литературы на всем ее протяжении.









































