Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
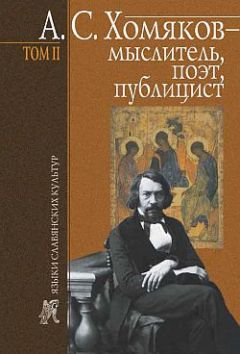
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Не столько материалистическая, сколько политическая тенденция диктует Герцену его «Былое и думы»: в николаевской России не может состояться личность, даже самая неординарная, самая одаренная: все угнетено и по определению будет задавлено. Герцен много страниц посвятил доказательству «видового болезненного надлома по всем суставам» (595, 605) людей николаевского времени и привел в доказательство множество судеб. «Страшный грех лежит на николаевском царствовании – в нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей… Что не погибло, вышло больное сумасшедшее…» (605–606). Как будто люди были болезненны, нравственно ущемлены в одно только николаевское царствование и выздоравливали вместе с воцарением другого государя или вместе со сменой политического строя.
В боевых схватках, которые происходили в кружках сороковых годов, Хомяков оставался непобедимым. Коренная идея Хомякова, общая у него со всеми славянофилами, была та, что источником всякого богословствования и всякого философствования должна быть целостная жизнь духа, жизнь органическая, что все должно быть подчинено религиозному центру жизни. Эта идея является источником славянофильской философии и всей русской философии,
– напишет Бердяев[627]627
Там же. С. 93.
[Закрыть].
Герцен примеряет к своим оппонентам-современникам совершенно иные оценочные критерии. Признать у Хомякова наличие высокой жизненной цели значило признать за ним правоту его устремлений и его дела. Признать состоятельность Хомякова как мыслителя, пусть даже противоположного толка, констатировать завершенность его судьбы в высшем смысле значило признать его исключением из общего правила. Это совершенно нарушило бы общую композицию той политической картины и партийной схемы, которые нарисовал Герцен[628]628
Об этом пишет и современный философ Г. Д. Гачев: «Открыл почитать некогда любимого Герцена – про “славянофилов” в “Былом и думах” – и удивился в себе новому слуху на его текст: какое-то бряцание суетливое горизонтально-площадными политическими шпагами и поспешливое суждение… Даже удивился я: вроде “западник”, значит, принцип личности и индивидуального миросозерцания бы должен допускать, ан нет – группирует: в “мы” и “не мы”. И в нем – воля русского Логоса: мыслить не от “я”, как Запад, а от “мы”: сам мыслящий субъект представляется как артель и собор» (Гачев Г. Д. Русская Дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991. С. 21).
[Закрыть]. Потому Хомяков под пером Герцена выступает как виртуозный спорщик, артист своего дела, для которого полемика – это арена, подмостки, искусство для искусства. В предвзятом описании партийный публицист в Герцене взял верх и над историческим писателем, и над талантливым художником, «поэтом по преимуществу»[629]629
См., например: «Есть и еще одна точка в определении и постановке главной сущности всей деятельности Г<ерцена> – именно та, что он был, всегда и везде, – поэт по преимуществу. Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор – поэт, политический деятель – поэт, социалист – поэт, философ – в высшей степени поэт! Это свойство его натуры, мне кажется, много объяснить может в его деятельности, даже его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских (что, говоря мимоходом, в нем очень претит)» (28, кн. 1, 113).
[Закрыть].
Сомнительный принцип двойных стандартов, с которым Герцен подошел к политически неблизким современникам (таким как Хомяков), давал другим его современникам (таким как Достоевский) особые основания увидеть в фигурах, политически близких Герцену, огромный потенциал сатиры[630]630
См. рассуждение в черновиках к «Бесам»: «Представьте себе, что все будут как Христы; будут ли бедные? Я знал Герцена – это водевиль» (11, 177).
[Закрыть].
Роман «Бесы» стал в этом смысле своего рода политическим реваншем (вспомним знаменитую «плеть для нигилистов и западников»[631]631
В письме к Н. Н. Страхову от 24 марта (5 апреля) 1870 года из Дрездена Достоевский писал: «Нигилисты и западники требуют окончательной плети… Для них надо писать с плетью в руках» (28, кн. 2, 113).
[Закрыть]) и убедительной художественной сатисфакцией – за искажение и сокрытие правды о рождении и созревании русской мысли.
По традиции все разговоры о Герцене и славянофилах непременно заканчиваются примирительной цитатой из «Былого и дум»: «Мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая» (171). Мне бы все же хотелось, не нарушая традиции, сказать в конце, что вся последующая история проявляла лишь трагические различия в этой любви.
В. А. Кошелев
О пейзажной лирике А. С. Хомякова
На первый взгляд кажется, что разговор о пейзажной лирике Хомякова – это разговор «о том, чего нет».
Стоит пересмотреть сборник его лирических стихотворений, чтобы убедиться, что лишь в единичных поэтических опусах можно отыскать отдельные пейзажные элементы: «Изола Белла», «Степи», «Зима». Эти стихотворения принадлежат к раннему, «дославянофильскому» периоду поэтического творчества Хомякова; вообще же поэт как будто предпочитал обходиться вовсе без поэтического описания (и тем более – переживания) пейзажа, успешно заменяя его стихией поэтического призыва, тем, что он сам называл «басовыми нотами»: «Не презирай клинка стального…», «Не верь, не слушай, не гордись!..», «Вставайте! оковы распались!..», «Рази мечом – то Божий меч!». Это обилие «басовых нот», в сущности, и явилось основой для утверждений, что Хомяков никакой не лирик по складу своего характера: «Хомяков – человек с сильным характером, с огромным самообладанием. <…> По стихам Хомякова нельзя так разгадать интимные стороны его существа, как по стихам Вл. Соловьева. В своих стихах он воинствен, точно из пушек стреляет, он горд и скрытен».[632]632
Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 30
[Закрыть]
То, что истинное призвание Хомякова – лирическая поэзия, было высказано публике именно на основе его пейзажных стихов, вошедших в состав большой и драматически «неуклюжей» трагедии «Ермак» (1825–1826). Премьера («устная публикация») этой драмы состоялась вечером 13 октября 1826 года в Москве, в доме Веневитиновых, где автор прочел ее в кругу друзей, московских «любомудров», и в присутствии Пушкина. Накануне, вечером 12 октября, Пушкин, недавно вернувшийся из ссылки, там же читал свою новую драму «Борис Годунов». «На другой день, – вспоминает М. П. Погодин, – было назначено чтение “Ермака”, только что конченного и привезенного А. Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением приносил жертву. “Ермак”, разумеется, не мог произвести никакого действия после “Бориса Годунова”, и только некоторые лирические места вызывали хвалу. Мы почти не слыхали его. Всякий думал свое».[633]633
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 38.
[Закрыть]
На этой премьере хомяковская трагедия потерпела неудачу. Она, вероятно, удостоилась и критической оценки Пушкина: судя по его последующим высказываниям о «Ермаке» – не очень лицеприятным: «“Ермак” А. С. Хомякова есть более произвед(ение) лирическое, чем драм(атическое). Успехом своим оно обязано прекрасным стихам, коими оно писано» («Наброски предисловия к “Борису Годунову”», 1830). Или: «Идеализированный “Ермак”, лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем всё чуждо нашим нравам и духу, всё, даже самая очаровательная прелесть поэзии» («О народной драме и драме “Марфа Посадница”», 1830)[634]634
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л.; М., 1940. Т. XI. С. 141, 180.
[Закрыть]. Изначальная «не драматичность» хомяковского создания противопоставлялась «драматическому» существу пушкинского «Бориса Годунова» Не случайно один из участников этих «сдвоенных» чтений И. В. Киреевский в статье «Несколько слов о Пушкине», написанной во многом под впечатлением от личного общения с поэтом, сделал неожиданное заявление: «Пушкин рожден для драматического рода».[635]635
Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 13.
[Закрыть]
Хомяков не был «рожден для драматического рода», но литературная судьба представила очередной «вираж», определивший его как «драматического» автора. В 1827 году «Ермак» прошел театральную цензуру, и 27 августа 1829 года в Петербургском Малом театре состоялась премьера спектакля с В. А. Каратыгиным («русским Тальма») в главной роли. Спектакль имел успех и продержался на этой сцене несколько лет. Уже первые критики подметили характерную особенность: в драме Хомякова, при всей «несообразности» и растянутости действия, просматривался недюжинный лирический поэт.
Автор большой критической статьи о «Ермаке» Ксенофонт Полевой, придирчиво вычленив все драматические недостатки и фактически «разбив» всю драматическую «организацию» неудавшейся трагедии, в финале своих рассуждений неожиданно заявил: «Все, что говорили мы до сих пор, доказывает только то, что г-н Хомяков не трагик, что он не знает своего истинного признания. Но, прочитав его трагедию, всякий убедится, что как лирик он не много имеет себе соперников во всех поэтах русских». То есть оказывалось, что поэт Хомяков, в отличие от поэта Пушкина, рожден «для лирического рода»…
То и дело Кс. Полевой призывает: «Забудьте, что следующие стихи говорит Ермак, и наслаждайтесь красотою картин и гармониею звуков», – то есть предпочитает относиться к драматическому созданию как к собственно лирическому, идущему от автора. Всего же более в этом отношении его привлекает в «Ермаке» сцена из 3-го явления IV действия:
Молодой казак
Как весело во мне биется сердце. <…>
Быть может, оттого, что утро красно,
Что ветер дует так свежо. Смотри,
Как вдалеке волнистыми грядами
Ложится утренний туман;
Как всходит солнце, неба великан,
Увенчанный бессмертными огнями;
Вокруг него, как раболепный двор,
Седые облака стадятся
И от лучей его златятся.
Но он, увы! мой ослепляет взор. <…>
Земля прекрасна. Светлою росою,
Как сетью сребряной, покрылися поля;
Но там, под твердью голубою,
Всё, всё прекрасней, чем земля.
Там жаворонка песнь так сладко раздается,
Играя с ветрами, к нему, к царю светил,
Орел так весело несется.
Ах! тщетно вслед за ним душа кипит и рвется:
У смертных нет его могущих крыл.
Приведя ее, критик предается воспоминаниям: «Признаюсь, именно эти стихи я люблю пристрастно: с ними соединено для меня трогательное воспоминание!.. В одно прелестное утро, в кругу искреннем, незабвенный Веневитинов читал их, под открытым небом, глядя на восходящее солнце, доверчиво предаваясь надежде и не предчувствуя, что через несколько месяцев он уже не будет видеть красот природы, не будет озлащать их своим высоким одушевлением!.. Может быть, это нескромность; но я не стыжусь ее!..».[636]636
Полевой Н., Полевой Кс. Литературная критика: Статьи и рецензии. Л., 1990. С. 427–428.
[Закрыть]
В данном случае Кс. Полевой вспоминает, как в октябре 1826 года Д. В. Веневитинов провел вечер на квартире у него и брата – об этом же он позднее вспомнит в своих «Записках…»[637]637
Полевой Кс. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 183.
[Закрыть]. Критическая оценка «прекрасных стихов» внутри слабого драматического текста подкрепляется воспоминанием о недавно умершем поэте и, таким образом, приобретает дополнительную «весомость». Речь идет о трогательном пейзаже раннего утра, соотнесенном с «голосом» внеположного автору персонажа – Молодого казака. А то обстоятельство, что этому Молодому казаку, в соответствии с сюжетом пьесы, тоже осталась недолгая жизнь (его вскоре погубят враги Ермака), усиливает лирическое переживание.
В этой перспективе открывается одна существеннейшая черта лирики Хомякова вообще. Поэт как будто стесняется прямо открыть собственные лирические чувства: для них ему всегда необходимо другое, внеположное я, какое возникает при драматическом осмыслении мира. И позднее он будет «прятать» это свое «я», представляя, например, в своей «Идиллии» библейскую притчу о Навуходоносоре, превращенном в овечку, в виде «псалма», который распевают четыре персонажа из Книги пророка Даниила.
Э. Л. Радлов, автор тонкой статьи о лирике Хомякова, отмечает показательное обстоятельство, связанное с восприятием поэтом времен года: «Из всех времен года наиболее благоприятствует поэтическому вдохновению зима, так как она наименее сковывает дух и не связывает его земными наслаждениями: “Зимою в груди моей теплее кровь бежит, и взор души светлей. Мечта проснулася, и чудные видения рисует предо мной игра воображения”. “Зимним вьюгам и морозам рады заяц и поэт”»[638]638
Радлов Э. Л. О поэзии А. С. Хомякова // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911. С. 528.
[Закрыть]. Но почему зима?
Зима – извечное русское явление природы, не существующее ни в пределах «классического» Запада, ни в пределах «классического» Востока. В статье «О возможности русской художественной школы» Хомяков указывает, что «за границей почти нет зимы»[639]639
Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 147.
[Закрыть]. Именно в облике такого явления, любовь к которому определяет «русскую душу», она присутствует в стихотворении Фета, открывающем цикл «Снега» (1842):
Я русской, я люблю молчанье дали мразной,
Под пологом снегов, как смерть однообразной…
Леса под шапками иль в инее седом,
Да речку звонкую под темносиним льдом…
Можно ли полюбить этот «седой», «однообразный», «мразный», «молчаливый» и скованный льдом и снегами мир? Можно – по единственной причине: «я русской: я люблю». То же ощущение в хомяковском стихотворении «Зима» (1830). Та же грустная природа, тот же сумрак, то же расставание с «разгульными забавами» осени:
Вотще, исполненный невольного томленья,
Чтоб разогнать тоску и скуку заточенья,
Гляжу в замерзшее и тусклое окно:
Вокруг всё холодно, и мертво, и темно!
Вдали шумит метель, и на земле печальной
Раскинут белый снег как саван погребальный…
Но тут при всей близости мотивов с установками фетовского стихотворения уход в иную, тоже «зимнюю» данность, идущую от Державина. Зима – время «отдыха», «покоя» человека и природы, поэт в эту пору становится «Анакреоном у печки» и живет воспоминаниями о теплых днях, друзьях и иных краях:
Вокруг всё холодно, но что ж? В груди моей
Теплее кровь бежит, и взор души светлей.
Мечта проснулася, и чудные виденья
Рисует предо мной игра воображенья…
В этих «чудных виденьях» являются и «скалы Швейцарии», и «роскошь Франции», и «Италия, страна чудес», и Балканы («Марицы светлый ток»), и Турция («Эдырне горделивый»), и память о «давно увядших» друзьях и родных. Все вмещает в себя зима, и тем, может быть, она особенно значима и привлекательна. Б. Я. Бухштаб определял «зимний мир» лирики Ф. И. Тютчева как выражение «темы жизни замороженной и таящейся лишь в глубине»[640]640
Бухштаб Б. Русские поэты. Л., 1970. С. 44.
[Закрыть]. Для Хомякова, в сущности, эта «глубинная» жизнь и становится основной, достойной поэтического описания.
Хомякова-поэта в тех стихах, которые даны от лирического я, волнуют те состояния природы, которые применительно к лирике Тютчева определяются как «мертвый мир». Любимое время года – зима. Излюбленный пейзаж – ночной или вечерний:
Как я люблю под темным кровом ночи
Прохладным воздухом дышать
И с тихим вдохновеньем очи
К лазури неба подымать!
Там звезды яркие катятся
Вокруг невидимых осей;
Они текут, они стремятся, —
Река негаснущих огней.
О, стражи сонного эфира —
Средь черных и угрюмых туч
Залог спокойствия и мира!
Как мне приятен ваш дрожащий луч!
Это – Ермак. А вот – антураж драматических размышлений Димитрия Самозванца:
Как дремлет всё, и лентой голубою
Бежит река, спокойна, без зыбей,
И тонкий пар не тронется над ней,
И шума нет. Лишь слышно, что порою
Над городом широкий всходит гул,
Как сонного чудовища дыханье
Или волны полнощное роптанье,
Когда с зарей усталый ветр заснул.
Образ ночи – прежде всего «ночи в звездах» – обыкновенный романтический символ таинственного, глубинного познания, восходящий к шеллингианскому представлению о борьбе света с мраком, с «хаотическим движением первоначальной природы» как основе истории мира и жизни человеческой души. Но такое же ощущение волнует и вполне зрелого, далеко ушедшего от шеллингианских представлений Хомякова в его позднем стихотворении «Звезды» (1856):
Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали
За ближайшими звездами
Тьмами звезды в ночь ушли.
Вновь вглядись – и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят…
И в стихотворении «Ночь» (1854):
Спала ночь с померкшей вышины.
В небе сумрак, над землею тени,
И под кровом темной тишины
Ходит сонм обманчивых видений…
В обоих случаях сигналы «ночи» получают дополнительный смысл: в первом – ночное видение мира позволяет глубже проникнуть в откровения Евангелия («Ты вглядись душой в писанья / Галилейских рыбаков»); во втором – ночь подобна обману, с которым надо бороться («Ты вставай во мраке, спящий брат! / Разорви ночных обманов сети!»). В обоих случаях «ночной мир» предполагает некую императивность. Но значимыми оказываются именно сигналы ночи, а не какие-то иные.
Этими «ночными» сигналами, всегда приобретающими дополнительную семантическую нагрузку в контексте каждого конкретного стихотворения, наполнены множественные «не пейзажные» поэтические опусы Хомякова. Вот в юношеском «Послании к другу» (1822) является «в небесах полнощная заря» с ее «дрожащим блеском» – единственное указание на время описания. А описание южного «красавца острова» в стихотворении «Изола Белла» (1826) завершается указанием на «девственную» поэтическую мечту, таящуюся именно в мире ночи, «где сон ее лелеют пери».
Сигналы ночного мира возникают и в знаменитом гимне «Молодость» (1827): «Звезды в синей тверди / Мчатся за звездами», – и в строках, оплакивающих умершего друга: «И, как недремлющие очи, / Зажгутся звезды в синей мгле…» («Элегия на смерть В. К.», 1827), – и в стихах о поэтическом призвании: «Все звезды в новый путь стремились, / Рассеяв вековую мглу…» («Поэт», 1827). В этих ранних текстах ночь определяется таким ее показателем, как звезды, из атмосферы философской трагедийности (как у Тютчева) поэт переводит «ночные образы» в иную плоскость, сопрягая ночь с человеческим настроением покоя, умиротворенности, отрешенности от суеты, или – напротив – с настроением уверенного движения вперед, импульс которому дают та же ночь и звезды.
Это антиномичное приятие мира, однако, в 1830–1840-е годы уходит из хомяковской поэзии: ночь очень рано становится показателем исключительно тишины, покоя, счастья. Те ночные «данности», которые разворачиваются в его стихах, соотносятся уже не с горящими во тьме звездами, а с успокоенным, «блаженным» состоянием поэта,
Когда восстанет в тьме ночной
Вся роскошь дивная созданья
Перед задумчивой душой;
Когда в груди его сберется
Мир целый образов и снов…
(«Два часа», 1831)
С этим мотивом связывается уже лишь представление о непременном отдыхе и связанных с ним раздумьях уставшего от «дневного» бытия человека: «Пора мне мирным сном сомкнуть / Глаза, усталые от бденья» («На сон грядущий», 1831); «Молчите, пламенные думы! / Засните вновь на краткий срок!» («Думы», 1831); «Лампада поздняя горела / Пред сонной лению моей» (1837); «Бывало в глубокий полуночный час, / Малютки, приду любоваться на вас» («К детям», 1839); «Как темнота широко воцарилась! / Как замер шум денного бытия!» («Видение», 1840); «Беззвездная полночь дышала прохладой» (1847); «Братья, оставим работу денную» («Вечерняя песнь», 1853); «Жаль мне вас, людей бессонных: / Уж не лучше ли заснуть?» (1853); «Хочу всей грудью, грудью жадной / Вдохнуть вечернюю струю» («Труженик», 1858); «И в объятья кроткой ночи / Передаст покой земли» («Помнишь, по стезе нагорной…», 1859). Именно потому Хомяков-поэт оказывается удален от собственно «пейзажной» лирики, что «ночной» пейзаж, размытый и неясный, оказывается для него ближе, ибо приближает его к тому идеальному состоянию, когда воображение заменяет реальный пейзаж чем-то «мыслительным»: восходящим то ли к собственной «житейской борьбе», то ли к каким-то данностям людской борьбы и людского противостояния. В 1835 году он в одном номере «Московского наблюдателя» печатает два стихотворения, открывающиеся «ночными» сигналами:
Когда вечерняя спускается роса,
И дремлет дольний мир, и ветр прохладой дует,
И синим сумраком одеты небеса,
И землю сонную луч месяца целует, —
Мне страшно вспоминать житейскую борьбу,
И грустно быть одним, и сердце сердца просит…
(«Элегия»)
О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
А как прекрасен был тот Запад величавый!..
(«Мечта»)
Стихотворения кажутся несоотносимыми. Первое – образец интимной, элегической лирики: песнь «моему уединенью». Второе – ранний призыв Хомякова, подхваченный русскими славянофилами: стихотворение, которое, по выражению К. Аксакова, «вовсе не стихотворно в том смысле, что содержание и значение его далеко перешагивает узкие рамки стихотворения и вообще стихотворного периода»[641]641
Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 190.
[Закрыть]. Но для самого Хомякова в обеих «вечерних песнях» нет принципиальной разницы, как нет ее в элегической констатации «Когда в час утренний проснувшийся Восток» и в императивном геополитическом призыве «Проснися, дремлющий Восток!». И то, и другое – показатели сходных душевных «пейзажей», только один опрокинут на внутренний мир поэта, а другой – на мир внеположных этому миру общественных данностей, которые нужно как-то изменять. И тот, и другой «вечерние» пейзажи одинаково условны и «мыслительны». И та, и другая стоящие за ними мысли одинаково важны для поэта.
Вот последнее «ночное» создание Хомякова – стихотворение «Спи!» (1859):
Днем наигравшись, натешившись, к ночи забылся ты сном,
Спишь, улыбаясь, малютка: весеннего утра лучом
Жизнь молодая, играя, блестит в сновиденьи твоем.
Спи!..
По жанру оно – проповедь, причем с простейшим толкованием самых естественных вещей, воспевающая самые незамысловатые и самые «вечные» радости человеческой жизни: отдых, покой, сон. Эти радости прямо ориентированы на три разных возраста: детство («малютка»), зрелость («труженик») и старость («старец»). Не случайно и то, что «радостью» в этой проповеди предстает и «день замогильный»: в христианской идеологии «замогильная» жизнь воспринимается как продолжение земного бытия, земной «ночи», как естественное завершение спокойствия земного «сна». Это пейзаж, ориентированный на «духовную лирику», что придает поэтической проповеди особенную торжественность и значительность.
Уже давно подмечено, что Хомяков организовывал свои зрелые стихотворения, отталкиваясь от жанра стихотворной «притчи»[642]642
См.: Маймин Е. А. А. С. Хомяков как поэт // Пушкинский сборник. Псков, 1968. С. 95; Егоров Б. Ф. Поэзия А. С. Хомякова // Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 39.
[Закрыть]. В «притчах» же, как правило, не бывает развернутого пейзажа: в лучшем случае дается лишь некий «антураж», указание на место и время условного повествования:
По жестким глыбам сорной нивы
С утра, до истощенья сил,
Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил…
Такое же указание присутствует в евангельских притчах: «Вышел сеятель сеять семя свое» (Лк. 8: 5). А поскольку временем действия в таких «притчах» редко является ночь, то и пейзаж в них отнюдь не «ночной». Но и «день» как житейская данность в том же хомяковском «Труженике» оказывается обременительной обузой:
Стереть бы пот дневного зноя!
Стряхнуть бы груз дневных забот!..
«Ночь» остается для Хомякова неким идеалом: «ночной», «внутренний» человек не только может отдохнуть от «дневных забот», но и остаться наедине с самим собою.
Сам же Хомяков наедине с собой представал совсем иным, чем на людях. Ю. Ф. Самарин вспоминал, как он навестил Хомякова в 1852 году, после смерти жены. «Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тут подымались воспоминания о прежних светлых и счастливых годах его жизни, воскресал перед ним образ его покойной жены, и только в эти минуты полного уединения давал он волю сдержанной тоске». Далее воспоминание конкретизируется: «К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимою веселостию, мы улеглись, потушили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленах перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь».[643]643
Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 133.
[Закрыть]
Последние стихи Хомякова исполнены «ночной» тревоги, муки и молитвы. Они действительно «не пейзажны» по всем основным внешним признакам. А их «внутренний», «ночной» пейзаж может быть осмыслен или тем, кто углубленно вникнет в личность поэта, или тем, кто, как критик Ксенофонт Полевой, внезапно соотнесет их содержание с каким-либо эпизодом собственного духовного опыта.









































