Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
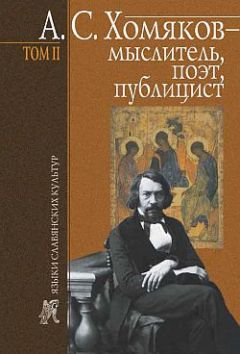
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 51 страниц)
Эта новая проблематика поэзии Хомякова вырастает из художественных интересов первых десятилетий XIX века, проявившихся прежде всего в драматургии и связанных с попытками найти художественное решение проблемы национального характера, национальной идеологии. Не случайно практически все стихотворения Хомякова о России имеют ярко выраженное драматическое начало; это страстные монологи, словно выхваченные из потока драматического действия, вполне сообразные ему по своей экспрессивности. Хомяков продолжает также традиции «библейской» поэзии XVIII – начала XIX века с ее выраженными пророческими интенциями и библейскими аллюзиями; многие его стихотворения представляют собой литературную молитву, переложение псалмов, вариации на евангельские темы. Чем дальше, тем больше поэзия Хомякова приобретает исключительно религиозный характер.
В 1840 – 50-е годы поэзия Хомякова приобретает черты единого художественного мира, ее можно рассматривать как целостный текст, обладающий внутренним единством, каждое стихотворение в свернутом виде содержит в себе все признаки целого, укрупняя и развивая какой-либо его аспект. Хомяков тяготеет к такому типу художественного мышления, в котором не допускается состояние сомнения как принципиально субъективной установки сознания. Это проявляется прежде всего в строгой последовательности, логической стройности развертывания лирического сюжета его стихотворений, для которых не характерно никакое расслоение, усложнение авторской мысли, эмоции; лирическое движение мысли осуществляется не как развитие как таковое, т. е. становление, рождение нового, а скорее как фиксация заранее известных этапов ее раскрытия. По ходу развития лирического сюжета не возникает что-либо неожиданное, освещающее новым светом сказанное ранее, не может произойти совмещение нескольких точек зрения как в пределах одного стихотворения, так и в отношениях отдельных произведений между собой. Для Хомякова понятие развития часто оказывается связанным с представлением об ущербности, неполноте и поэтому не соотносимо с тем статусом поэтического творчества, который он пытается реализовать в поэзии. Лирическое повествование стремится явить себя как откровение ноуменальной сущности мира и в связи с этим приобретает форму пророческого высказывания.
Хомяков развивает идеи романтической эстетики, однако существенным образом переосмысляя их. Прежде всего с пророческой доминантой связан статус лирического героя, который предстает как носитель абсолютного знания, посредник между божественной и человеческой реальностью. В отличие от романтиков, у которых право на пророчество дает поэтический талант, у Хомякова пророчество есть дар общения, то утрачиваемый, то вновь обретаемый в напряженной открытости поэта Богу и миру, преодолении границ «личной отдельности».
С пророческой установкой связана и композиционная структура стихотворений. Так, практически в каждом стихотворении этого периода можно выделить следующие этапы.
1. Указание на Божественную любовь, явленную как творческий призыв к России, миру, славянским народам, и призвание к гармонизации мира путем ответного движения навстречу Богу, вхождения в реальность богообщения.
2. Констатация отсутствия такого состояния бытия в настоящем как отклонение от нормы, ущерб, неполнота, выраженные как «сон», «лень».
3. Указание путей к восстановлению гармонии, призывы к свершениям: духовным и конкретно-историческим.
4. Собственно пророчество о грядущем восстановлении гармоничного состояния бытия, единства Бога и мира, причем Россия призвана к осуществлению этой миссии. Такое грядущее состояние мира обозначено как «жизнь», «новая жизнь».
В каждом конкретном стихотворении любое из указанных звеньев может отсутствовать, но обязательно подразумевается, содержится в смысловой структуре других частей. Таковы все стихотворения о России, стихотворения философско-дидактического характера, строящиеся как пророчество о грядущем обретении «новой мысли», способной преобразить мир («Звезды», «Счастлива мысль, которой не светила…», «И. В. Киреевскому», «Ключ»), библейские стихотворения («По прочтении псалма», «Суд Божий», «Широка, необозрима…»), в некоторых пророческая тема стремится к осуществлению в процессе самого лирического высказывания. Это относится к тем сочинениям, в которых пророческая интенция соединяется с молитвенной, например, в переложении литургического песнопения «Свете Тихий» («Вечерняя песнь»): преображение происходит с самим лирическим героем по мере развертывания сюжета. Так же и в стихотворении «Не говорите: “То былое…”»: в финале пророчество-призыв к покаянию перерастает в открытое, незавершенное слово самого героя, сливающегося с адресатом в едином молитвенном слове, становящемся надличностным, всеобщим:
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!
Характерной чертой хомяковского художественного мира является соотнесение указанных элементов композиционной структуры с определенными символическими мотивами. Так, настоящее в качестве переходного этапа, несовершенного состояния бытия всегда обозначается как «сон», «дремота», «лень» или их соединение – «ленивый сон» («Как часто во мне пробуждалась / Душа от ленивого сна… / За слепоту, за злодеянья, / За сон умов, за хлад сердец»).
На другом полюсе, там где располагается идеальное прошлое или чаемое будущее, оказывается «жизнь» («Дай мысли жизнь, дай жизни мир <…> Ты духа жизни допроси»), а также «пробуждение» сердца, ума, мысли, души, обретение тишины, мира, правды, смирения. Таким образом, настоящее предстает как неполнота, «сон» жизни, стихийное, неорганизованное бытие, в котором отсутствует главное условие подлинного бытия – общение. Ему противостоят прошлое и ожидаемое будущее, где возможно достижение полноты гармонии.
Этому соответствует и пространственная организация мира: гармоничное состояние бытия всегда связано с интенсивными пространственными перемещениями, прежде всего с нисхождением и восхождением как символическим выражением общения. В прошлом и до нынешнего состояния мира доминирует божественное нисхождение, в будущем ожидается ответное человеческое движение к Богу как устремление вверх («На небо голубое взглянет, / И небо все в себе вместит»). В философско-дидактических стихотворениях движение вверх осуществляется как мотив полета («Есть у подвига крылья, И взлетишь ты на них <…> Распусти ж свой парус белый, лебединое крыло»). При этом движение вверх осложнено движением вперед как выражение совмещения вечности и истории.
Пространственно-временная и сюжетная организация художественного мира Хомякова, семантика основных его категорий, равно как и статус лирического героя, свидетельствуют о том, что художественное сознание автора полностью концентрируется вокруг процесса богочеловеческих отношений, выраженных как общение, в котором залог подлинной жизни, осуществляемой как свобода и любовь. Общение предстает как смысловой центр поэзии. Так, не только особенности художественного мира, но и практически все мотивы, прежде всего пробуждения души/духа, сердца, ума, мысли или освещения/согревания земли солнцем, созерцание солнца, неба, звезд, мотивы дождя, произрастания, возделывания земли, семантически связаны с темой общения.
В поэзии Хомякова обнаруживается попытка художественного решения проблемы соборности, мир предстает как призванный к полноте богообщения, к постоянной устремленности ответить на Божественный призыв.
С этим связано и доминирование в поэзии Хомякова глаголов: «призвал на брань святую», «скажите: мы люди свободны», «скажи им таинство свободы», «ты сказал нам», «чтоб мир оглашал он далеко», «не говорите: “То былое…”», «гордись, – тебе льстецы сказали», «ты духа жизни допроси», «в песне сольем голоса», «молитесь, кайтесь», «плача и рыдая». Достаточно частотными словами оказываются у Хомякова «мысль», «думы», «суд», «речь», «глас/голос», «плач», «стон», «песни», «слова», «писанья» или невербальные выражения общения: «во прахе простерт пред Тобой», «с душой коленопреклоненной, с главой, лежащею в пыли, молись», «обняв любовию своей», «сиянье веры им пролей».
В художественном мире Хомякова все пронизано знаками общения, оно предстает не только синонимом подлинной жизни, но и ее главным условием, онтологическим основанием, открывающим подлинный образ человеческого бытия, основанного на божественной любви и свободе, принятии в свое сердце всего мира. В этом смысле сама история со всеми ее конкретными свершениями предстает как история общения мира с Богом.
Как и в богословии Хомякова, это общение не есть некое собственное свойство человеческого бытия, это дар божественной любви, мир лишь отзывается на него и по мере усвоения «живет». В свою очередь усвоение этого общения позволяет преодолеть законы земного бытия, что проявляется в устойчивом мотиве бесконечности, а также в отсутствии значимости границ и оформленности пространства в художественном мире поэта. Эта особенность творчества неоднократно отмечалась исследователями, в частности Ю. М. Лотманом, противопоставившим хомяковский и тютчевский художественные миры. Однако Ю. М. Лотман, как и другие исследователи, ограничивался констатацией этой особенности как факта поэтики, никак не объясняя ее художественной мотивированности в творчестве Хомякова. На самом деле именно преодоление ограничений, прежде всего природных, земных, «вещественных», является одной из определяющих черт хомяковского художественного мира. Так, само богообщение оказывается у поэта чудесным преодолением границ, разделяющих божественную и человеческую реальности. Соответственно и человек, вступая в это общение, обретает способность преодолевать ограничения собственной природы, свою отделенность от других, пространственно-временные ограничения, получает доступ не только к Богу, но и ко всякому иному сознанию (народам, братьям, миру), к прошлому и будущему, к творчеству, молитве, покаянию.
Изображение преодоления природных, естественных границ, связанное с обретением полноты общения, проходит через всю поэзию Хомякова. С этой семантикой связана аллегория водоема, изливающего воды за собственные пределы, в раннем стихотворении «Ключ»:
И вepю я: тот час настанет,
Река свой край перебежит,
На небо голубое взглянет
И небо все в себя вместит.
Смотрите, как широко воды
Зеленым долом разлились,
Как к брегу чуждые народы
С духовной жаждой собрались!
С этой же семантикой связаны и образы внезапного прорыва растения из-под земли, или «впивание очами» в звездное небо, открывающее «бесконечность небес», или преодоления водных преград.
Не случайно у Хомякова все неизмеримо, неисчислимо («Звезды-мысли, тьмы за тьмами, всходят, всходят без числа»), необозримо («Широка, необозрима, шла народная толпа»), бесконечно («Бесконечный свод небесный с лучезарной красотой»). Эта бесконечность – свойство не эмпирической реальности, а человеческого духа, который эту реальность воспринимает, духа, устремленного к богообщению и в результате преодолевающего законы природной необходимости.
Так, Россия, например, освобождается от «стихийного» образа бытия, разрушает «силу роковую слепых, стихийных, буйных сил», т. е. начинает существовать по законам свободы, определяясь в своих свершениях исключительно тайной общения с Богом. В связи с этим одним из сопутствующих эпитетов России становится святость: «Тебя призвал на брань святую», «Твое все то, чем дух святится», «Но крепок ясный мир святыни», «При ней скажу я: “Русь святая”», «И осиян весь мир лучами / Любви, святыни, тишины», «Пред миром станешь ты высоко / В сиянье новом и святом».
Будучи семантически связанной с божественным призванием, избранием, святость приобретает у А. С. Хомякова традиционный религиозный смысл освобождения, изъятия из подчиненности естественным законам земного бытия и полное предание себя Богу, пребывание в реальности богообщения.
Таким образом, художественный мир А. С. Хомякова оказывается внутренне сообразным его глубочайшим религиозным интуициям, прежде всего переживанию соборности как полноты согласия со Христом и с единством всех во Христе. Это религиозная поэзия, в которой религиозно-философский план не подчиняется конкретно-историческому, а, наоборот, втягивает его в себя, подчиняя своим законам. Пророческое переживание мира оказывается переживанием истории как непрерывного общения Бога и мира, которое невозможно отменить как духовную реальность. Пророчество у Хомякова связано не столько с предречением грядущих событий, сколько с обнаружением некоей неизменно существующей полноты бытия как общения, которая может реализоваться в истории благодаря ответному движению человеческой воли. Главным оказывается событие встречи, самоопределение человека перед Богом, каждый раз заново определяющим ход мировой истории. История, таким образом, полностью ставится под знак божественного присутствия, общения, отвечать на которое и означает жить и творить в истории.
В результате в мире не остается ничего, оставленного само на себя, вне божественного присутствия как общения, которым все освящается: философское познание («И. В. Киреевскому», «Счастлива мысль, которой не светила…»), царская власть («Народом полон Кремль великий…»), поэтическое творчество («Поле мертвыми костями…»), освободительная война («Тебя призвал на брань святую…», «Раскаявшейся России»), просветительская деятельность («Труженик»), созерцание природы («Вечерняя песнь»), человеческие отношения («Кремлевская заутреня на Пасxy»). Все проявления человеческой жизни оказываются соизмерены с богообщением, открытым ко всему многообразию проявлений бытия.
А. В. Моторин
Метафоры словесной пищи и словесного оружия в творчестве А. С. Хомякова
Хомяков верил, что Бог христианский, Бог истинный, в Лице Сына является Словом (Ин. 1, 1–5) и что в Лице Отца Бог словом создал все мироздание: «И сказал Бог: “Да будет <…>”» (Быт. 1, 1–31). В таком восприятии бытие мира словесно по сути и человек, будучи венцом творения, оказывается существом словесным, предназначенным постигать и возделывать целостную природу мира именно словесно, являясь в этом делании творцом, художником, по подобию Бога-Творца.
В словесном даре человека, в языке Хомяков видел связующее и основное звено между миром духовным, бесплотным (хотя в сотворенности уже небестелесным[593]593
«Не без тела воскреснем, и никакой дух, кроме Бога, не может вполне назваться бестелесным» (Хомяков А. С. Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 48).
[Закрыть]) и миром оплотненным, воплощенным в веществе. Уже в ранних философских набросках Хомяков, опираясь на Канта, умозаключает: «Что такое вещество? Мысль общая в отношении частной, чужая, внешняя», – и набрасывает схему взаимообратимого «перехода пространства в мысль»[594]594
Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 332.
[Закрыть], где под «мыслью», как и всегда впоследствии, подразумевает духовное содержание слова. Затем это суждение он развивает, в частности, в «Семирамиде»: «<…> переход от мира вещественного к миру мысли: это язык».[595]595
Там же. С. 23.
[Закрыть]
Таким образом, в творческом сознании Хомякова особое значение обретают художественные средства словесного выражения, в частности такое, быть может, самое мощное среди них, как метафора. Как человек верующий, Хомяков, несомненно, понимал, что всякая метафора, если воспользоваться счастливым выражением Дж. Вико, «оказывается маленьким мифом»[596]596
Вико Дж Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940. С. 146.
[Закрыть]. Всякая метафора, отражая и открывая незаметные обычному взгляду таинственные связи между жизненными сущностями, как в малой капле, отражает целостность всего сущего и является зерном определенной линии повествования о мироздании, а соответственно и определенной линии воздействия на мир. В таком понимании метафора перестает быть художественной условностью и восстанавливает свою первозданную силу.
При своем внимании к истории человечества, развивавшейся от первобытной монотеистической праведности через языческие блуждания до чудесного возрождения единой веры в единого Бога у христиан, и при своем внимании к истории основных народных языков Хомяков в собственном творчестве с особенной тщательностью подбирал, использовал и развивал древние метафоры, которые пронизывают всю толщу человеческой культуры и являются связующими нитями между допотопно-первобытной и христианской праведностью.
К числу таких излюбленных Хомяковым древних образов, ставших сквозными в его творчестве, относятся метафоры словесной пищи и словесного оружия. Эти метафоры отражают важные особенности художественно-мировоззренческого становления Хомякова. Они прослеживаются не только в стихотворных, поэтических произведениях писателя, но и в прозе – богословской, философской, историософской, исторической, критической, очерковой. «Выше и полезнее» любых качеств и достоинств ученого Хомяков считал «чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может» («Семирамида»)[597]597
Хомяков А. С. Соч.: Т. 1. С. 41.
[Закрыть]. Казалось бы, нехудожественная проза Хомякова насыщена яркими метафорами, и если он в 1850 году уничижительно назвал себя «прозатором»[598]598
Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1900. С. 200.
[Закрыть] в поэзии (с чем можно и не соглашаться), то в прозе его вполне можно назвать поэтом (во всяком случае к такому качеству своего прозаического творчества он, несомненно, стремился).
Метафоры словесной пищи и оружия образуют по сути двуединство. Пища, подобно оружию, входит в человека, а войдя, может послужить ко здравию и развитию и, таким образом, стать, уподобляясь оружию, неким оберегающим изнутри щитом. В ином случае, будучи отравленной или вообще ядовитой, пища превращается в язвящее ядовитое жало, подобное разящему губительному клинку (ядовитая пища всегда использовалась в качестве тайного, коварного и очень действенного оружия). Человек, изготавливающий и передающий пищу другому, оказывается в положении воина, действующего неким особым оружием. Слово же с глубоких доисторических времен, отраженных в памяти многих языков, сближалось и с пищей (особенно с утоляющей жажду влагой, с медом), и с оружием (особенно с мечом).[599]599
Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996. С. 220–221.
[Закрыть] Однако применительно к творческой судьбе Хомякова особенно важно помнить о самом близком этому писателю христианском предании о словесной пище и словесном оружии. Христос говорит апостолам: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10, 34). Говорит Он апостолам и о необходимости взять с собой меч после того, как Он покинет их: «Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч» (Лк. 22, 36). Очевидно, здесь имеется в виду меч в переносном значении словесного оружия, поэтому когда апостолы «сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 22, 38) – с явной иронией. Поэтому же, когда в Гефсиманском саду апостол Петр ударил мечом первосвященнического раба, «говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52). Метафору словесного меча раскрыл апостол Павел: «<…> И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 17). Хомяков в своем переводе Послания к ефесянам на современный русский язык предлагает несколько иное, нежели в синодальном переводе, словоупотребление, отличая «Глагол» Божий от «слова» человеческого: «И шлем спасения примите и меч духовный, который есть Глагол Божий, / всяким молением и прошением моляся во всякое время духом и на сие самое бодрствуя во всякой неутомимости и прошении за всех святых, / и за меня, да дастся мне слово, и отверзу уста мои с дерзновением, сказывая тайну благовестия <…>»[600]600
Хомяков А. С. Сочинения богословские. С. 363.
[Закрыть] (Еф. 6, 17– 19). Уже отсюда видно, что писатель не только знал эту евангельскую метафору, но и вдумчиво проникал в ее глубинную сущность.
Точно так же писатель хорошо знал и часто использовал в своем творчестве евангельскую метафору Христа-Слова как «хлеба» жизни.
Эти метафоры, усвоенные Хомяковым, очевидно, уже в раннем детстве через чтение Евангелия, православные молитвы и весь строй богослужения, становятся чрезвычайно производительными в его творчестве, многообразно развиваются, разветвляются и служат выражению существеннейших сторон его художественного мировоззрения.
В лирике поэта, как и подобает этому роду словесного творчества, метафоры словесной пищи и оружия служат выражению и выяснению отношений неповторимой личности человека-творца и Бога-Творца всего сущего, а также прояснению межличностных отношений людей. В прозе Хомякова, которую можно считать его эпосом, данные метафоры затрагивают по преимуществу сложные взаимоотношения соборных личностей разных народов. Порою в поэзии Хомякова лиризм сочетается с эпическим повествовательным размахом, и тогда метафоры словесной пищи и оружия также начинают служить выяснению международных отношений (в особенности при описании войн).
В поэзии метафора словесного оружия намечается уже в самом раннем «Послании к Веневитиновым» (1821): само это послание и оказывается таковым оружием, обращенным против турок в помощь грекам:
О други! как мой дух пылает бранной славой,
Я сердцем и душой среди войны кровавой,
Свирепых варваров непримиримый враг,
Я мыслью с греками, сражаюсь в их рядах…[601]601
Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 60. Здесь и далее страницы по этому изданию приводятся в скобках после цитат
[Закрыть]
Стихотворение «В альбом сестре» (1826) являет стремление словесного и сверхсловесного, мистического осмысления бытия. Позже именно это соприкосновение со словом как средоточием и носителем таинственной сущности бытия (а не бессловесное слияние с мирозданием) Хомяков настойчиво будет представлять сладостным вкушением. Уже здесь косвенно представляется образ «мольбы смиренной» как самого действенного оружия в духовной битве посреди «бедствий земных», однако напрямую этот образ у поэта будет дан лишь спустя много лет в стихотворении «Подвиг есть и в сраженьи…» (1859): «высший подвиг» – «в мольбе» (146). В конце жизни Хомяков подтвердил догадку своей юности. Есть в позднем стихотворении еще одна образная перекличка с юношеским: «бедствия земные» в 1826 году – и «скорби земные» в 1859, причем поздний образ опять же прояснен обозначением бранного начала в земной жизни, да еще и усилен пересечением метафор ядовитой пищи и язвящего оружия: «скорби земные – Жалом в душу впились» (146). Отмечено также, что в земной жизни распространено «насилье» с его «цепью стальной», а подвиг молитвы способен разбить эту цепь. Как обычно, у Хомякова молитвенный подвиг творится не гордо, не магически, а мистически, в смирении перед Богом (так, например, и в послании «России» 1854 года). В стихотворении «Подвиг есть и в сраженьи…» дан символический образ словесного вдохновения – крылатого Пегаса как боевого коня (в иных стихотворениях у Хомякова этот образ прописан более четко):
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них (146).
В «Поэте» (1827) «луч небесный» (73) словесного Божьего дара осознается и как меч, проникающий под «покров телесный», и как животворящая пища, причастие Христово (причастие божественного Слова). «Язык», воскрешающий «творенье мертвое», способен воспринимать слова, вкушать их как сладостую пищу и одновременно воспроизводить и производить их. Здесь слышится перекличка с «Пророком» Пушкина.
В стихотворении «Сон» (1828) уже совершенно ясно раскрыто двуединство словесной сладости и стреляющей пронзительности:
Я видел сон, что будто я певец,
И под перстом моим дышали струны
И звуки их гремели как перуны,
Стрелой вонзались во глубину сердец.
И как в степи глухой живые воды,
Так песнь моя ласкала жадный слух; <…>
Гремела песнь и сладкий глас звучал (84).
И язвящая сила слова, и питающая сладость его дарованы поэту Богом. Поэт верит, что «в певце на все Свое творенье / Всевышний положил венец» (84).
В «Просьбе» (1828) развивается древняя метафора жизни как словесного самовыражения, битвы и пира-вкушения. Боевой конь – крылатый Пегас поэта, поэт – воин, вооруженный мечом слова, и он же – словесная стрела. Впервые появляется образ неких (в составе данной развернутой метафоры – словесно-мысленных) паразитов, проникающих и разлагающих изнутри, пожирающих души, утратившие боевой дух сопротивления. Такие души становятся «добычей гнили и червей» (80). Сходным образом в «Из Саади (На кусок янтаря)» (1830) предложено сравнение губительного проникновения гнилых, греховных мыслей (а значит, и слов) в душу; дана и метафора словесного молитвенного сопротивления этому проникновению.
В «Клинке» (1829) есть обратная метафора: само человеческое оружие, воплощенное в металле, словесно, оно говорит «булата звонким призывом» (87). Так и в «Просьбе»: поэт жаждет «Услышать пушки глас, зовущий нас к боям» (80).
В стихотворении «Два часа» (1830 или 1831) «сладкозвучная волна» «песнопений» (91), вдохновляемых свыше (еще от условного Феба), является одновременно и животворящей пищей, и оружием, разрешающим от уз немоты «окованный язык»..
Метафора питающей сладости слова весьма распространена у Хомякова. В «Думах» (1831) «сладки речи слух ласкали» (95). Когда усладительность прямо не обозначена, она все же подразумевается. Так, в «Ключе» (1835) подается сравнение лесного ключа с метафорическим ключом русской духовности, к водам которого «народы / С духовной жаждой собрались» (104).
С середины 1830-х, с «Ключа», Хомяков начинает преимущественно по-христиански осмыслять словесный дар как пищу и оружие (по-прежнему в их двуединстве).
В «Киеве» (1839) «сладко песни раздалися» – песни молитвенные (112), а подхватывает их «полк молящихся детей» (113), то есть опять развернута двуединая метафора. «Чуждый глас» (114) Запада тоже явлен в образах пира и битвы, меча. Но «сладок глас отца родного» (114), который и питает, и действует одновременно как меч, помогающий разорвать западные словесные «коварства сети» (114). В «Широка, необозрима…» (1858) во время входа Господнего в Иерусалим простые верующие «Узнают шаги Владыки, / Слышат сладкий зов Отца» (143) – своего Бога.
«Сильна молящихся рука» в послании «России» (1839), ибо они «Глагол Творца» прияли (во вдохновении свыше и в причастии Таинств).
В «Еще об нем» (1841) отвергается гордое богоборчество Запада, воплощенное в словесном и воинском насилии и чается возрождение православной силы слова, являющейся одновременно и хлебом духовным:
Скажите, не утро ль с Востока встает?
Не новая ль жатва над прахом растет?
Скажите!.. Мир жадно и трепетно ждет
Властительной мысли и слова!.. (120).
Наконец, уже совсем без обиняков указывается в стихотворении «Давид» (1844) библейский источник метафоры словесного оружия (в рассуждении о правде Божьей): «Ее оружье – Божье слово, / А Божье слово – Божий гром» (123).
В послании «И. В. Киреевскому» (1848) поэт надеется получить от Киреевского словесно выраженную «Пищу алчущим сердцам!» (127).
«Кремлевская заутреня на Пасху» (1850) помогает духовно закосневающим людям понять, что «глас» пасхального «святого торжества» – это воинственная «Победы песнь, песнь конченного плена» (130).
Стихотворение «Воскрешение Лазаря» (1853) представляет Божие «слово силы» как сокрушающий зло смерти и охраняющий, воскрешающий добро луч-меч (131).
«Битва» и «молитва» прямо рифмуются (64) в «Ночи» (1855).
В «Поле мертвыми костями…» (1859) слово ветхозаветного пророка оказывается недостаточно сильным оружием против смерти (вопреки содержанию 37 главы книги пророка Иезекииля):
Ты, пророк, могучим словом
Поле мертвое воздвиг;
И оделись плотью кости,
И восстал собор велик.
Но неполно возрожденье,
Жизнь проснулась не сполна;
Всех оков земного тленья
Не осилила она <…> (146).
Согласно библейскому повествованию, пророк Иезекииль не собственною волею, но по воле Бога и силою ниспосланного от Бога духа воскресил мертвых, правда воскресил в видении, прообразующем воскрешение мертвых после Второго Пришествия Христова. Хомякову в этом стихотворении важно было провозгласить, что только само Слово Божие – воскрешающая пища бессмертия, живая вода, противодействующая мертвящему оружию смертных. Только по вдохновению свыше и, таким образом, по причастию к Божьему Слову поэт наделяется питающим и животворящим словесным даром.
В «Помнишь, по стезе нагорной…» (1859) развивается образ охватывающего мир «бранного спора», в котором должна воскреснуть истинная православная вера с помощью «гласа ее пророка», передающего волю Самого Бога, и питающий глас этот, уподобляясь «лучу с Востока», напоминает одновременно и некий меч, способный «проникнуть в дух людей» (148) в случае их сопротивления.
Сходное развитие метафор словесного оружия и словесной пищи наблюдается в прозе Хомякова, но уже с более раздумчивым и обстоятельным описанием особенностей международного духовного и языкового общения. Внимание писателя сосредоточивается прежде всего на истории славян, на их месте в мировом развитии.
Смиренно-бережное славянское отношение к иным народам, чисто православное по духу, созвучное евангельскому пророчеству Христа о исторической и сверхисторической, вечной жизни всех самобытных народов (Мф. 25, 31–46) отмечается в «Семирамиде». По Хомякову, учеными Запада
сила ассимиляции приписана славянам весьма произвольно: нигде не укажут нам ясного примера ославянения неславянского племени, а все поморье Балтики и земли между Эльбою и Одером представляют нам явление совершенно противное. Чуваши, черемисы, карелы и прочие, окруженные русскими, подвластные русским, подсудные русским, до сих пор сохраняют свою национальность почти в неизменной чистоте. Где же славянская зараза?[602]602
Хомяков А. С. Соч.: Т. 1. С. 61.
[Закрыть]
С одной стороны, Хомяков видит в земледельцах-славянах способность сохранять свою самобытность, духовную чистоту, усваивая чужое, пользуясь им и тем обогащаясь, с другой, признает, что в таком восприятии духовной пищи извне, как и вообще в питании, должна быть мера, препятствующая возникновению губительного смешения, которое ведет к разрушению духовно целостного организма. Даже яд в малых дозах бывает лекарством, а доброкачественная пища, принимаемая сверх меры, становится ядом.
Но самая способность сочувствовать всем видам человеческого развития, принимать впечатления внешние и сживаться с жизнью иноплеменников лишает земледельца упорного характера личности, неизменно сохраняющей свои первоначальные черты. Борьба их против стихии менее уступчивой и менее гибкой кончается почти всегда уступкою врожденных коренных стихий. Тот, кто охотно говорит на языке чужом, охотно забывает свой собственный язык. Тот, кто принял язык чужой, принял в себя волшебную силу чужой мысли, воплотившейся в звуки: но отдал душу свою под вечную опеку; он заковал ее в невидимую, но не расторгаемую цепь; он схоронил всю свою старую жизнь, нравственную, умственную и бытовую.[603]603
Там же. С. 100.
[Закрыть]
Так «переродилось» и постепенно исчезло, растворившись в других народах, славянство в центре Европы: «Они переродились потому, что таков их характер плебейский, труженический, чисто человеческий, готовый ко всякому развитию, способный воспринимать всякую форму, но не охваченный еще резкою чертою личности неизменной».[604]604
Там же. С. 101.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































