Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
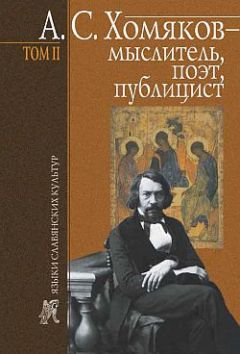
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В прозе к этому убеждению Хомяков приходит постепенно, начиная делать особенное ударение на опасности для славян чрезмерных попыток усвоения германской (и вообще западной, включая романскую) духовно-языковой пищи. Славянам, по Хомякову, необходима духовная бдительность и самозащита.
Обоснование этих опасений развертывается со второй половины 1840-х годов в статьях. Например, в «Письме в Петербург» (1845) любое творение человека рассматривается как подобный слову знак, несущий в себе духовно питающее (либо отравляющее) содержание: «Всякое творение человека или народа передается другому человеку или другому народу не как простое механическое орудие, но как оболочка мысли, как мысль, вызывающая новую деятельность на пользу или вред, на добро или зло. И часто самый здоровый организм не скоро перерабатывает свои новые умственные приобретения»[605]605
Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 75.
[Закрыть]. В «Мнении русских об иностранцах» (1846) уточняется природа духовно-чужеродного воздействия, в ходе которого по видимости подходящая пища превращается в неорганическое оружие или даже в яд, поражающий живой организм: «<…> в жизни умственной народа произойдет, конечно, кратковременное, но болезненное и крайне бессмысленное движение, подобное тому жизненному расстройству, которым сопровождается введение начал неорганических, даже отчасти и безвредных, в органическое тело»[606]606
Там же. С. 128–129.
[Закрыть]
В итоговой статье «К сербам. Послание из Москвы» (1860), обращаясь по сути и к русским, Хомяков предупреждает против бездумных, по лени душевной совершаемых заимствований иностранных слов:
В таком приливе иноземных звуков <…> заключается прямой и страшный вред, которого последствия трудно исчислить. Начало его есть умственная лень и пренебрежение к своему собственному языку: последствия же его – оскудение самого языка, т. е. самой мысли народной, которая с языком нераздельна, гибельная примесь жизни чужой и часто разрушение самых священных начал народного быта. Дайте какой бы то ни было власти название иноземное, и все внутренние отношения ее к подвластным изменятся и получат иной характер, который не скоро исправится. Назовите святую веру религией, и вы обезобразите само Православие. Так важно, так многозначительно слово человеческое, Богом данная ему сила и печать его разумного величия.[607]607
Там же. С. 357.
[Закрыть]
Духовно чужеродные слова, питая душу, становятся разлагающим ядом.
В понимании Хомякова, православная вера помогает славянам сохранить самобытность. Народы-земледельцы, в отличие от завоевателей, относятся к слову прежде всего как к пище духовной и в христианскую эпоху основывают такое отношение на евангельском учении о Христе-Слове как Хлебе Небесном, дарующем жизнь вечную. Из рассуждений Хомякова можно вывести, что христианство освятило и укрепило развитое у земледельцев-славян смиренное и любовное отношение к другим духовно-языковым культурам: опираясь на благодатную Божию помощь свыше, славяне свободно, смело и смиренно воспринимают чуждые народные начала и даже по видимости исчезая в них частично, тут же воскресают к новой, еще более яркой самобытной жизни.
У народов-завоевателей, по Хомякову, преобладает отношение к слову как оружию вторжения и подавления чужого духа. Однако они лишены при этом благодатной питающей поддержки Бога и сотворенных Богом иных народов. В своей гордой самозамкнутости они обречены на нравственный упадок и постепенное истощение сил:
Народ порабощенный впитывает в себя много злых начал: душа падает под тяжестью оков, связывающих тело, и не может уже развивать мысли истинно человеческой. Но господство – еще худший наставник, чем рабство, и глубокий разврат победителей мстит за несчастие побежденных. <…> Зараза нравственной порчи тем сильнее, чем теснее злое начало соединено с жизнью лиц, составляющих общество, и поэтому подчиненность целого племени другому племени менее гибельна, чем раздел покоренных, отданных в полную власть завоевателям. В первом случае рабство и господство представляются каждому отдельному лицу как понятия отвлеченные, связанные с общим государственным устройством; во втором – они входят в самый быт людей, присутствуют при каждом шаге в развитии умственном и физическом, отравляют каждое чувство от младенчества до старости и не оставляют человеку ни одного убежища, где бы он смог сохранить святыню внутреннего чувства от оскверняющего прикосновения факта, противного человеческой природе («Семирамида»).[608]608
Хомяков А. С. Соч.: Т. 1. С. 117–118.
[Закрыть]
Непричастность славян таким делам – свидетельство их тайного превосходства и силы всепобеждающей, впитавшей в себя все могущество светлой, «иранской» ветви человечества:
Таково значение Ирана, и если которая-нибудь из его семей, долее всех хранившая предания семейного быта и потому самому позднее всех проявившаяся в деятельности исторической, чище всех (кроме одной, замкнувшей себя в касту) сохранившая наследство слова и тем самым свидетельствующая о сохранении духовного начала, если эта семья восстала внезапно в изумительном величии, сокрушая все преграды, обнимая владениями своими неизмеримые пространства, возрастая со дня на день в могуществе и власти, наука не должна признать этого величия за неправедную игру слепого случая, не должна роптать на судьбу или завистливо клеветать на возвеличенную общину. Тайна ее торжеств заключается в ее слове. Сила внешняя есть плод силы внутренней; пространство владений и вещественное могущество суть проявления могучего мысленного начала, и в многолюдстве племени (математическом превосходстве над другими) живет свидетельство о духе братства, общения и любви.[609]609
Там же. С. 441–442.
[Закрыть]
Метафоры словесного оружия и словесной пищи уже с прямым отнесением их к евангельским источникам также довольно часто встречаются в богословских трудах Хомякова: «Область государства – земля и вещество; его оружие – меч вещественный. Единственная область Церкви – душа; единственный меч, которым она может пользоваться, который и врагами ее может быть с некоторым успехом против нее обращаем, есть слово» (По поводу брошюры г-на Лоранси. 1853).[610]610
Хомяков А. С. Сочинения богословские. С. 62.
[Закрыть]
В сочинении «По поводу одного окружного послания парижского архиепископа» (1855) дается пищевая метафора, основанная на евангельском описании Евхаристии: «<…> Он преломляет хлеб и предлагает им вино, говоря, что это Его тело и Его кровь. И Церковь, в смиренной радости, принимая новую пасху, завет своего Спасителя, не сомневалась никогда в действительности этого, Им установленного, телесного общения. <…> Таким образом, Церковь, радостная и признательная, знает, что Спаситель ее даровал ей не только общение Духа, но и общение проявления, и человек, раб плоти, вещественным действием повторяет себе вещество, которым облекается Христос силою действия духовного»[611]611
Там же. С. 137–138.
[Закрыть]. К этим словам дается примечание с важным разъяснением: «См. в православной службе тропарь IX пасхального канона, произносимый иереем после причащения: “О, пасха велия и священнейшая Христе; о мудросте и Слове Божие и сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни царствия Твоего”».[612]612
Там же. С. 138.
[Закрыть]
Хомякова недаром называли «рыцарем Церкви», имея в виду его отношение к слову как оружию и средству защиты. Однако недаром его считали и верным сыном Церкви, питавшимся с младенчества и до конца земного пути словесным учением чистого Православия.
Л. И. Сараскина
А. С. Хомяков среди «не наших»: стилистика и символика интеллектуального поединка
После романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и его центральной политической главы «У наших» отношение к такой партийной категории, как «наши» – «не наши» перестало быть стилистически нейтральным. Местоимение «наши» прекратило свое бытие в качестве знака принадлежности к кому-то или чему-то и родилось заново как иронический символ для обозначения узкой политической группы, а то и как карикатура на партийное единомыслие и партийную принадлежность. От этой иронии уже невозможно отрешиться: именно «наши» Достоевского навсегда отпечатались в сознании русского культурного читателя.
Между тем за два десятилетия до «Бесов» «наши» и «не наши» прошумели в другом прославленном сочинении. Собственно говоря, именно оно имело все права считаться первоисточником, тогда как в «Бесах» термин был пародийно использован, скомпрометирован и уценен. Разумеется, речь идет о «Былом и думах», части четвертой, главе XXIX «Наши» и главе XXX «Не наши» (употребление этого термина и в тех же целях Белинским или Языковым осталось по большому счету почти незамеченным). Именно у Герцена возникает то противопоставление «наших» (то есть либералов-западников, к которым относился и мемуарист) – «не нашим», противникам, славянской партии, в центре которой изображен А. С. Хомяков. В этих главах сосредоточен весь арсенал Герцена-полемиста, политического пропагандиста и лидера своей партии.
О несомненном влиянии «Былого и дум», как и вообще мощной фигуры Герцена на Достоевского, написано немало интересных и глубоких работ[613]613
См.: Дрыжакова Е. Н. Достоевский и Герцен (У истоков романа «Бесы») // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1. С. 219–239
[Закрыть]. Фигура Герцена вообще всегда чрезвычайно волновала Достоевского.
То был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde[614]614
Русский дворянин и гражданин мира (фр).
[Закрыть] прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. <…> Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. <…> Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр,
– писал Достоевский в 1873 году, сразу после окончания «Бесов»[615]615
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 8–9. В дальнейшем все цитаты из сочинений Ф. М. Достоевского приводятся по этому изданию в тексте с указанием в скобках тома и страницы.
[Закрыть]. «Наши помещики продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы», – писал Достоевский пять лет спустя (25, 22)[616]616
Герцен говорил о своих финансовых принципах. «Глупо или притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги – независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись, в чем были, от политических кораблекрушений. Поэтому я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 388–389. В дальнейшем все ссылки на «Былое и думы» приводятся по этому изданию в тексте с указанием в скобках страниц).
[Закрыть].
Наверное, можно утверждать, что «наши» из «Бесов» генетически связаны с «нашими» из «Былого и дум» гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд и чем это подтверждено исследованиями (в частности, линия Грановский – С. Т. Верховенский). Но в данном случае представляется важным сделать другой акцент: герценовское описание «наших», их «невинного» либерализма, их занятий, образа мыслей и образа жизни, политического и общественного поведения перестает казаться документальным первоисточником и видится как яркая иллюстрация к жизни кружка С. Т. Верховенского. Пародийный эффект тем сильнее, что «Былое и думы» – вещь мемуарная, с рассказом от первого лица. Будто именно Герцен как участник кружка Верховенского-старшего защищает других кружковцев от злобных критиков, которые не способны понять прелесть кружкового общения собратов-либералов.
Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслями, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем (112).
Это Герцен пишет о собраниях у себя.
Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало там весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же [купца] Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины (10, 26).
А это уже Хроникер рассказывает о сборищах у Степана Трофимовича; разница была лишь в том, кто оплачивал счета.
Будто предвидя насмешку над деятельностью, протекавшей в форме длительного и обильного застолья, Герцен на всякий случай отмахивается от оппонентов:
Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но ничего другого не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки (112).
Будто отвечая на упрек, Достоевский спешит успокоить Герцена: он-де все понимает, он не тупой педант и не тяжелый школяр.
Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. “Высший либерализм” и “высший либерал”, то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и кроме того необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и “русском духе”, о Боге вообще и о “русском Боге” в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, при чем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества <…>, были совершенно уверены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь “высший русский либерализм” иначе и не относится к делу (10, 30).
То, о чем с такой самоиронией говорит Степан Трофимович («Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками <…> мы надевали венки на вшивые головы» (10, 31)), у Герцена выглядит серьезно и пафосно, однако вызывает иронию, на которую он совсем не рассчитывал: «он (Галахов, член кружка “наших”. – Л. С.) с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить истину и… всюду бросался» (114). «Высший долг пропаганды» совершает с мемуарами злую шутку: задуманные как партийная похвала, тексты Герцена прочитываются совсем не так, как на это рассчитывал автор, и выглядят как автопародия. Сарказм, с которым изложено жизнеописание Степана Трофимовича, передается мемуарам Герцена, помимо его воли и замысла; кажется, будто поверх одного текста написан новый текст, органически сросшийся с прежним. И «наши» – сам Герцен, Грановский, Боткин, Редкин, Галахов – из собственных гостиных попадают в гостиную Степана Трофимовича Верховенского, почти ничего не теряя в идеях, разве что в качестве угощения.
Поразительный эффект вызывает в свете «Бесов» раздел о Грановском («На могиле друга») – прототип на фоне героя выглядит пародийно, будто читаешь черновик к жизнеописанию многочтимого Степана Трофимовича и будто это жизнеописание – подлинный сюжет, а страницы из «Былого и дум» – его поздний (или параллельный) иронический пересказ.
Фон, на котором появляются «не наши», равно как и принцип сопоставления и противопоставления, заслуживает пристального внимания. Итак, с одной стороны, «наши»: люди трапезы, застолья и пиров, люди мяса и бутылки, живущие во все стороны, которые между блюдами касаются всех вопросов, люди развитые и бывалые, много читавшие и видевшие. «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое» (110)[617]617
Речь идет о революции в Европе 1848 года.
[Закрыть]. И коль скоро «не наши» не относятся к этому «краю развития», к ним применяется совершенно иная технология описания.
Тон сочувствия, искренней грусти и ностальгии, которым проникнуто описание «наших», зримо меняется – на резкий, придирчивый, партийно-несправедливый. С «не нашими» вообще не принято церемониться. Два полюса жизни существуют для автора: с одной стороны, старая вымирающая Москва, старики – дом отца Герцена, с другой – молодая мыслящая Москва, где обитает он сам. «Что прозябало и жило» между этими двумя мирами, «я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла…» (152).
Глава «Не наши» – это энциклопедия (и одновременно классический образец) партийной публицистики либерального толка. В ней собран и продемонстрирован в действии весь арсенал средств и методов компрометации, дискредитации политического противника, с двойными стандартами в характеристиках, с коварством намеков, с виртуозной игрой на измельчание и опрокидывание оппонента. Так, если в публичной печати по острому вопросу высказывается «наш», то его выступление – это всегда подвиг партийца и победа всей партии. Если это делает противная сторона, поступок называется доносом и полицейской мерой.
В связи с полемическим стихотворением Н. М. Языкова Герцен, например, пишет: «Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастью: он для этого избрал… полицейскую нагайку» (167). (В. А. Кошелев остроумно замечает: «А ежели встать на другую сторону “ворот”, то как отнестись, например, к “хрестоматийному” же письму Белинского к Гоголю, “справедливость” и “нравственная позиция” которых столь многократно воспеты? Оно ведь тоже написано “умирающей рукой”. И тоже – не комплиментами наполнено»[618]618
Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 2000. С. 334.
[Закрыть].)
По Герцену, тот, кто находится вне центрального спора времени (Европа, просвещение, революция – Православие, самодержавие, народность), просто обыкновенный пошляк. Кто оказался на другой стороне осознанно – тот подлый цинический льстец, поклонник полицейского кнута, раболепствующий перед властью, жандармствующий во Христе. Потому не названы, например, лица в Москве и Петербурге, кто не принял или оспорил знаменитое философическое письмо П. Я. Чаадаева. И это вовсе не «охранители и мракобесы», толпой стоявшие у трона, палачи свободы, но люди несомненных культурных и нравственных достоинств – Н. М. Языков, Денис Давыдов, князь П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, семья Карамзиных.
Философическое письмо Чаадаева было воспринято лучшими из его современников как отрицание той России, которую, по словам Вяземского, с подлинника списал Карамзин. Нечего и говорить о Пушкине – он, друг Чаадаева, решительно оспорил центральный тезис об исторической ничтожности русских. «Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода. <…> Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» – таков был «отрицательный патриотизм» Чаадаева[619]619
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 323.
[Закрыть]. «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» – таков был патриотический пушкинский пафос[620]620
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Л., 1979. С. 689. Неотосланное письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 года.
[Закрыть]. Слово против слова.
Так что император Николай I и граф А. Х. Бенкендорф были далеко не самыми резкими критиками скандальной чаадаевской публикации. Но рукой Герцена водит не историческая справедливость мемуариста, а партийность политического публициста.
Всякий, кто, как Пушкин, смеет говорить о патриотизме, в лучшем случае пошляк. По отношению к Пушкину, правда, Герцен прибегает к безотказному «эзоповскому» методу. Он пишет, например, о «пошлом загоскинском патриотизме», который в том числе хвастает штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды». Намекая на пушкинское «Клеветникам России»[621]621
См.: «Иль русский от побед отвык? / Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, / От финских хладных скал до пламенной Колхиды, / От потрясенного Кремля / До стен недвижного Китая, / Стальной щетиною сверкая, / Не встанет русская земля?» (А. С. Пушкин. Клеветникам России, 1831).
[Закрыть], Герцен будто по недоразумению приписывает узнаваемое стихотворение Закоскину, которого можно шельмовать без оглядки.
В этом смысле портрет А. С. Хомякова, главного героя среди герценовских «не наших», представляет собой поистине шедевр изощренной партийной пропаганды. Поначалу кажется, что уж Хомяков-то нарисован объективно, любящей памятью (вспомним, как заканчивает Герцен главу «Не наши»: «сердце бьется одно»). Действительно, Хомяков – это Илья Муромец, богатырь Православия и славянизма, умный, сильный и даже опасный противник. Как будто ему выказано полное уважение и почтение. Но верный себе партийный пропагандист Герцен, наступая на горло мастерству мемуарного изложения, одергивает себя и смешивает краски в нужной политической пропорции: ложка меда – ложка дегтя.
Конечно, Хомяков – Илья Муромец и даже Горгиас, древнегреческий философ-софист: Герцен готов повторить это вместе с профессором Московского университета по кафедре права Ф. Л. Морошкиным, которого почему-то при этом называет «полуповрежденным» (156). Конечно, ум Хомякова сильный, подвижный, богатый, но неразборчивый в средствах. Конечно, Хомяков – боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал цитатами, но «горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь». Следует понимать, что ничего другого он и не сделал. Но ведь если он спорил по главному вопросу, значит, все же, по Герцену, не был пошляком всю свою жизнь? Не этим же занимался и сам Герцен? «Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени», – писал о Герцене Достоевский (21, 9).
Хомяков под пером Герцена, «необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, карауливший Богородицу, спал вооруженным» (157). При этом, в глазах Герцена, этот рыцарь в своем рыцарском служении был беспощадным, жестоким и неблагородным. Он пугал своих совопросников, заводил в лес, откуда без молитвы не выйти, пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Он хорошо знал свою силу, но играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли у него у самого что-нибудь заветное.
Итак, Хомяков «мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, как казалось, от души» (157). Оказывается, Илья Муромец – не богатырь вовсе, а «закалившийся старый бретер диалектики», который «больше сбивал, чем убеждал»; даже восточные азиатские черты лица выражают что-то затаенное и лукавое.
Шаг за шагом пропорции в изготовлении красок для портрета Хомякова (ложка меда – ложка дегтя) меняются: капля похвалы окружается черпаками брани. Хомяков во всякое время дня и ночи готов на запутаннейший спор и употребляет для торжества своего славянского воззрения все на свете. Но это «все на свете» оказывается всего-навсего казуистикой византийских богословов и тонкостями изворотливого логиста, а возражения его, «часто мнимые», «ослепляют и сбивают с толку» (157).
«Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и не служившего, была отдана пропаганде», – пишет Герцен (158). Но в следующем абзаце сам уничтожает добрый смысл сказанного: оказывается, Хомяков «беспрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой» всего лишь «заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях» (159). Для сравнения напомню мнение Достоевского: «Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только “логического течения идей” и от сердечной пустоты на родине» (21, 9).
Герцен куда жестче говорит о товарищах Хомякова, чем Достоевский о нем самом: Герцен видит их неизменно людьми сломленными, заеденными николаевским временем, живыми мертвецами, печальными тенями на рубеже народного воскресения, они настолько преждевременно состарились, что уже не скидывали савана (159). Ведь если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты, остается броситься, как в прорубь, в «отчаянное Православие, в неистовый славянизм» (162).
Чувство пустоты, которое, по мнению Герцена, питало полемический дар Хомякова, подвигло его «поехать гулять по Европе». И вот насмешливая картинка европейского путешествия, совершенного «во время сонного и скучного царствования Карла Х» (то ли дело путешествие Герцена по Европе, объятой пожаром революции!). «Докончив в Париже свою забытую трагедию “Ермак” и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастию, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия – “Дмитрий Самозванец”. Опять скука! В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских» (162).
Итак, пустота и скука – вот что, по Герцену, кроется за могучей, но бесполезной силой этого нового Ильи Муромца. Ни слова не скажет Герцен ни о богословских трудах Хомякова, ни о его стихах, ни даже о его деятельности по крестьянской реформе. Он запомнит всего один «пустой» спор, ибо разве что от скуки можно защищать такую мысль, как возможность разума дойти до истины. Этот диалог Герцен приводит как доказательство своей победы над Хомяковым. «Если разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он (разум. – Л С.) может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии», – так формулирует Герцен позицию Хомякова (157).
Несомненно одно: если этот спор – лишь провокация для умов робких и слабых; если инициатором спора движет не уверенность в неколебимости религиозного чувства, не твердая убежденность в неопровержимости вероисповедной истины[622]622
См. об этом: Барон Б. Э. Нольде. Юрий Самарин и его время. Paris, 1978. C. 31.
[Закрыть], а лишь пустота и скука; если он, споря, всего только испытывает свою артистическую силу, ловит в свои сети и издевательски мучает жертву, поджаривая ее на жаровне иезуитской диалектики, – тогда это не Хомяков, признанный вождь славянофилов, а схема, набросок русского барина, с беспредельной, но бесполезной силой героя, который уже есть в мире и в России, но который еще не написан Достоевским. Тогда это тот самый герой, кто потерял различие между добром и злом, тот, кто (как Герцен) записался в граждане кантона Ури, ибо в России ничем не связан[623]623
См.: «В ней (в России. – Л. С.) мне все так же чужое, как везде» (10, 514).
[Закрыть] и может проповедовать что угодно и кому угодно из праздности, доводя собеседников до исступленного безумия.
Герцен, преследуя политические цели, предельно исказил образ Хомякова, вынув из него духовную, религиозную составляющую[624]624
В 1845 году, в разгар споров, под влиянием В. Г. Белинского оценки Герцена стали предельно злы и уничижительны. Это уже не критика оппонента, а плевки в лицо. «Недавно я вытеснил на чистую воду Хомякова из-за леса фраз, острот, анекдотов, которыми он уснащает свою речь, и он вывертывался старыми понятиями идеализма, битыми мистическими представлениями». В. А. Кошелев, приводя эту цитату, подчеркивает: «Герцен даже специально “накручивает” нелестные сравнения: “Алексей Степанович – Ноздрев партии „Москвитянина“” <…> византийский диалектик и бердический цыган» (Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков. С. 271).
[Закрыть]. Достоевский, судивший о Хомякове по иным источникам[625]625
В 1876 году Достоевский отметил в записной тетради: «Петр Великий. Великие души не могут не иметь великих предчувствий. Петр не мог не быть западником, но вряд ли он был в таком тесном смысле, как петербургский западник или иезуит Гагарин. И если б увидал славянофилов, наверно бы их понял, взял бы Хомякова и Юрия Самарина и сказал бы, вот птенцы моего гнезда, хотя, по-видимому, они и против меня говорили» (24, 208).
[Закрыть], не поверил оценкам Герцена, но увидел общую тенденцию «Былого и дум», прочитанных ранее и перечитанных как раз накануне работы над «Бесами». «Апокалипсис» – так назовет Достоевский ту самую описанную в мемуарах тему спора. «Сообразите, что значит зверь, как не мир, оставивший веру; ум, оставшийся на себя одного, отвергший, на основании науки, возможность непосредственного сношения с Богом, возможность откровения и чуда появления Бога на земле», – запишет он в черновике к роману (11, 186). В этом месте черновиков Ставрогин говорит Шатову: «Да ведь это всё старое, славянофильское» (11, 186). А Шатов объясняет разницу в подходах. «Славянофилы – барская затея, икона (Киреевский). Никогда они не могут верить непосредственно. Славянофил думает выехать только свойствами русского народа, но без Православия не выедешь, никакие свойства ничего не сделают, если мир потеряет веру» (Там же). То есть Шатов говорит Ставрогину о славянофилах, видя их как бы в зеркале мемуаров Герцена.
Но ведь именно так спорят о вере «не наши» в сознании Герцена – там они действительно не имеют за душой ничего заветного. Оттого и недоумевает Герцен, как же на таком вздоре «Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг, и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в “материализм”, от которого они стыдливо отрекались, или в “атеизм”, которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!» (157).
Но вот в спор вступает сам Герцен, который изучил полемические уловки Хомякова и сам норовит загнать его в ловушку. «Докажите, что не наука ваша истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской», – предлагает он (158), что буквально значит: докажите мне, что есть Бог истинный, и я в него поверю.
«Для этого надобно веру», – резонно отвечает Хомяков, подобно тому, как Ставрогин скажет Шатову: «Для того, чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы веровать в Бога, надо Бога» (10, 200). Страдающий от несовершенства своей веры Шатов, как известно, обещает, что он будет веровать. Герцен, довольный своим неколебимым атеизмом, с чувством превосходства говорит совсем другое: «Но, Алексей Степанович, вы знаете: “На нет и суда нет”» (158). И полагает, разумеется, что победа в споре осталась за ним.
Приведу комментарий Бердяева:
Слишком известно мнение Герцена о Хомякове, высказанное в «Былом и думах». Для многих эта характеристика Герцена является единственным источником суждений о Хомякове. Но Герцен так же не понимал Хомякова, как не понимал Чаадаева и Печерина; то был неведомый ему мир. Он был поражен необыкновенными дарованиями Хомякова, воспринимал его как непобедимого спорщика и диалектика, но сущность Хомякова была для него так же закрыта, как и сущность всех людей религиозного духа. Поэтому Герцен заподозривает искренность Хомякова, глубину его убеждений, как это всегда любят делать неверующие относительно верующих. Из Чаадаева Герцен сделал либерала, их Хомякова – диалектика, прикрывающего спорами внутреннюю пустоту. Но Герцен не может быть компетентным свидетелем и оценщиком религиозной полосы русской жизни и мысли.[626]626
Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков // Бердяев Н. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. Париж, 1997. С. 48–49.
[Закрыть]
Кажется, это и так и не совсем так. Ведь мог же Герцен увидеть в Хомякове верного рыцаря Православия, стерегущего Храм Богородицы, и почти не надсмеяться над этим обстоятельством (кажется, только над этим в Хомякове и не посмеялся Герцен). Ведь не смеялся же он над мистицизмом архитектора Витберга, над религиозной экзальтацией молодой Натальи Захаровой, будущей своей жены, а, напротив, описал их состояние в самых сочувственных тонах.









































