Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
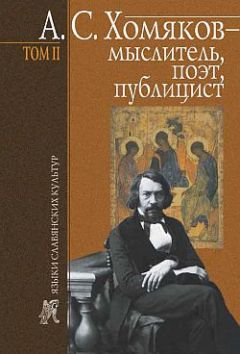
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
А. Н. Долгенко
Философско-эстетическое наследие А. С. Хомякова и эволюция русского декаданса
Принято считать, что философско-эстетические воззрения Алексея Степановича Хомякова являются своеобразным развитием эстетики русского романтизма[855]855
См., например: История эстетической мысли: В 6 т. Т. 3. М., 1986. С. 371–377.
[Закрыть]. Если исходить из данного положения, то соотнесение славянофильской эстетики А. С. Хомякова с ориентированной на опыт Европы эстетикой русского декаданса – эстетикой радикально романтической – не будет столь уж неожиданным. Тем более что идеи Хомякова никоим образом не повлияли на формирование декадентского мировоззрения в России, но предопределили его кризис и трансформацию в символистское.
В контексте социокультурной динамики развития России то, что предложили в эстетической теории и художественной практике А. С. Хомяков и его единомышленники, знаменует переход от идеалов русского классицизма к символизму. И классицизм, и славянофильство, и символизм как эстетические системы являют собой воплощение того типа культурной ментальности, который в «Социальной и культурной динамике» П. А. Сорокина определен как идеалистический[856]856
См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000.
[Закрыть]. Если в идеациональной культуре русского средневековья единственной данностью, ценностью и истиной был Бог, то в чувственной культуре, начиная с первых опытов русских сентименталистов, это место занимает человек, окончательно вытеснивший Бога на периферию культурной ментальности в недолгую эпоху декаданса. Гармоническое же сочетание Бога и человека есть только в культуре идеалистического типа.[857]857
Типы культуры, культурной ментальности и литературы определяются в работе в соответствии с терминологией, предложенной в указанном труде П. А. Сорокина
[Закрыть]
Идеалистическая культурная ментальность мировоззренчески утверждает в равной степени и Бытие, и Становление, стремясь гармонически сочетать в себе духовное и чувственное. Понятие истины здесь в целом схоластично, но в ее достижении одинаково акцентируется как внешний (эмпирический), так и внутренний (духовный) опыт. Моральные ценности в системе идеалистической культурной ментальности соединяют в себе абсолютное и относительное, вечное и преходящее, духовное и чувственное. Во все времена и во всех обществах были отдельные индивиды и группы, являющиеся носителями данного типа ментальности, но они всегда составляют меньшинство. Однако это, как правило, творчески активное и духовно ответственное меньшинство, предопределяющее развитие национальной культуры. К таким индивидам и относится А. С. Хомяков.
С одной стороны, Хомяков рассматривает мир не как совокупность готовых форм, а как процесс бесконечного становления, который является творческой духовной деятельностью символического характера, воплощающей внутреннее содержание во внешней форме. Это действительно соответствует эстетическим принципам романтизма. Однако утверждая, что «искусство истинное есть живой плод жизни, стремящейся выражать в неизменных формах идеалы, скрытые в ее вечных изменениях»[858]858
Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1900. С. 93.
[Закрыть], Хомяков по существу постулирует представление о неизменности идеала, в котором явно видны следы эстетических установок классицизма. Тенденция к подражанию идеалу, разнопланово воплотившаяся в эстетике и поэтике русского классицизма, находит продолжение в эстетической системе А. С. Хомякова. Это связано с тем, что и классицисты, и славянофилы были свято убеждены в Божественном происхождении искусства.
В вопросе о происхождении искусства наиболее явственно проявилась глубокая религиозная основа философско-эстетической концепции А. С. Хомякова. В его представлении только верность своей духовной основе, которая выходит за пределы личности художника и предстает уже в высшем значении как частное отражение народного духа, просветленного религиозной верой, является необходимым условием создания бессмертных произведений искусства. А общая цель искусства – спокойствие и возвышенное созерцание, посредством которого облагораживается существование человека и усиливается действие его нравственных способностей.
Хомяковская идея искусства как возвышенного созерцания находит непосредственное воплощение в декадентской идее искусства как познания творчеством. Декаданс воспринимался русскими декадентами как вершина творческого познания мира, «поднявшись на которую, можно созерцать пути восхождения, можно, спустившись, выбрать любой путь…». «Мы, “декаденты”, уверены в том, – утверждал А. Белый, – что являемся конечным звеном непрерывного ряда переживаний, той центральной станцией, откуда начинаются иные пути»[859]859
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 131.
[Закрыть]. Декаданс в его представлении является квинтэссенцией высшей деятельности человечества, открывшей перед ним новые миры, а перед человеком – возможность небывалого эстетического наслаждения. Однако декадентский гедонизм был лишь тенью хомяковского эвдемонизма.
Искусство в философско-эстетической концепции А. С. Хомякова является эманацией полной и всеобъемлющей любви, любви Божественной. Попытка утверждения любви как абсолютной ценности и абсолютной истины отличает художественные опыты русских декадентов. Но декадентское представление об Абсолюте весьма далеко от христианского.
«Активное эпикурейство» стало основным типом культурной ментальности, нашедшим воплощение в чувственной литературе русской классики. Однако при том, что эта ментальность так много внимания уделяет внешней, чувственной стороне бытия, в ней всегда есть место Богу. Однако к концу XIX века общеевропейская культурная ситуация «смерти Бога» распространяется и в интеллектуальной культуре России. В результате создаются условия для распространения свойственных любой культуре элементов пассивно-чувственной ментальности, не несущей никаких реальных моральных ценностей, за исключением предельно чувственных, «рафинированно патологичных». Так в русскую культуру и приходит декаданс.
По типу культурной ментальности декаданс занимает промежуточное положение между пассивно-чувственным и идеалистическим и во многом соответствует тому, что можно определить как цинически-чувственный тип ментальности, аксиологическое кредо которого не являет собой никакой подлинной целостности. Истина здесь не представляет собой ничего связного. Никаких устойчивых этических и эстетических ценностей, за исключением чувственных, замаскированных духовными, нет. Этот тотальный релятивизм находит воплощение не только в известной тенденции к художественной усложненности декадентского искусства, но и в эстетической установке на принципиальную противоречивость в сочетании с глубоким индивидуалистическим пафосом.
Индивидуалистический пафос литературы русского декаданса связан с солипсической абсолютизацией фигуры художника и определяет ключевую, интегрирующую особенность эстетики декаданса, каковой является объективация субъективных переживаний. Этот принцип позволяет мистические откровения субъекта познания принести в дар «умирающему миру». Объективация понималась декадентами в шопенгауэровском смысле – как переход субъекта в объект, то есть обретение формы: времени, пространства, причинности. Именно так предельная истина, открывающаяся взору художника, принявшего на себя функции Творца, приходит в мир. Поиски материала для творческой реконструкции мира сосредоточены в области ирреального, интерпретация которого носит в декадентской литературе всегда индивидуальный характер. Отсюда своеобразный декадентский мистицизм, синтезирующий в себе романтический, христианский и фольклорный. От ортодоксального мистицизма христианства он унаследовал мысль о том, что Абсолют (Бог) индивидуален, и «единение» с ним происходит через общение. Но если в христианстве это «диалогическое» общение, которое требует согласия партнера и потому не может быть односторонним усилием, то в декадансе оно, как и у романтиков, переосмысляется как слияние или замещение, а посему может восприниматься как еретическое. Относительная бедность индивидуального мира личности компенсируется тем, что он населяется образами мифологии и народной демонологии. Однако в центре идейного мира декадентской литературы по сути единственный вопрос: в чем смысл человеческой жизни.
Обострение актуальности вопроса о смысле жизни в декадентском мировоззрении связано с тем, что декаданс – искусство без веры. «Вера – жизнь и истина в одно и то же время – есть такое действие, которым человек, осуждая свою собственную несовершенную и злостную личность, ищет соединиться с существом нравственным по преимуществу, с Иисусом праведным, с Богочеловеком», – утверждал А. С. Хомяков[860]860
Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1900. С. 124–125.
[Закрыть]. В декадентской картине мира отрицание жизни как раз связано с утратой истины. Именно поэтому решение вопроса о смысле жизни связано здесь с проблемой обретения истины. Русские декаденты, с одной стороны, наследуют пафос истины, характерный для религиозной философии А. С. Хомякова, с другой стороны, исходят из иррационального характера истины, обретение которой – имманентная потребность личности, ее цель. Ярким примером реализации этой потребности может служить уже первый русский декадентский роман – «Тяжелые сны» Ф. Сологуба. В поисках истины его герой проходит от дискредитации познавательных возможностей разума через обличение порочной и злой сущности страсти к истине в любви. Однако обретенная в любви истина экзистенциально чужда ему. Выходит так, что смысл жизни человека в обретении истины, но истина оказывается по сути недостижимой, а сама жизнь – бессмысленной. Негативное отношение декадентов к миру находит выражение в идее принципиальной бессмысленности жизни, выраженной ужасающими образами, в каких является им действительность. Отнюдь не внушающие оптимизма картины быта провинциальной России, широко представленные в декадентской прозе, пугают, шокируют, парализуют сознание читателя, создавая ощущение полной абсурдности жизни. Однако примечательно, что именно любовь в декадентском представлении становится единственно возможным способом преодоления этого абсурда. Следующим шагом должно было стать обретение утраченного Бога. Ведь если следовать логике А. С. Хомякова, любовь способна примирить все противоречия в обществе и установить отношения подлинного братства. Любовь и есть Бог.
Подавляющее большинство русских декадентов сделали шаг к обретению Бога уже в начале ХХ века. Трансформации декадентского индивидуализма стали началом преодоления декаданса. Отношение к индивидуализму, который в свое время объединил декадентов, обусловило расхождение между ними. Уязвимость декадентского индивидуализма заключалась в том, что он «был понят в основном “как интеллектуальное донжуанство” и декаданс охватывал все в мимолетности самодовлеющих “мигов”, в самоценных и своеначальных “мгновенностях”. Индивидуализм декадентства был непрочен, как всякий чисто эстетический индивидуализм»[861]861
Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 63.
[Закрыть]. На смену декадентскому приходит соборный индивидуализм.
На формирование концепции соборного индивидуализма, знаменовавшего переход авангарда русской художественной культуры с позиций декаданса на позиции символизма, определяющее воздействие оказало учение А. С. Хомякова о соборности, для которого соборность означает сочетание свободы и единства многих людей на основе их общей любви к Богу и его истине и взаимной любви ко всем, кто любит Бога. Для концепции соборного индивидуализма наиболее важным было то, что Хомяков выдвинул на первый план неразрывную связь между любовью и свободой, которую мы находим в христианстве. Будучи религией любви христианство является и религией свободы.
В завершенном виде декадентская трансформация хомяковского принципа соборности в концепцию соборного индивидуализма представлена в одноименном труде Модеста Гофмана[862]862
См.: Гофман М. Соборный индивидуализм. СПб., 1907.
[Закрыть], в начале ХХ века близкого к символистам молодого историка литературы, а впоследствии известного пушкиниста. Автор утверждает, что соборный индивидуализм способен восстановить связь между обособившимися друг от друга индивидуумами, потерявшими живое восприятие «последней реальности – тела Христова, утверждающего индивидуальность». Соборный индивидуализм в отличие от декадентского интересуется не индивидуальностью «я», а индивидуальностью всех. Для утверждения идеи свободы личности декаданс провозглашает уход от действительности, отрешенность; соборный индивидуализм также призывает к уходу, но к уходу «не в пустыни и не в дубравы, а в хороводы»[863]863
Там же. С. 7–15.
[Закрыть]. Тем самым последний стремится сочетать прямо противоположные устремления личности – индивидуализм и всеединство.
Кризис декадентского индивидуализма обнаружил полную несостоятельность его солипсической эстетики. Соборный индивидуализм как эстетическая система был призван обосновать создание искусства нового типа – искусства соборного. Возможности и средства к его созданию усматривались в самой истории искусства. С самых первых шагов искусство отличалось большой содержательностью, которая была обусловлена тем, что творил не один человек, а весь народ. Этот факт, в представлении М. Гофмана, указывал на два обстоятельства. Первое заключалось в том, что искусство вовсе не должно быть исключительно индивидуальным, уединенным, да и не может быть, потому что произведение искусства, понятное и дорогое только одному человеку и никому больше, не может считаться произведением искусства. Второе указывает на то, что соборное искусство гораздо значительнее, выше, содержательнее индивидуального[864]864
Там же. С. 85–88.
[Закрыть]. Однако глубина содержания совсем не должна исключать внимание к форме. Индивидуальное искусство было озабочено главным образом созданием и развитием формы, стиля. Чем дальше уходило оно от народа, тем становилось ему все менее и менее понятным. Чем более развивалось индивидуальное искусство профессиональных художников, тем более совершенствовалась форма, стиль. Искусство русского декаданса достигло высочайшего развития стиля, однако вместе с тем это искусство является и самым уединенным, самым обособленным. Декаданс, таким образом, все более приближал то время, когда поэт, художник останется совершенно один, а это – время смерти искусства.
Эстетический идеал соборного индивидуализма знаменует отказ от декаданса, но отнюдь не утверждение символизма. Русская литература, «в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, – писал Г. П. Федотов, – кончается с Чеховым и декадентами, как русская интеллигенция кончается с Лениным»[865]865
Федоров Г. П. В защиту этики // Путь. Париж, 193…
[Закрыть]. В этом отношении русский символизм представляет собой попытку создания литературы неохристианской. Но попытку неудачную. Причина этой неудачи не только в мощном разнообразии модернистских альтернатив, но и в том, что стало определяющим принципом эстетики символизма – в абсолютизации символа.
С точки зрения соборного индивидуализма абсолютизация, гипостазирование символа – это обожествление формы, эстетический фетишизм. Этим фетишизмом и объясняются неудачи символизма как нового религиозного творчества. Если живой символ дает богатое рождение и развитие мифа, то гипостазирование символа дает смерть и вырождение мифотворчества, теургии[866]866
См.: Гофман М. Соборный индивидуализм. С. 105–108.
[Закрыть]. В конечном счете неудачи русского символизма были предопределены тем, что целью творческого познания является не человек, а абсолютный символ. Соборный индивидуализм же твердо стоит на позиции А. С. Хомякова, утверждавшего, что именно человек является целью мироздания, именно он удерживает мироздание в гармонии, осуществляя закон любви.
Философско-эстетическое наследие Хомякова оказало существенное влияние на трансформацию декадентских идей в русской литературе и культуре рубежа XIX—ХХ веков, противопоставляя эстетический идеал цельности декадентской установке на противоречивость. Это лишний раз подтверждает провиденциализм А. С. Хомякова и убеждает в том, что его философско-эстетическая концепция воплощает в себе тот цельный метод постижения Истины, начало которому было положено Платоном и митрополитом Иларионом.
С. А. Шульц
Хомяковский интертекст в стихотворении Б. Л. Пастернака «Ожившая фреска»
Одно из самых мистичных произведений Бориса Пастернака, предваряющее переход поэта к творчеству «неслыханной простоты» и тесно соотнесенное с христианской топикой цикла «Стихотворения Юрия Живаго», – стихотворение «Ожившая фреска» (1944). В нем судьба участника Сталинградской битвы (его конкретным прототипом послужила фигура генерала Гуртьева[867]867
Подробнее см.: Пастернак Е. Борис Пастернак: Мат-лы для биографии. М., 1989. С. 567–568.
[Закрыть]) проецируется на оживающий в неожиданно воскресшей связи времен храмовый живописный образ архистратига через неожиданное воспоминание, мистический «анамнезис»:
Воспоминания героя о детском посещении монастыря приводят к появлению ключевого образа произведения:
А дальше в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
Все стихотворение построено на серии круговых взаимоотражений событий различных эпох, реальностей и по своему духовно-религиозному статусу. Это и война, и детство героя, и агиология его архетипа – святого Георгия, и далекое прошлое, и будущее России. Эмблема Русского государства[869]869
См.: Праздники и знаменательные даты православного и народного календаря. Жизнеописания святых. Обычаи, гадания, поверья, приметы. СПб., 1993. С. 97.
[Закрыть], символ победы над монголо-татарами и, после статуи Фальконе, символ обуздания темной стихии, сил хаоса венценосцем-просветителем, лик Георгия Победоносца, который несет в данном случае функцию взаимопоглощения фактической реальности религиозно-эстетическим началом.
После цепи символико-мифологических уподоблений событий настоящего и прошедшего стихотворение завершается полным сближением участника Сталинградской битвы с его иконописным архетипом, вплоть до неразличения:
Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.
«Будущность» раскрывается через припоминание прошлого, настоящее становится лишь мостом для этого историального взаимоперехода.
Самый неожиданный ход поэтической мысли в этой строфе вызван столько же почти полным «оживлением» фрески, итожащим развитие сюжета стихотворения, сколько и образом героя, переходящего «земли границы», – границы того, что, казалось бы, не должно иметь никаких пределов. Ср. евангельское: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5). В контексте стихотворения эта метафора, единственная в своем роде, несет природно-космическое значение: земля здесь контрастна данному в начале произведения образу неба и составляет вместе с ним единую пространственную линию вертикали смысла. Вместе с тем финал семантически амбивалентен: оживающая фреска – в духе романтических представлений о реализации изображения, в духе средневековой иконологии – столько же распахивает себя навстречу новой реальности, сколько и вбирает эту последнюю в себя, так что онтологические зеркала высшего дуxoвного смысла множатся и отражают друг друга.
Рассматриваемая метафора открывает, однако, и отдельную семантическую перспективу: «земля» может восприниматься в значении страны, Родины, в соответствии с более архаическим словоупотреблением, следы которого заметны, например, у Гоголя: «Но Россия такая чудная земля»[870]870
Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 3. М., 1977. С. 43.
[Закрыть] или «Сицилия, – хорошая это земля Сицилия?».[871]871
Там же. Т. 4. С. 114.
[Закрыть]
Свойственная Пастернаку «плавающая» и окказиональная (почти всегда в результате не задания, a «случайно» данного) семантизация отдельных слов и выражений, основывающаяся не на логических или паралогических связях между предметами, а на связях самых отдаленных и опосредованных, сугубо субъективированных – «Высокое, как в дальнем плаваньи», «Земля гудела, как молебен», «бушует, а не снится», «птиц оргии» – в данном случае заставляет говорить не только о футуристической неосемантизации и неологизации в духе Маяковского и Хлебникова, из которой вышел ранний Пастернак, но и – через посредство романтика-славянофила Хомякова – обращает к свободному словоупотреблению зачинателя русского романтизма Жуковского, словоупотреблению, подчеркнутая субъективированность которого была превосходно раскрыта Г. А. Гуковским[872]872
См.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
[Закрыть]. В то же время Пастернак в этом приеме оставляет за собой право на парадоксальную наивность и весьма зыбкую (не до конца отрефлексированную) тематизацию семантического смещения.
Сюжетным коррелятом этого процесса в стихотворении выступает неожиданное, безо всяких пояснений, смешение советских реалий, главной из которых выступает идеологизированный топоним «Сталинград», с реалиями традиционально-русскими. Эта неожиданная и своеобразаная «эклектика» является плодом не столько рефлексии, сколько веры и чувства, она призвана выразить ощущение духовного моста, возникшего на месте зияния между российским прошлым и настоящим.
В свете указанного наполнения метафора «переходимых» «границ земли» на историко-поэтологическом и интертекстуальном уровне обнаруживает свое предшествие в трагедии А. С. Хомякова «Ермак». Ср. восклицание о Ермаке Мещеряка:
Эти слова будто подхватываются далее в монологе самого Ермака:
Слово-образ «родина» непосредственно упоминается Пастернаком в десятой строфе стихотворения («И родина, как голос пущи»); что с неизбежностью подтверждает наличие аллюзии на трагедию Хомякова. Так агиографическая параллель обогащается менее явной, но от этого не менее важной трагедийной параллелью, усложняя внутренний сюжет «Ожившей фрески» и наращивая глобальный религиозно-эстетический план восприятия событий. Это наблюдение подтверждается связью «Ожившей фрески» с незавершенной трагедией Пастернака о Великой Французской революции, где Сен-Жюст также ассоциируется с Георгием Победоносцем[875]875
См.: Баевский В. С. Б. Пастернак-лирик. Основы поэтической системы. Смоленск, 1993. С. 88.
[Закрыть]. Так анамнезис, почти в духе Аристотеля, раскрывается как «узнавание» – себя и мира своей сущности и своего места в мире — с поправкой на христианскую интериоризацию.
Отсылая к начинающему стихотворение образу сталинградского неба, метафора расходящихся границ земли не только сводит ураническое и хтоническое в единую линию, задавая параметры макрокосма, но и придает ему специфический русский колорит, который начал особенно занимать Пастернака в военные годы, выступать частью его новой программы, не чуждой некоторых положений славянофильства.
В хомяковскую стилизацию под архаизм («прешел»), связываемую с образом родных пределов, был также заложен момент прославления героя – бывшего разбойника, ставшего завоевателем и расширителем границ России.
Трагедийная раздвоенность хомяковского Ермака находит свое развитие в гармоничной христианской цельности пастернаковского воина, однако, цельности, находимой и обнаруживаемой через серию разворотов мистического анамнезиса. В то же время остается большим вопросом доступность и близость «анамнезиса» «своим» – тем простым советским бойцам, рука об руку с которыми сражается пастернаковский герой. Поэт оставляет воина по существу в состоянии экстатического отъединения от окружающих, чей мир не раскрыт. Однако фигура воина при этом крайне универсализируется, его личность расширяется до крайних степеней, оставляя вопрос о единении в «анамнезисе» в стороне.
Ермак у Хомякова нарочито маркирован как выходец из простонародья, что особо подчеркивается присутствием в его прошлом окружении двух лиц, благодаря которым он совершает свою самоидентификацию в качестве трагического героя – образами отца и возлюбленной, перед которыми протагонист испытывает некую вину. Их фигуры облагорожены в самой своей сниженности, в них есть нечто мещанско-лубочное – отсюда в «Ермаке» элемент мещанской трагедии. Вместе с тем по глубине переживаний и страстей они поднимаются вровень с особами высокородными. Это, а также особая миссия Ермака делают его в конечном счете исключительной личностью. Другой способ возвышения Хомяковым фигуры Ермака – постоянные сопоставления с личностями заведомо, изначально значительными: царем, шаманом. Благодаря им Ермак окончательно уверяется в своей миссии, и именно они, а не отец и возлюбленная, играют главную роль в самоидентификации протагониста, являясь своеобразными проекциями его личности, в горизонте властно-жреческого ореола которых он осознает собственную самость воителя. Рылеев же в своей думе тенденциозно разведет фигуры царя и Ермака в стороны, именно на первого возложив вину за гибель героя, который значителен сам по себе, вне соотнесения с монархом.
A. Н. Радищев в заметках о Ермаке говорил о том, что благородство фигуры Ермака несколько умаляют моменты, когда он чувствует себя завоевателем[876]876
Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 168.
[Закрыть]. Не так у Хомякова. Здесь Ермак – исполнитель царской воли, миссионер-христианин (хотя это последняя функция у Хомякова не так очевидна), не столько завоеватель, сколько защитник рубежей и свободы России.
Проблема трагического героя становится у Хомякова проблемой самоидентификации, осознания Ермаком своей самости и предназначения. Герой Пастернака приходит к самости не через внутреннюю борьбу и искупление некоей вины, что в духе Аристотеля вкладывал в схему своей трагедии Хомяков, – хомяковское произведение построено на очень жесткой логической схеме, – a через свободное и легкое припоминание. Миссия героя «Ожившей фрески» самораскрывается чудесным способом. Христианизация контекста пастернаковского стихотворения приводит к благостному самоузнаванию героя, самоидентифицирование раскрывается как дарование благодати вместо трагедийного катарсиса «Ермака»[877]877
О связи между благодатью и катарсисом, а также между трагедией и мистерией см.: Шульц С. А. Историческая поэтика драматургии Л. Н. Толстого (герменевтический аспект). Ростов н/Д, 2002. С. 73, 99.
[Закрыть]. Так в «Ожившей фреске» проступают элементы мистерии, духовной драмы, в силу христианского контекста действия и интриги присущие, впрочем, и хомяковскому «Ермаку»[878]878
См.: Карушева М. Ю. «Ермак» А. С. Хомякова как мистериальная драма: Опыт лексико-семантического комментария // Христианство и русская литература. СПб., 1996. Сб. 2. С. 108–127.
[Закрыть]. Мистериальный контекст ляжет в основу и «Стихотворений Юрия Живаго», где фигура святого Георгия, «вместе с Христом и Гамлетом»[879]879
Баевский В. С. Б. Пастернак-лирик. С. 89.
[Закрыть], также выступает моментом самоопределения персонажа.
Хомяковский интертекст у Пастернака, обращающий не только к фигуре воина-защитника, но и к фигуре собирателя русских земель, апеллирует также к древнему образу «Святой Руси», который был значим для славянофилов и который явился результатом универсализации форм родовой, национальной жизни, их расширения до всемирных размеров; как известно, «Святая Русь» больше непосредственных географических пределов России и призвана выразить мировую роль и предназначение православного христианства как религии, выражающей, по мнению славянофилов, сущность русского самосознания. В этой связи особенно выразительна пастернаковская строка «О, как он вспомнил» (вместо ожидаемого «что он вспомнил») – личное припоминание героя оказывается тождественным восстановлению полноты художественно-исторической памяти в целом.
Космо-природное значение «земли» в конечном счете сливается у Пастернака со значением переносным («родина»), знаменуя предельную, «вселенскую» универсализацию «родного», если вспомнить выражения Вячеслава Иванова. Так славянофильская идея «особой стати» России находит в пастернаковском стихотворении свое преломление. Пастернак по сути предвещает в «Ожившей фреске» и дальнейшее дело воителя – освобождение от фашизма Европы[880]880
Здесь, разумеется, речь идет о русском воине вообще.
[Закрыть], ее своеобразное «приращение» к России – «Святой Руси».
Более отдаленным фоном хомяковского присутствия в «Ожившей фреске» является обсуждавшаяся в разгар Великой Отечественной войны – и в эмиграции, и в стране – проблема сохранения преемственности между дооктябрьской Россией и Россией советской. Указанная проблема стала в то время фактом общественного сознания и вместе с тем картой, которую разыгрывал Сталин в собственных политико-идеологических целях. Демонстративно-чудесно сглаживающее острые углы и утверждающее не только непрерывность, но и полноту связи времен, вплоть до их распахивания в будущее, которое «чудесно» и, надо думать, в понимании автора минует советский эпизод русской истории, пастернаковское стихотворение вносит свой парадоксальный вклад в обсуждение этой проблемы.









































