Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
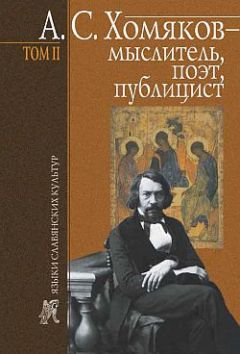
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 51 страниц)
Начав с «Письма в Петербург о выставке», Хомяков регулярно, каждый год, пишет статьи, в которых как центральные или в числе других вопросов рассматривает проблемы искусства. В 1844 году он публикует статью «Жизнь за царя», где отмечает бедность современной художественной критики и отсутствие в ней глубины мысли. Хомяков называет авторов литературных и музыкальных произведений, представивших «новые живые формы, полные духовного смысла», Н. В. Гоголя и М. Ф. Глинку. В живописи и зодчестве подобных имен он только ожидает, не связывая своих надежд ни с какими конкретными лицами.[554]554
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 70.
[Закрыть]
Однако намек на одного такого художника прозвучал уже в следующей статье «Письмо в Петербург», в которой Хомяков, критически относясь к подражательности современного ему русского искусства, отметил слух о некоем живущем в Европе русском художнике, «исполненном жара и любви», который «готовит нам новую школу»[555]555
Там же. С. 78–79.
[Закрыть]. Сам автор прямо не высказывался, насколько справедливо это мнение и затруднялся определить те художественные формы, «в которые должно со временем вылиться богатство русской мысли и русского чувства»[556]556
Там же. С. 82.
[Закрыть]. В другой своей статье «Мнение иностранцев о России» в 1845 году он тверже выразил надежду на «свободное художество», которому предстоит преодолеть раздвоенность русского сознания, соединив в себе «жизнь и знание». Наконец, в статье 1848 года Хомяков позволил себе более прозрачный намек[557]557
Статья предназначалась к публикации в журнале «Москвитянин», но была не пропущена цензурой и увидела свет лишь после смерти автора под редакторским заглавием «По поводу Гумбольдта».
[Закрыть]. Он связал с будущим русской живописи «имя, некогда блестевшее в ее летописях основанием иконописной школы»[558]558
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 220
[Закрыть].
Художником, которого Хомяков подразумевал, был Иванов. Хомяков никогда не встречался с ним, но они имели много общих знакомых и немало слышали друг о друге. Живописец с глубоким интересом относился к деятельности общества, дарил ему свои работы, высказывал рекомендации по подбору педагогов, а в ответ на приглашение самому стать преподавателем выразил надежду быть полезным для МХО позднее, когда придет время вернуться ему на родину.
Деятельность общества тем временем продолжалась и расширялась. Устав 1843 года, помимо права на проведение выставок, закрепил за МХО возможность разыгрывать в лотерею представляемые на них произведения. Это было важно для пополнения бюджета училища и поддержки молодых художников. Однако после утверждения устава прошло полтора года, прежде чем в училище состоялась первая публичная выставка.
Организатором этой выставки явился именно Хомяков. Судя по протоколу заседания Совета от 19 февраля 1845 года, первоначально ее открытие планировалось на 14 марта. Совет поручил Хомякову: «Приготовить и распорядить к тому времени, при помощи гг. преподавателей, все нужное для выставки и равно составить объявление об оной для припечатания в “Ведомостях”, произвести раскупку картин, назначенных в лотерею, сделать форму лотерейных билетов и все сие сообщить Совету заблаговременно, дабы можно было троекратно припечатать в “Ведомостях” к назначенному времени объявление»[559]559
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 83–83 об. Объявление о выставке было опубликовано в «Московских ведомостях» в № 26–28 от 1, 3 и 6 марта 1845 года (С. 172, 180, 188).
[Закрыть]. Судя по всему, Хомяков выполнил все порученное ранее назначенного срока и выставка открылась не 14, а 5 марта. Она действовала в течение двух недель, и бесплатный доступ на выставку был разрешен всем сословиям.
Хомяков писал, что число посетителей выставки оказалось «довольно значительно»[560]560
ОПИ ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 16. Л. 94.
[Закрыть], а в Отчете МХО за тот год обращалось внимание на «беспрерывное стечение публики», которое «показало участие ее к трудам училища»[561]561
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 3. Ед. хр. 7. Л. 21 об.
[Закрыть]. Как отмечали Хомяков и другой член Совета Шевырев, с помощью выставки училище «познакомило столицу с своими учениками и их произведениями, что конечно усилило доверенность к себе и к своей деятельности»[562]562
Там же. Ед. хр. 1. Л. 48 об. Подготовленный Хомяковым черновик этого отчета находится среди документов его личного фонда в ОПИ ГИМ (Ф. 178. Ед. хр. 16. Л. 94).
[Закрыть]. Публике в тот раз было представлено 196 произведений, из них 189 – работы учеников училища или художников, получивших в нем образование. Благодаря устроенной на выставке лотерее МХО получило в оборот около 1800 рублей серебром.
Опыт Хомякова был признан успешным, и в отчете Общества проведение выставки и лотереи отнесено к числу важнейших событий 1845 года[563]563
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 3. Ед. хр. 7. Л. 23 об.
[Закрыть]. Не удивительно, что устройство следующей художественной выставки с лотереей было опять поручено Хомякову, но на этот раз вместе с Шевыревым.
Интересно, что готовиться к будущей выставке Хомяков и Шевырев начали за полтора года до вернисажа, летом 1845 года. Свои предложения на этот счет они изложили перед Советом еще в июне и обратили внимание на то, что «Училище нуждается в хороших оригинальных картинах для копирования». Поставив вопрос, они тут же предложили и путь его решения: «Не может ли Совет от себя походатайствовать доступ к картинам, находящимся у князя Сергея Михайловича Голицына, в галерее [Н. С.] Мосолова и других?»[564]564
Там же. Ед. хр. 1. Л. 48.
[Закрыть]. Очевидно, именно так была решена эта проблема: известно, что по окончании выставки 1846–1847 годов Советом были куплены для училища четыре лучшие копии с картин, находившихся у князя С. М. Голицына.[565]565
Устав Московского художественного общества. С. 27–28.
[Закрыть]
Эта выставка привлекла особое внимание московской публики. Она открылась 29 декабря 1846 года светским праздником с фуршетом, бальной музыкой и лотереей. Только в тот вечер было продано 232 билета по 1,5 руб. серебром и «многие из присутствующих поступили в действительные члены Московского художественного общества»[566]566
Московский городской листок. 1847. № 2. С. 7 (3).
[Закрыть]. Выставка, первоначально рассчитанная на две недели, продолжалась до 21 января. На ней было представлено 274 ученических произведения. По окончании выставки 24 живописные работы и 5 рисунков были переданы на выставку в Императорскую Академию художеств.
Выставка 1846–1847 годов, как и предыдущая, являлась одной из первых в Москве публичных художественных выставок. Кажется, это было последнее серьезное дело, проведенное Хомяковым в качестве члена Совета. Весной 1846 года в письме к другу и члену МХО Ю. Ф. Самарину у Хомякова вырвалось: «Скажите, подумайте, как взяться за искусство? Меня наша школа доводит до отчаяния, хотя идет она и не дурно для бестолковой публики»[567]567
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 267.
[Закрыть]. Вся полнота обстоятельств, стоявших за этими словами еще нуждается в исследовании. Однако некоторые предположения можно высказать. Отношения внутри МХО были не лишены противоречий, вызванных различием эстетических позиций и связанных с ними подходами к преподаванию. Вспомним хотя бы ситуацию с распределением обязанностей внутри Совета в 1843 году или с подбором преподавателей в 1844. Другие случаи серьезных, носящих принципиальный характер конфликтов внутри МХО приводит С. С. Степанова. Например, уход из училища преподавателя живописи Ф. С. Завьялова (за которого по-особому переживал Иванов) в результате споров, возникших с некоторыми членами Совета. Как указывает С. С. Степанова, Хомяков и Шевырев пытались тогда смягчить конфликт и отсрочить отставку талантливого художника и преподавателя[568]568
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. С. 70–71.
[Закрыть]. Она отмечает также, что Н. А. Рамазанов, скульптор и деятельный член МХО уже в 1850–60-е годы не по-доброму иронизировал над Хомяковым, который «однажды предлагал живописцу такую тему: написать мужика, думающего о бессмертии души!».
Вероятно, это была тема «Старик, сидящий у моря и размышляющий о бессмертии души».[569]569
Там же. С. 210–211. С. С. Степанова ссылается на «написанный не без участия Рамазанова» фельетон С. Калошина в журнале «Зритель общественной жизни, литературы и спорта», подписанный «Не я» (1863. 22 июня (№ 24). С. 768).
[Закрыть]
Причины горького скепсиса Хомякова по отношению к деятельности МХО проясняются в его публицистике того времени. Летом 1846 года Хомяков работал над статьей «О возможности русской художественной школы», где подчеркивал мысль о том, что без любви, без идеала искусство превращается в ремесло. Он показывал в ней нелепое, лишенное оригинальности искусство, возникающее, когда «профессор может сказать ученику или богач своему подрядчику: “Напиши победу Александра Невского над шведами”, – и ученик или подрядчик напишет русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее рыжих или русых молодцов. Он может сказать: “Напиши победу Пожарского над Литвою”, – и опять ученик или подрядчик напишет русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее русых или черноволосых молодцов». «Но во всем этом нет и признака художества, ото всего этого веет могильным холодом, – заключал Хомяков. – Только в живом общении народа могут проясниться его любимые идеалы и выразиться в образах и формах им соответственных»[570]570
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 157.
[Закрыть]. Нетрудно предположить, что подобные отношения профессора и ученика Хомяков наблюдал в столь близком ему училище живописи и ваяния.
Эта статья появилась в «Московском ученом и литературном сборнике на 1847 год», увидевшем свет в марте того года. А 13 апреля, судя по «Журналу торжественного собрания Московского художественного общества», Хомяков при очередном переизбрании Совета МХО, вышел из него.[571]571
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 3. Ед. хр. 8. Л. 8. С. С. Степанова ошибочно датирует выход Хомякова из Совета МХО 1857 годом.
[Закрыть]
Сказанные весной 1846 года слова о «бестолковой публике» нашли себе подтверждение в новых обстоятельствах, показавших отношение современников к инициативам МХО. Проявились они незадолго до выхода Хомякова из Совета общества. Еще при образовании Художественного класса в числе намеченных им задач были названы устройство библиотеки, публичного музея или галереи и мастерской «для дам». Полноценной библиотеки у училища при жизни Хомякова так и не появилось, а вот возможность к открытию галереи представилась в 1846–1847 годах, когда на продажу была выставлена обширная коллекция рисунков западноевропейских мастеров, происходившая из собрания екатерининского вельможи князя М. М. Голицына, а в последнее время принадлежавшая князю А. И. Долгорукову, скончавшемуся в 1840 году. Ее составляли графические работы Рафаэля, Перуджино, Микеланджело, Рубенса, Корреджо, Ван Дейка, Хольбейна и других выдающихся художников. Когда представилась возможность приобрести эту коллекцию для МХО, его члены попытались организовать сбор средств по подписке, но потерпели неудачу – вместо 300 необходимых для этого участников нашлось всего 18. Между тем создание галереи рисунков могло бы послужить великолепным средством для развития художников и «было бы как бы новым основанием училища»[572]572
Московский городской листок. 1847. 21 января (№ 17). С. 70. Через неделю этот текст был перепечатан в газете «Московские ведомости» (28 января (№ 12). С. 91–92). Автор рассказа о коллекции, призывавший приобрести ее для училища, неизвестен. Однако стоит отметить, что в «Московском городском листке» помещали публикации несколько членов МХО, в том числе Хомяков.
[Закрыть]. Ю. Ф. Виппер датирует попытку приобрести коллекцию 1846 годом.[573]573
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 54 об. Ссылаясь на него, эту же дату приводит и Я. В. Брук (БрукЯ. В. Из истории художественного собирательства в Петербурге и Москве в XIX в. // Государственная Третьяковская галерея: Очерки истории. 1856–1917. С. 48).
[Закрыть] Однако из публикаций в московских газетах видно, что эта история не завершилась и в начале 1847 года.
Другое намеченное МХО дело – открытие женской живописной мастерской. Ее правила были тщательно разработаны Советом общества еще в начале 1846 года, а на 3 марта 1847 года было назначено ее открытие[574]574
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 5 об. – 6.
[Закрыть]. Однако и это предприятие потерпело неудачу, так как не нашло отклик у тогдашней публики. Таким образом, к весне 1847 года у Хомякова было немало поводов ощутить, что возможности МХО ограничиваются не только и не столько его финансовыми средствами, но и довольно скромными художественными интересами современного общества.
Однако проблема органичного воспитания (именно воспитания, а не образования) художественного таланта не оставляла Хомякова-публициста. Он обращается к ней вновь осенью 1848 года. В статье «По поводу Гумбольдта» Хомяков не без сожаления описывает «благородные школы», которые, будучи основаны «просвещенной любовью к искусству», превращают обучение молодых людей в многолетний, самодостаточный процесс отработки техники – «бесконечное рисованье и лепление глазков, носиков, лиц, тел и групп» и усвоения «чужой, когда-то жившей мысли».[575]575
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 212.
[Закрыть]
Осуждая подобный путь обучения, Хомяков убеждает, что подлинное искусство доступно для русского художника «единственно во столько, во сколько он живет в полном согласии с жизненным и духовным бытом» своего народа. Потому воспитание и развитие художника, как пишет он, «состоят только в уяснении идеалов, уже лежащих бессознательно в его душе».[576]576
Там же. С. 213.
[Закрыть]
После этого становится очевидно, что противоречие между взглядами, на которых основывалась принятая в училище практика, и тем, что исповедовал сам Хомяков, не могло не отразиться на его деятельности в обществе. Если в описанной им картине «бесконечного рисования и лепления» можно увидеть критику черт педагогической системы, принятой в Академии художеств, то спустя годы он был склонен отмечать в ней скорее достоинства, чем недостатки.
В статье «Об общественном воспитании в России», подготовленной в 1850 году, Хомяков рассуждал: «Обобщение делает человека хозяином его познаний; ранний специализм делает человека рабом вытверженных уроков. <…> Так, несчастный ученик ремесленно-художественной школы, век свой трудившийся над рисованием орнаментов, никогда не нарисует и не придумает того затейливого орнамента, который шутя накинет в одно мгновение рука академика, никогда не думавшего о сплетении виноградных и дубовых листьев»[577]577
Там же. С. 227.
[Закрыть]. Здесь критика Хомякова приобретает более понятную цель, чем в статье 1848 года, хотя автор и сохраняет принципиальное неприятие рутины «бесконечного рисования и лепления».
Нельзя категорически утверждать, что в словах Хомякова о «ремесленно-художественных школах» отразились именно и только реалии Московского училища живописи и ваяния. Слишком резкими кажутся эти слова, да и училище это к тому времени претендовало на более серьезный статус. Однако нельзя исключать, что хомяковский скепсис, хотя бы отчасти, вызван различием между тем, как он сам мыслил художественное образование, и тем, как его организовывали в Училище.
Выйдя из Совета МХО, несколько отдалившись от его дел, Хомяков не порвал с обществом и до конца жизни оставался его членом[578]578
С. С. Степанова ошибочно полагает, что Хомяков вышел из состава МХО в 1857 году (С. 134, 249). Однако как почетный член общества Хомяков был свободен от уплаты ежегодных взносов и не имел причин к демонстративному разрыву с МХО.
[Закрыть]. Как отмечает С. С. Степанова, в 1855 году он вместе с Шевыревым предложил для программной работы тему «Русая коса» (по мотивам русской песни). Вспомнив предложенную Хомяковым тему «Старик, сидящий у моря и размышляющий о бессмертии души», можно заключить, что пусть не так активно, как прежде, но и в 1850-е годы Хомяков стремился влиять на ход обучения в училище.
Общаясь со многими художниками, Хомяков никогда не брался за перо с целью выразить свои представления о чьем-либо творчестве. А ведь только в стенах общества он встречался с К. П. Брюлловым (1836), П. А. Федотовым (1850), И. К. Айвазовским и Ф. И. Иорданом (1851).
Однако когда в 1858 году Иванов вернулся в Петербург со своей картиной «Явление Мессии» («Явление Христа народу»), Хомяков, едва оправившись от болезни, поехал туда только ради встречи с художником и его полотном. Он был необыкновенно рад этому знакомству. Уже на второй день Хомяков поделился с живописцем намерением написать статью о его шедевре[579]579
Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. С. 613.
[Закрыть]. Статья «Картина Иванова» вышла в свет в 3-м номере славянофильского журнала «Русская беседа» за 1858 год (уже после смерти Иванова) и явилась самой глубокой, обобщающей и едва ли не последней работой Хомякова в области художественной критики.
В 1859 году Хомяков приобрел у М. П. Боткина 14 живописных произведений Иванова[580]580
См.: Собко Н. П. Словарь русских художников <…> с древнейших времен до наших дней (XI—XX вв.). СПб., 1895. Т. II, вып. 1. С. 270–283. По оценке П. И. Нерадовского (который будучи хранителем Художественного отдела Русского музея пытался приобрести для него находившуюся у наследников Хомякова коллекцию Иванова), это собрание «после боткинского было самое значительное частное собрание картин Иванова как по содержанию, так и по количеству» (ВА ГРМ. Ф. 128. Ед. хр. 20. Л. 91). Подавляющее большинство их ныне находится в собрании Государственной Третьяковской галереи.
[Закрыть]. Но это уже другая история, прямым образом не связанная с деятельностью автора в МХО.
Следует отметить, что после смерти А. С. Хомякова примеру его последовал старший сын Дмитрий[581]581
О нем см.: Загорская С. Г. Коллекционер Дмитрий Алексеевич Хомяков // Частное коллекционирование в России: Мат-лы науч. конф. «Випперовские чтения – 1994». Вып. XXVII. М., 1995. С. 150–159.
[Закрыть]. Знаток искусства, коллекционер, меценат, член комитета по преобразованию Императорской Академии художеств, он в 1891 году стал членом Совета МХО, а в 1894 его почетным членом. Д. А. Хомяков подчеркивал, что относится к участию в делах МХО как к важной семейной традиции, связанной с памятью о его отце – одном из основателей общества.[582]582
Там же. С. 152–153.
[Закрыть]
Вероятно, именно тесные отношения Хомякова с МХО дали повод к суждениям искусствоведов о влиянии славянофилов на деятельность МХО и его училища.[583]583
Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния. С. 49–50, 54–56. С. С. Степанова в связи с этим отмечает работы Н. Ю. Зограф (С. 202, 211), Н. Н. Коваленской, М. М. Алленова и Д. В. Сарабьянова (С. 202).
[Закрыть] С. С. Степанова сомневается, что это влияние было последовательно и целенаправленно[584]584
Там же. С. 50.
[Закрыть]. Добавим, что под таким влиянием стоит понимать воздействие не столько идей, сколько настроений, отражавших лишь общий пафос этих идей. Ведь далеко не все предложения Хомякова находили сочувствие среди членов общества. Но то влияние, которое все же проникало в среду МХО со стороны славянофильства, является заслугой Хомякова не только потому, что он был единственный из славянофилов, занимавший в Обществе ответственное положение[585]585
Рядовыми членами МХО являлись Д. А. Валуев, умерший в 1845 году, и Ю. Ф. Самарин, вышедший из него по собственному желанию в 1848 году.
[Закрыть], но и потому, что Хомяков – единственный из славянофилов, кто сформировал и выразил глубокие, концептуальные взгляды на проблемы изобразительного искусства.
Принятые сокращения
АГЭ – Архив Государственного Эрмитажа
ВА ГРМ – Ведомственный архив Государственного Русского музея
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного Исторического музея
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
Е. О. Непоклонова
Мир как общение в поэзии А. С. Хомякова
На протяжении почти двухвековой истории изучения наследия А. С. Хомякова сложилась устойчивая традиция рассматривать его творчество как единое целое. Стало общепринятым выявление сквозных идей, проблем и мотивов, объединяющих богословие, публицистику, историософию и поэзию автора. Данная установка подкрепляется обычно ссылками на своеобразие личности Хомякова, ее особую внутреннюю цельность, удивлявшую еще современников и первых биографов.
Действительно, для Хомякова характерна оригинальная внутренняя спаянность всех сфер мыслительной, духовной деятельности, в результате чего он в богословии и историософии предстает поэтом, а в поэзии сохраняет религиозное вдохновение и глубину исторических обобщений, при этом откровенно признаваясь, что его поэзия «держится мыслью».
В любом своем сочинении он обнаруживает себя всецело, часто не считаясь с ограничениями и условностями, существующими в рамках конкретных дисциплин, областей творчества, литературных жанров, что неоднократно вызывало недоумения современников и обвинения в дилетантизме. Вместе с тем глубинные взаимосвязи между богословием, историософией, поэзией и другими сферами творчества А. С. Хомякова далеко не всегда существуют на уровне явно высказанных идей, концептуальных построений и поэтических деклараций. Не случайно попытки выявить сквозные идеи или понятия, объединяющие все творчество автора, зачастую приводили исследователей в тупик. Это относится прежде всего к исследованиям соборности как идеи, концепции, проходящей через все творчество А. С. Хомякова. Парадоксальным образом игнорируется тот факт, что понятие соборности принципиально не употребляется Хомяковым за пределами богословских сочинений, причем он предпочитает форму прилагательного – соборный (или кафолический). В связи с этим следует подчеркнуть, что внутренние связи различных сфер творчества Хомякова следует искать не столько на уровне вербально выраженных понятий, идей, теоретических построений, сколько на уровне тех мыслительных структур и личностных смыслов автора, которые организуют внутренний мир его произведений. Особенно актуальным такой подход представляется при рассмотрении соотношения богословия и поэзии Хомякова в контексте его учения о соборности.
Интерес к богословию, и прежде всего учению о соборности Церкви, появляется у Хомякова задолго до создания первых богословских сочинений; в беседах с друзьями, в спорах со своими идеологическими противниками он часто прибегал к богословской аргументации, апеллировал к учению Церкви, пытаясь подчеркнуть актуальность церковного предания при решении насущных вопросов современности. В культурной ситуации того времени, отличавшейся ростом индивидуалистического мироощущения, кризисом традиционализма, церковное учение о соборности казалось Хомякову особенно ценным.
Однако очень рано он осознает сложность, подчас невозможность выражения собственного церковного опыта на языке современной ему культуры. Культурно-языковая ситуация в России, начиная со времен петровских преобразований, отличалась активной экспансией светского языка в область церковной традиции. Это привело к тому, что большое количество богословских терминов, религиозных понятий приобретало новое содержание за пределами традиционной сферы их употребления, в результате чего многие слова, такие, например, как «благодать», «духовный», «святой», «воля», начинали употребляться в «новых контекстах, поэтических, философских, бытовых. В исследованиях В. М. Живова[586]586
Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
[Закрыть] и Б. А. Успенского[587]587
Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М., 1994.
[Закрыть] подробно рассмотрен этот непростой процесс вовлечения понятий, имевших долгое время исключительно богословское содержание, в новые контексты светского творчества в связи с опорой на новоевропейскую традицию конвенционального отношения к языковому знаку.
Хомякову, с ранних лет усвоившему дух и язык церковного предания и вместе с тем столь же органично ощущавшему себя в современной новоевропейской культуре, в определенной мере был очевиден внутренний конфликт, обозначившийся между этими формами духовного, культурного опыта. Он одним из первых осмыслил эту ситуацию конфликтности как проблему, подверг рефлексии характерный для того времени глубокий раскол культуры на «духовную» и «светскую». Однако такая рефлексия в некотором смысле опережала свое время, она еще не могла быть последовательна, всеобъемлюща, не случайно эта проблематика часто приобретала у Хомякова одно лишь социально-историческое измерение, в результате чего оппозиция «светское» – «церковное» накладывалась, часто сливаясь, на хорошо разработанную в те годы оппозицию «дворянское» – «народное». Таким образом, осознание проблем взаимодействия Предания и культуры вовсе не освобождало от зависимости от последней. Религиозно-философская, художественная, а также научная культура в том их своеобразии, которое характерно для первой четверти XIX вeкa, так или иначе предопределяли творческие искания и «направление мысли» не только современников Хомякова, но и его самого.
Для Хомякова эта зависимость предстает в первую очередь как проблема чужого сознания. Он прославился как непревзойденный полемист, однако неспособный переубедить противника, поскольку чаще всего смысл понятий, выражающих его заветные идеи, ускользал от собеседника, переключавшего их в иной культурный контекст. Тем не менее это не мешало Хомякову оставаться постоянно открытым даже к представителям самых чуждых для него убеждений, он сам внутренне нуждался в общении, поскольку именно в интенсивном, глубоко личностном общении видел возможность преодоления барьеров, разделивших церковную и светскую культурные традиции. Тема непонимания, неспособности пережить вместе с другими смысл самых дорогих сердцу «слов», «мыслей» очень рано появляется и в поэзии Хомякова, например, в стихотворении «Как часто во мне пробуждалась…»:
Молил Тебя с плачем и стоном,
Во прахе простерт пред Тобой,
Дать миру и уши, и сердце
Для слушанья речи святой!
Или в «Иностранке»:
При ней скажу я: Русь святая, —
И сердце в ней не задрожит…
То же в стихотворении «Кремлевская заутреня на Пасху»:
Хоть вспомним ли, что это слово – братья —
Всех слов земных дороже и святей?
С данной проблематикой связаны многие особенности стихотворений Хомякова, часто строящихся как поиск и воссоздание искомых, «заветных» слов, со строго заданным смысловым объемом (например, в стихотворении «Вечерняя песнь»), а также особая значимость звукового строя в его произведениях, неожиданные, удивляющие сочетания слов (например, «скажи им таинство свободы, сиянье веры им пролей»). Хомякова не удовлетворял пушкинский метод совмещения в слове различных, часто разнонаправленных, смысловых обертонов, «мерцания смыслов», как, например, в стихотворении «Отцы-пустынники». Он ожидает от поэзии «басовых нот»: прямого выражения национально-религиозных идей в рамках современного ему художественного мышления.
Таким образом, все творчество Хомякова – сложное, часто противоречивое взаимодействие этих двух пластов его культурного и духовного опыта, не всегда соотнесенных, соизмеренных, примиренных друг с другом. Не случайно свое учение о соборности он ограничивает рамками богословского исследования, понимая, что за пределами богословского контекста оно легко может быть подключено к иным культурным кодам. При этом иногда Хомяков даже использует мистификаторские приемы, выдавая, например, свое сочинение «Церковь одна» за древнюю греческую рукопись, тем самым акцентируя внимание на специфике традиции, в рамках которой создан текст и в рамках которой его следует воспринимать.
В своем исследовании соборности Церкви Хомяков весьма смел и оригинален, не связан какими-либо традиционными формулировками. Каждый раз его описание строится заново, возникает изнутри складывающейся ситуации общения с адресатом, полностью сориентировано на сoбeсeдникa и никoгдa не звучит как нейтральное, раз и навсегда выверенное определение, никому лично не принадлежащее.
Наиболее ярко это проявляется в «Письме к редактору “L’Union chrétienne” о значении слов “кафолический” и “соборный”. По поводу речи о. Гагарина, иезуита». В этом письме Хомяков подробно анализирует определения «кафолический» и «соборный», истолкование этих понятий о. Гагариным, сравнивая различные характерные для того времени исследовательские традиции. Так, он обращает внимание на то, что Гагарин как выразитель современной европейской научной традиции пытается вывести из греческого «catholicos» однозначный термин, исходя из аналогий сферы обыденного опыта, в результате чего получает понятие «всемирный», в смысле пространственной принадлежности всему миру, наподобие какого-либо учения или организации. В связи с этим его не может удовлетворить славянский перевод «соборный», поскольку он не дает однозначного соответствия указанному им значению, а значит, не может «выразить смысл слова “кафолический” в полном блеске».[588]588
Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1900. С. 309–310.
[Закрыть]
Гагаринское толкование богословского понятия Хомяков оценивает как в высшей степени «грубое», «рассудочное», на которое способны только «легкомысленнейшие из легкомысленных сынов века сего»[589]589
Там же. С. 310.
[Закрыть]. Он стремится показать несостоятельность его исследовательской установки, подчеркивая, что речь должна идти «о чем-то несравненно высшем», чем все наши определения, «идущие от человеческой случайности».
Продемонстрировав читателю несостоятельность гагаринского метода анализа понятий из сферы церковного опыта, Хомяков обращается к переводческой практике свв. Кирилла и Мефодия (полагая, что именно они перевели «кафолический» словом «соборный»). Развивая свою мысль, он подчеркивает, что святители хорошо знали, что греческое слово «catholicos» можно перевести с помощью слов «всемирный» и «вселенский». Однако, основываясь на собственно церковном смысле греческого понятия, они на славянском языковом материале создают новый образ, способный быть в полной мере адекватным исходному. При этом они не опираются на какие-либо исторически сложившиеся значения славянского слова, а создают новый символ, преобразующий саму исходную этимологию слова. Переводческий прием, называемый ментализацией, характерен исключительно для кирилло-мефодиевской школы; его применение порождалось некоторой творческой дерзновенностью, сопряженной с глубокой укорененностью в церковной традиции. Славянский корень послужил только языковым материалом для создания символического выражения той же реальности, которая в греческом языке передана на основе выражения «cath olon». Таким образом, оба понятия на основе различных образов способны указать на одну и ту же реальность: некую особого рода целостность, увиденную как сообразность всех составляющих частей объединяющему их началу как Целому (кафоличность) или как процесс собирания всех частей в некое таинственное, целокупное единство (соборность). «Они остановились на слове “соборный”, – поясняет Хомяков, – “собор” выражает идею собрания, не обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего потенциально, без внешнего соединения. Это единство во множестве».[590]590
Там же. С. 312.
[Закрыть]
Таким образом, Хомяков противопоставляет две традиции истолкования церковных понятий: выявление однозначных соответствий обыденному опыту (гагаринский подход) и восприятие понятия как символического выражения внутреннего опыта Церкви (кирилло-мефодиевская традиция). «Иначе мыслит Церковь, – возражает Хомяков о. Гагарину в финале письма, – она познает себя не по будущей всемирности, а по другим признакам. <…> Каковы бы ни были судьбы вещественных сил мира, каковы бы ни были движения духовных сил народов <…> присущее Церкви свойство кафоличности все-таки нисколько бы ни зависело от упомянутых условий; это свойство всегда было неизменным и таковым пребудет всегда»[591]591
Там же. С. 310.
[Закрыть]. Понятия «кафолический», «соборный», по Хомякову, описывают внутреннее свойство Церкви, независимое от внешнего мира и его свойств: «Церковь кафолическая есть церковь “согласно всему”, или “согласно единству всех” <…> Церковь свободного единодушия, единодушия совершенного, Церковь, в которой нет больше народностей, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию, нет ни рабовладельцев, ни рабов».[592]592
Там же. С. 312–313.
[Закрыть]
В силу такого восприятия церковных понятий Хомяков оставляет это описание незавершенным, не ограниченным набором каких-то конкретных признаков. Вместо этого намечаются некие опоры для размышления, указывающие на то, в каком направлении следует мыслить о соборном начале Церкви, чтобы не утерять его специфики. Такими ориентирами и являются ключевые слова: «согласно всему», «единство», «единодушие совершенное». Речь идет о некой уникальной реальности общения, в которой оказывается возможным преодоление всех «законов» человеческого разделения: национальных, социальных, культурных, а также автономности индивидуального существования, «личной отдельности», неустранимой при всех иных формах человеческого единства.
При исследовании понятий «кафолический» / «соборный» Хомякову одному из первых в ту эпоху открывается, что новоевропейские идеалы и нормы познания отнюдь не универсальны и не самодостаточны, что они имеют весьма ограниченную область применения и часто нуждаются в восполнении опытом иного рода, восходящим к церковной духовной и интеллектуальной традиции. Сопряжение, соотнесение этих двух исследовательских подходов явилось для него творческой задачей, определившей характер его богословских исследований.
Не менее значимой областью выражения своих заветных «чувств и дум» являлась для Хомякова поэзия, интерес к которой возникает у него столь же рано, как и к богословию. Несмотря на то, что поэзия Хомякова была известна современникам уже в 1820-е годы, а богословские сочинения – лишь в 1840 – 50-e, обе сферы его творчества постоянно были связаны друг с другом тончайшими нитями. В ранней лирике 1820 – 30-х годов Хомяков, как и другие поэты пушкинской поры, ищет свой путь, опираясь на традиции европейского романтизма, причем акцентирует в романтической традиции прежде всего религиозные мотивы, стремясь воплотить в них собственный духовный опыт. Особенно удачными в художественном отношении оказываются, однако, те ранние произведения, в которых он менее всего отступает от традиционных поэтических форм (например, стихотворения «Молодость», «Вдохновение», «Степи», «Элегия»). Когда же стремится проявить большую самостоятельность, нарушая жанрово-стилистические каноны, ему часто не удается сохранить внутреннюю целостность, семантическое единство своих произведений. Постепенно эстетическое чутье позволяет Хомякову осознать невозможность выражения своего мироощущения в рамках традиционных романтических концепций и соответствующей им поэтической семантики. Он обращается к поиску иных художественных принципов, стремясь преодолеть индивидуалистические тенденции романтизма, ввести в поэзию новую проблематику, найти органичное единство темы и стиля. Поэтому постепенно исчезают из его поэзии пантеистические мотивы, уходят на второй план романтическая элегия, любовная лирика как не соответствующие новым исканиям. Для Хомякова сохраняет актуальность лишь национально-патриотическая героика романтизма, на которую он опирается в последующем творчестве.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































