Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
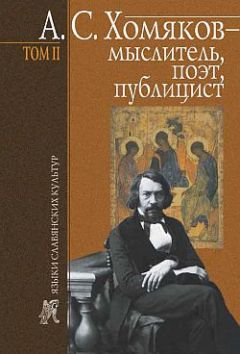
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 51 страниц)
Т. А. Кошемчук
Мир и человек в поэзии А. С. Хомякова: аспекты христианского миросозерцания
Прочтение русской поэзии в контексте православной культуры позволяет выявить истинный смысл и значимость ее художественных достижений. Действительному пониманию поэта способствует исследование не периферийных связей и влияний, но прежде всего взаимодействия с культурной традицией – той почвой, которая определяет основные черты миропонимания поэта. Периферийными и малозначительными для Хомякова являются, например, немецкий идеализм и романтизм, центральным и значимым – православное миропонимание. Как и большинство русских поэтов классической эпохи, Хомяков связан в силу своего рождения, крещения и причастности к литургической жизни Церкви со святоотеческой традицией в целом, поскольку Литургия, тексты которой, как и других служб, знали наизусть с детства, есть ее квинтэссенция. Причастность к традиции определяется и глубинной связью поэта с народным духом, и синэргийной природой творческого процесса, возносящего и приобщающего к духу Предания. С другой стороны, лукавый дух больного времени накладывает на творчество – в той или иной мере – свои искажающие черты. Может быть, из всех поэтов наименее ему был подвержен А. С. Хомяков.
Помимо творческого дара и изначальной, непрерываемой связи со своей духовной традицией, для А. С. Хомякова как поэта-христианина характерно сознательное служение ей. Поэтому творческий мир поэта целен и в его стихах воплощается христианское миропонимание – не во всеобъемлющем масштабе, а в отдельных аспектах, которые вместимы в поэтическую форму. Ведь в целом в иерархии христианских ценностей духовное выше художественного и не всегда может быть выражено образно. Кроме того, поэтическое творчество А. С. Хомякова по своей сути фрагментарно. За сорок лет им было написано около ста стихотворений – так что он не относится к тем авторам, которые всю свою жизнь без остатка переливают в стихи; его поэзия – лишь отдельные свидетельства о его духовной жизни. В стихотворениях А. С. Хомякова нашло выражение восприятие тварного мира, природы и человека, мира высшего, любви и творчества, мистические, молитвенные и пророческие переживания, тема исторических судеб России и Европы – набор тем весьма значительный, вопреки существующему мнению об узости его творчества. Каждой из этих тем поэт посвящает лишь немногие стихотворения, но в каждом из них содержится целая концепция в свернутом виде. Тема России обычно и вполне правомерно оказывается в центре внимания пишущих о Хомякове, другие менее исследованы, и большинство из них в советском литературоведении получали ложную, искаженную интерпретацию.
В целом Хомякову-поэту исследователи уделяли немного внимания. Христианские аспекты его поэтического мира в критике дореволюционной и эмигрантской были затронуты лишь в общих чертах, в советскую эпоху и вовсе замалчивались. К творчеству Хомякова, как и А. К. Толстого, чтобы сделать его хоть в какой-то мере приемлемым для атеистического литературоведения, применялись понятия, ставшие обязательными, но своего рода ложными идолами, – это прежде всего романтизм (Б. Ф. Егоров, Л. Гинзбург). Что касается мира природного, то здесь, как и при оценке творчества Ф. И. Тютчева, акцентируется внимание на пантеизме (И. Сергиевский и Е. А. Маймин в работах о Хомякове; Л. В. Пумпянский, Н. Я. Берковский, Б. Я. Бухштаб, К. В. Пигарев, Б. М. Козырев – о Тютчеве). Если в советскую эпоху в литературоведении тезис о пантеизме поэтов-любомудров был общим местом, то и в настоящее время он – по инерции – сохраняет свою силу. Лишь в последние годы появились работы, в которых указывается на христианское начало в мировоззрении Ф. И. Тютчева[420]420
См., например: Тарасов Б. Н. Тютчев и Паскаль (антиномии бытия и сознания в свете христианской онтологии) // Русская литература. 2000. № 3, 4; Селезнев А. И. Лирика Ф. И. Тютчева в русской мысли второй половины XIX – начала ХХ вв. СПб., 2002.
[Закрыть] и о пантеизме уже не упоминается вовсе или говорится вскользь, но о Хомякове-поэте по-прежнему нет серьезных исследований.
В советскую эпоху духовные темы поэта редуцировались до романтических и пантеистических проявлений, что в действительности являлось христианским. Ни в типе личности, ни в поэзии Хомякова, как и А. К. Толстого, нет ничего романтического, а в восприятии природы Хомяков, как и Тютчев, никогда не был пантеистом.
Доказывая несостоятельность жизненной позиции Хомякова, советские исследователи указывали на противоречивость его личности, принимали за недостаток то, что является глубочайшим свойством христианского миропонимания – напряженный антиномизм как соединение противоречий в высшее единство. Поэты выявляют вовсе не борьбу противоречий в своей душе, а воплощают различные грани единого смысла. Например, в творчестве Хомякова определенную эволюцию претерпевает антиномия гордости как позиции достоинства и мужества среди людей и смирения перед Богом и Его волей. При этом в личности и взглядах поэта не было ни противоречивости, ни борьбы двух начал.
В дореволюционных и эмигрантских статьях о поэзии Хомякова (их немного, они весьма кратки), написанных с симпатией к поэту и его мировоззрению (Г. Князев, П. Матвеев, Б. Глинский, Э. Радлов, Н. Арсеньев, Б. Ширяев)[421]421
См.: Князев Г. Хомяков и граф А. Толстой // Русский вестник. 1901. Ноябрь; Матвеев П. Алексей Степанович Хомяков // Русские поэты. СПб., 1904; Глинский Б. А. С. Хомяков перед судом потомства // Русские поэты. СПб., 1904; Радлов Э. О поэзии Хомякова // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья, почитатели. СПб., 1911; Арсеньев Н. А. С. Хомяков // Грани. 1958. № 38; Ширяев Б. Н. Молитва за землю русскую (Хомяков) // Религиозные мотивы в русской поэзии: Ломоносов – Пастернак. Брюссель, 1960.
[Закрыть], речь идет главным образом о совершенной личности поэта, о его глубокой вере, в стихах же особо выделяется тема России. При этом опровергаются ставший привычным после Белинского тезис об отсутствии дарования у Хомякова и тургеневский отказ видеть в стихах Хомякова хотя бы на грош признаки поэзии. Так, Б. Глинский, обобщая публикации о биографии поэта, о его богословских и даже юридических взглядах (не называя ни одного исследования собственно о поэзии), замечает: «Такое изучение приводит массу читателей к признанию исторической значимости духовного наследия Хомякова, освещает его тем светом правды, которую вольно или невольно, но тщательно скрывали, в интересах полемической борьбы, принципиальные его противники. <…> уже теперь начинает понемногу рассеиваться искусственно напущенный на этого писателя дым и чад русской публицистической литературы узко-тенденциозной окраски». А когда этот дым рассеется, то, по мнению Б. Глинского, Хомяков предстанет «как глашатай высшей правды жизни».[422]422
Глинский Б. А. С. Хомяков перед судом потомства. С. 915.
[Закрыть] Однако предсказание о том, что истинная значимость Хомякова для русской культуры станет очевидной для всех, едва ли сбылось и к нашему времени. Уже на рубеже XIX—XX веков предавалась забвению христианская поэзия и А. К. Толстого, и А. С. Хомякова, неугодных либеральной «публицистической литературе», которая в то время имела силу и замалчивать, и искажать дух творчества поэтов, относящихся к первому ряду русской поэзии, переиначивать и высмеивать их биографии и взгляды с плебейским духом презрения.
Советские критики поддерживали авторитетность мнения Белинского о Хомякове, говорили о рассудочности, надуманности, рациональности стихотворений поэта. Иная точка зрения представлена в статьях В. В. Кожинова, В. Грекова и особенно М. М. Дунаева, в которых акцентируется внимание на христианской основе творчества Хомякова.[423]423
Кожинов В. В. О тютчевской плеяде поэтов // Поэты тютчевской плеяды. М., 1982; Греков В. Стезею нагорною // Поэзия. 1989. № 54; Дунаев М. М. Православие и русская литература. М., 2001. Ч. I—II.
[Закрыть]
В современных исследованиях христианский характер историософских воззрений, проявившихся в стихах Хомякова и Тютчева, не подвергается сомнению в силу совершенной очевидности, однако, будучи христианами в восприятии истории, в воззрениях на природу они, по мнению ученых, оказываются… пантеистами, что алогично по своей сути: невозможно одновременно мыслить Бога как Триединую Личность, Творца мира и как безличного духа, растворенного в природе.
Хомяков и Тютчев как глубокие мыслители не могли смешивать несоединимое. Оба поэта остро ощущали противоположность мира земного и горнего, «двойное бытие» и, конечно, не могли принять имманентизм, присущий пантеизму. Ни один из исследователей при утверждении пантеизма поэтов не опирается на сопоставительный анализ мировоззрений, не приводит развернутой, убедительной аргументации.
При этом отмечается близость как Хомякова, так и Тютчева к немецкой культуре, голословно утверждается влияние ранних натурфилософских работ Шеллинга на русских поэтов. Однако известно, что Тютчев отрицал сам философский подход к христианству, критиковал идеи и позднего, гораздо более близкого ему, Шеллинга[424]424
См., например, мнение В. Ф. Пустарнакова в статье «Основные вехи истории и особенности развития российского шеллинговедения и историографии “русского шеллингианства” в ХIХ столетии»: «Пребывая в Мюнхене и лично встречаясь с Шеллингом, Тютчев доказывал ему невозможность совмещения религии и философии, несостоятельность философских истолкований Шеллингом догматов христианства. <…> Существует точка зрения, согласно которой взгляды Тютчева формировались под влиянием Шеллинга. Но это неверно. Для Тютчева характерно как раз не шеллингианское, не натурфилософское, а теистическое видение природы. В отечественное шеллинговедение он вошел как критик попытки позднего Шеллинга согласовать философию и религию» (Философия Шеллинга в России. СПб., 1998. С. 79).
[Закрыть]. Еще более странной представляется интерпретация творчества Хомякова Е. А. Майминым, наиболее подробно развивавшим мысль о пантеизме поэта, хотя и признавшим, что Хомяков не был шеллингианцем, но все же находившим в его стихах заимствования «шеллингианской образности и символики».[425]425
Маймин Е. А. Русская философская поэзия. М., 1976. С. 55.
[Закрыть]
Большинство советских исследователей в качестве аргумента, подтверждающего пантеизм любомудров, выдвигают то, что они восхищаются природой и обожествляют ее. По-видимому, источником подобного утверждения является незнакомство литературоведов с христианским воззрением на природу. Христианские и пантеистические взгляды на природу расходятся прежде всего в идее тварности мира. Отношение к миру как к дивному и чудному творению Божьему, для разума человеческого свидетельствующему о премудрости Божией, а для сердца и души являющемуся источником красоты, – характерная черта христианского восприятия природы. Согласно христианскому миросозерцанию, природа изначально пронизана божественными энергиями, благодать включена в самый акт творения мира, имеющий своим истоком Божественную Любовь[426]426
Преп. Исаак Сирин пишет: «О, какая глубина богатства, какой великий замысел и какая высокая премудрость у Бога! О, какое сострадательное милосердие и какая благость у Создателя! С какой мыслью и с какой любовью сотворил Он этот мир и привел его в бытие!.. Какая любовь была источником сотворения мира!.. Любовью привел Он мир в бытие; любовью ведет Он его в этом его временном образе существования; любовью Он приведет его к тому чудному изменению <…> в любви заключается исход всей истории существования твари» (Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах и о духовной жизни. СПб., 2003. С. 205).
[Закрыть], а позднее изливается в мир в Христовом воплощении. Человек воспринимает природный мир во всем его многообразии: как свидетельство божественного всемогущества, милости и мудрости[427]427
Свт Григорий Палама: «Ради нас Он простер над всем этим чувственным миром небо, воздвигнув как бы некий общий и для всех в равной мере сущий шатер <…> оно несет с собою и множество звезд, дабы мы и из этого познали мимотечность настоящей жизни. <…> Ради нас, прежде нас Он сотворил великое светило в начале дня, и – меньшее в начале ночи, и установил их, как и прочие звезды, на тверди небесной, дабы они служили нам знамениями. <…> Итак, они созданы ради нас, одаренных <…> ощущением красоты видимого мира, умом же через чувства воспринимающих эти знамения» (Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. М., 1993. Ч. 1. С. 32–33).
[Закрыть], как мир изначально прекрасный, но поврежденный по вине человека грехом и вызывающий чувство жалости и ответственности за него, как мир, призванный к обожению вместе с человеком, как мир, наконец, не самодостаточный, от которого человеческий дух, превосходя природу, устремляется к высшему[428]428
Преп. Иоанн Лествичник: «Блажен тот, кто помышлением о красотах небесных угашает огонь, который возгорается при виде земных красот» (Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица. М., 2002. С. 148).
[Закрыть] – к познанию Творца помимо твари, в сиянии нетварных энергий.
Пантеизм же отождествляет Бога и мир, не приемлет идеи творения, утверждает концепцию вечного порождения природы безличным богом, так что они сливаются в единую субстанцию. Этот подход к природе, как известно, не рождает завершенных концепций, существует лишь как тенденция, и подобное миропонимание несравненно беднее, чем христианское – с его всеобъемлющим характером, драматизмом, напряженностью и высоким упованием.
Ощущение поэтом божественности природы и восхищение ее красотой – отнюдь не подтверждение его пантеизма. Для христианина мир, который может быть источником религиозных переживаний, не рождает религиозного поклонения, он есть мост, ведущий от творения к Творцу[429]429
Человек приходит в мир, по словам св. Григория Нисского, «частию зритель, а частию владыка, чтобы через наслаждение приобрел он познание о Подателе, а по красоте и величию видимого исследовал неизреченное» (Творения святого Григория Нисского. М., 1861. С. 85).
[Закрыть]. Более того, мир видимый с его красотой и гармонией, столь отличный от человеческого с его дисгармонией, может стать и источником искушения: погружаясь в великолепие видимого, человек рискует забыть о невидимом, воспринимая природу, подобно язычникам, телесно, но не духовно[430]430
Как бы споря с язычниками, обращается свт. Григорий Богослов к христианам: «Не надо человеку поклоняться твари, даже небесным телам, ни самому небу, украшенному многими внутренними красотами, этому безмолвно вещающему и вместе велегласному проповеднику того искусства, которое водрузило и гармонически связало эту вселенную, чтобы человек в видимом постигал невидимое. Ибо кто видит великолепный дом, тот представляет себе и соорудившего дом; и корабль есть неговорящий провозвестник о строителе корабля» (Григорий Богослов, свт. Избранные слова. М., 2002. С. 225–226).
[Закрыть]. Это искушение оказывается особенно опасным для поэтов. Не вполне свободны были от него и Тютчев, и даже Хомяков.
В стихах Хомякова нет намека на то, что природа тождественна Богу или Бог природе. Для Тютчева Бог именно Творец мира, всемогущий и милосердный, а мир земной природы – это прежде всего мир тварный. В поэзии Хомякова также Бог – «Творец вселенной» («На сон грядущий», 1831), мир земной – «творенье» («Поэт», 1827; «Сон», 1826), «Божий мир» («Степи», 1828), «Божий свет» («К***», 1832). В стихотворении «По прочтении псалма» (1856) Хомяков, как и многие русские поэты, создает дивный гимн творческой силе Бога в духе ветхозаветной возвышенной поэзии:
Я создал землю, создал воды,
Я небо очертил рукой;
Хочу, и словом расширяю
Предел безвестных вам чудес;
И бесконечность созидаю
За бесконечностью небес…
<…> Не Я ль светила
Зажег над вашей головой?
Не Я ль, как искры из горнила,
Бросаю звезды в мрак ночной?
Мир природный, сотворенный Богом, прекрасный и стройный, свидетельствует о мудрости и благости Творца. В раннем стихотворении «Степи» (1828) также выражено безусловно христианское отношение к природе:
Куда ни взглянешь – нет селенья,
Молчат безбрежные поля,
И так, как в первый день творенья,
Цветет свободная земля.
Такой мотив характерен для христианского мировосприятия: мир, только что вышедший из Божьих рук, был, по слову Библии, хорош, не был поврежден злом. Так, для Тютчева звездное небо сохраняет свою первозданность («Таинственно, как в первый день созданья, / В безмолвном небе звездный сонм горит»), для Хомякова же чувство первозданности природы особенно остро переживается в степи, в ее просторах, где нет человека, искажающего мир своим вмешательством: «Там не пресек ее межами / Людей бессмысленный закон, / Людей безумными трудами / Там Божий мир не искажен». Поэт-христианин восхищается тем, что напоминает о мире, каким он был сразу же после его создания Творцом[431]431
«Смотрите, какая картина, – говорил преп. Варсонофий Оптинский, указывая на луну, светящую сквозь деревья. – Это осталось нам в утешение <…> хотя это только намек на ту дивную, недомысленную красоту, которая была создана первоначально. Мы не знаем, какая тогда была луна, какое солнце, какой свет… Все это изменилось по падении» (Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Изд. Введенской Оптиной пустыни, 2003. Т. 2. С. 163).
[Закрыть]. Мир, только что сотворенный Богом, изображается в стихотворении «Поэт»: «Все звезды в новый путь пустились, / Рассеяв вековую мглу, / Все звезды жизнью веселились / И пели Божию хвалу». Хвала Богу – это состояние природы, каждой ее сущности. Мысль поэта в полном согласии с патристической традицией – по воле Божьей человек тоже обретает голос для хвалы.
Говоря о пантеизме Хомякова, обычно ссылаются на два его стихотворения 1827 года: «Желание» и «Молодость». В первом из них выражено желание поэта раствориться в природе. Подобное стремление Тютчева погрузиться душой в природную жизнь интерпретируется обычно как проявление его атеизма, пантеизма, язычества, однако это не состояние язычника, но именно искушение христианина: жажда покоя, угашения личного сознания и растворения в мире связана с усталостью души от бед и страданий – природа же сулит мнимое успокоение. У Хомякова в юные годы желание слиться с каждым проявлением бытия созвучно с ликующей радостью молодости, с бесконечной любовью к каждой сущности мира. Бытие в этом стихотворении представлено иерархически (как и в пушкинском «Пророке»), и все его сферы близки душе поэта, все в мире вызывает его восторженную любовь: небо, солнце и звезды, глубина моря – верхняя и нижняя сферы; тучи, туман, холмы, птицы и цветы – в дольнем мире; светлые земные лики («жизнь и радость») и грозные стихии («громы, вихри, непогоды»). Радость переживания жизни природы высказана в этом стихотворении, может быть, излишне, по-юношески восторженно:
Хотел бы я разлиться в мире;
Хотел бы с солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь.
Хотел бы зыбию стеклянной
Играть в бездонной глубине.
Сходство с «Пророком» Пушкина, написанным почти в то же время, что и «Желание», лишь в воссоздании разных сфер мироздания и, конечно, фрагментарно. У Хомякова эмоции, пусть яркие и страстные, замкнутые в мире тварной природы, не выходят за ее пределы, в горние выси, как у Пушкина, и желание перевоплощения в каждую сущность бытия ничем иным не мотивировано, кроме чистого восторга души.
Стихотворение Хомякова «Молодость» предельно экстатично, оно своего рода гимн радости двадцатитрехлетнего поэта (Тютчев в те же годы переводит «К радости» Шиллера). Говоря словами Тютчева, в нем «избыток жизни». Эта избыточная, страстная жизненность – характерная черта молодости. Во всем «вечное боренье, / Пламенная жизнь». Достаточно перечисления явлений мира, чтобы воспеть Божию хвалу, само по себе называние всего сотворенного – источник возвышенной поэзии. Однако неудачным в этом стихотворении является композиционное кольцо, обращение к Небу, которым начинается и завершается стихотворение, с его неумеренным титанизмом: «Небо, дай мне длани / Мощного титана». Это действительно вызывает улыбку, поэтому Нестор Котляревский, безусловно симпатизировавший поэту, написал не без иронии: «“Длани мощного титана” простирал тогда Хомяков к небу и “хотел схватить природу в пламенных объятьях” <…> чтобы отозвалась она юной любовью на желание этого сердца – пантеистически расширенного (“Молодость”). Но к таким бурным стремлениям и порывам душа поэта была расположена лишь в исключительных случаях»[432]432
Котляревский Н. А. С. Хомяков как поэт // Русская мысль. 1908. Кн. Х. С. 6.
[Закрыть]. Об этом же стихотворении советский исследователь скажет менее точно, хотя и обратит внимание на пантеизм: «В нем звучит традиционная для пантеистической лирики тема единства человека с природой»[433]433
Маймин Е. А. Русская философская поэзия. С. 56.
[Закрыть]. Хомяков, конечно, не был пантеистом. Создавая это стихотворение, он вкладывал в него выспренний, лишенный трезвости восторг перед природой, который отчасти навеян духом времени и который, впрочем, позже навсегда уйдет из лирики поэта. Уже следующий 1828 год будет ознаменован стихотворением «Степи» с христианским отношением к тварному миру, исполненным глубокого чувства к природе как к Божию творению.
Е. А. Маймин, а вслед за ним Б. Ф. Егоров выявляют у Хомякова и Тютчева особый тип стихотворений, которые «и по тематике, и по особенностям композиции принадлежат к типу “пантеистических” стихов», основанных «на параллелизме явлений природы и явлений из жизни человека и человечества»[434]434
Там же. С. 53.
[Закрыть]. Почему, собственно, двухчастные композиции свидетельствуют о пантеизме? Сравнения природного и человеческого характерны для Библии и для святоотеческой литературы. Такие сопоставления, как жизнь – море, дым, прах, трава увядшая, пустыня, степь, взяты из Библии и развиты святыми отцами[435]435
См., например, у свт. Григория Богослова: «Все здешнее – смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах, круг, вечно кружащийся, возобновляющий все подобно прежнему, – во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, падениях, успехах» (Григорий Богослов, свт. Избранные слова. С. 191); жизнь есть «колесо, вертящееся на неподвижной оси», ее можно сравнить «с дымом, или с сновидением, или с полевым цветком… Персть, брение, кружащийся прах!» (Там же. С. 536); «Мы – то же, что беглый сон, неуловимый призрак, полет птицы, корабль на море, следа не имеющий, прах, дуновение, весенняя роса, цвет, временем рождающийся и временем облетающий» (Там же. С. 544).
[Закрыть], а также поэтами, опирающимися на традицию.
На основании сопоставления явления природного с душой человека стихотворение «Заря», например, причисляется к «пантеистическим».
Заря! Тебе подобны мы, —
Смешенье пламени и хлада,
Смешение небес и ада,
Слияние лучей и тьмы.
Е. А. Маймин видит здесь мысль Шеллинга о человеке: «в нем – оба сосредоточия: и крайняя глубь бездны и высший предел неба»[436]436
Маймин Е. А. Русская философская поэзия. С. 55.
[Закрыть]. Подобные несообразности вытекают из несовпадения духовных позиций исследователя и поэта, а возможно, и из простого незнания литературоведом святоотеческих представлений о природе человека. Идея изначальной двойственности человеческой природы (божественное и плотское), усугубленной после грехопадения (свет и тьма), является основополагающей в христианской концепции человека. Она может представляться шеллингианской по происхождению, но Шеллинг берет эту идею, конечно, из христианской традиции. В мысли Хомякова о том, что Бог поставил зарю между ночью и днем и что, подобно тому, смешение небес и ада – свойство человеческой природы[437]437
Говоря о человеке, свт Григорий Богослов выявляет целый поток антиномий: «Зритель видимой твари, таинник твари умосозерцаемой, царь над тем, что на земле, подчиненный Горнему Царству, земной и небесный, временный и бессмертный, видимый и умосозерцаемый, ангел, который занимает середину между величием и низостью, один и тот же есть и дух и плоть» (свт. Григорий Богослов, Избранные слова. С. 97). О той же двойственности говорит и св. Иоанн Дамаскин: «Бог Своими руками творит человека и из видимой, и из невидимой природы как по Своему образу, так и подобию: тело образовав из земли, душу же, одаренную разумом, дав ему посредством своего вдуновения» (Дамаскин И. Точное изложение православной веры. М.; Ростов н/Д, 1992. С. 151); о ничтожестве человека сокрушается и преп. Симеон Новый Богослов: «Увы, насколько лишены мы Божественного достоинства! Насколько удалены от жизни вечной! Сколь небо отстоит от земли преисподних <…>, настолько или даже еще более все мы поистине отстоим от достоинства Божия и Божественного созерцания <…> и сидя в преисподней, хотим еще философствовать о том, что над землею» (Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова. Сергиев Посад, 1917; цит. по: Фототипич. изд. 1989. С. 222).
[Закрыть], нет решительно ничего ни пантеистического, ни романтического, ни специфически шеллингианского.
В идее из святоотеческого круга мыслей о человеке поэт акцентирует особенные, близкие именно ему оттенки мысли. Характерно само описание зари в первом четверостишии: Бог «поставил» зарю как границу дня и ночи, Он «облек» ее пурпурным огнем, «дал в сопутницы» денницу. Речь идет не только о премудром устройстве мира, но о его украшенности: день и ночь разделяются – и здесь ощутима интонация восхищения – пурпурным огнем, прекрасным небесным горением. Это дивное украшение мира есть Божий дар, которого могло и не быть, так же как, по мысли святых отцов, и самого мира. Заря украшена и сиянием денницы, утренней звезды. У Даля денница: слово женского рода (как у поэта: денница – сопутница) – это утренняя заря, рассвет, брезг, светанье, а также утренняя звезда, зорница; мужского рода – падший ангел. Не стоит искать здесь какую бы то ни было демонологию – поэт говорит именно о сияющей звезде, спутнице зари.
Далее выражена мысль о соотнесенности зари и человеческой души: в человеке не только две природы, божественная и падшая, не просто добро и зло, но – небеса и ад. Здесь не державинское «и червь, и Бог», не тютчевское «царь земли прирос к земле», не противопоставление ничтожества и величия, а заостренность двух онтологических полюсов и их смешение (слово повторено дважды) и слияние в человеке: лишь в человеке беспорядочно и неразличимо смешиваются и сливаются пламя – небеса – лучи и хлад – ад – тьма. Фон для этого печального размышления – тихо догорающая заря, причем в ней самой пламя и хлад соединяются без смешения (это слово относится лишь к человеку), она именно отграничивает свет от тьмы. Мир устроен, как вытекает из уподобления поэта, более совершенным, чем человек, в котором нет разграничения света и тьмы. Действительно, в контексте христианского миропонимания человек сам допускает в себя зло и утрачивает способность различения духов, природа же искажается вместе с человеком, но зла в себя по своей воле не принимает. Таков особенный оттенок хомяковской концепции человека в этом стихотворении.
Что касается стихотворений о природе в целом, их у поэта не так уж много. Кроме двух отмеченных («Желание» и «Молодость»), одно стихотворение посвящено южной природе («Изола белла», 1831), другое – северной зиме, фрагмент которой – воспоминание о южных красотах («Зима», 1830), третье – лету и грозе («Помнишь, по стезе нагорной…», 1859). Все остальные пейзажи у Хомякова – звездные ночи. В тварном мире поэт выделяет именно то, что связывает землю с миром горним.
Как для Тютчева, звезды – то, что осталось от первых дней творения, так и у Хомякова в стихотворении «Вчерашняя ночь была так светла…» (1841) небо и воды, «блестящие блеском небес», уводят душу поэта от прекрасного земного мира, разомкнутого ввысь, к миру «надзвездному»:
Взглянул я на небо – там твердь ясна:
Высоко, высоко восходит она
Над бездной;
Там звезды живые катятся в огне,
И детское чувство проснулось во мне,
И думал я: лучше нам в той вышине
Надзвездной.
Христианско-платоническая интенция души органически вырастает из созерцания природного мира, прекрасного, но влекущего душу прочь от себя – к иному. Только в этом и заключается значимость природной красоты.
Подобное переживание запечатлено в стихотворении того же 1841 года «Сумрак вечерний тихо взошел…» о двойной бездне (как и у Тютчева), сияющей звездами:
Небо, как море, лежит надо мной;
Море, как небо, блестит синевой;
В бездне небесной и бездне морской
Все те же светила.
О, чтобы в душу вошла тишина!
О, чтобы реже смущалась она
Земными мечтами!
Лучше, чем в лоне лазурных морей,
Полное тайны и полно лучей,
Вечное небо гляделось бы в ней
Со всеми звездами.
Тишина души, устремленной к горнему, отказ от земных мечтаний – вот что навевает поэту красота неба, так что умиротворенная душа становится зеркалом вечного бытия. Отражение вечного – вот основная интенция души поэта.
Тема звездного неба в стихотворении «Ночь» 1854 года обретает уже не просто возвышенно-душевный, но духовный смысл:
Спала ночь с померкшей высоты,
В небе сумрак, над землею тени,
И под кровом тихой темноты
Ходит сонм обманчивых видений.
Ты вставай во мраке, спящий брат!
Освяти молитвой час полночи!
Божьи духи землю сторожат;
Звезды светят, словно Божьи очи.
Ночь стала здесь временем молитвы. Сама по себе она душу человека не возвышает, наоборот, «сонм обманчивых видений» подступает к душе. Человек призван освятить этот час своими молитвенными усилиями, и тогда ночь станет тем духовно плодотворным временем, когда душа человека оказывается наедине с Богом, пред Его очами, а дух горит, подобно звездам.
В стихотворении 1856 года «Звезды» описывается уже не само по себе звездное небо, его образ нужен поэту для сопоставления с той реальностью, которая выше, чем звездное небо. Однако пейзаж стихотворения сам по себе прекрасен:
В час полночный, близ потока
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали
За ближайшими звездами
Тьмами звезды в ночь ушли.
Вновь вглядись – и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.
Бездонность небесного свода, подчеркнутая троекратным повторением слова «тьмы», – аналогия к иной безграничности, описанной во второй части стихотворения:
В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков, —
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь – звезды мысли водят
Тайный хор свой вкруг земли.
Вновь вглядись – другие всходят;
Вновь вглядись – и там вдали
Звезды мысли, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа, —
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла.
Бесконечная глубина смысла Евангелия – важнейшее переживание поэта, описанное в этом стихотворении, и звезды, прекраснейшее, что видит поэт в Божьем мире, – лучшая иллюстрация к его мысли.
Неприятие поэтом земного вне горней Истины выражено в стихотворении «Просьба» (1828–1831):
Противна мне дремота неги праздной
И мирных дней безжизненный покой,
Как путь в степи однообразный,
Как гроб холодный и немой. <…>
Я не хочу в степи земной скитаться <…>
Я не рожден быть утлою ладьею,
Забытой в пристани, не знающей морей <…>
Здесь земная жизнь изображается в традиционных христианских образах – степи, пустыни, жизни, как моря житейского. Прозябанию обычной жизни противопоставлено нечто в высшей степени своеобразное, характерное именно для Хомякова. Это мир воинских подвигов, рождающих в душе высокое вдохновение. «Есть старинная мудрая поговорка: “Смелым Бог владеет”», – говорил преп. Амвросий Оптинский[438]438
Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. 2003. Т. 1. С. 565.
[Закрыть]. Таковым и был поэт-воин, поэт-христианин, черпающий мужество в безусловности веры. В стихотворении с молитвенным названием «На сон грядущий» поэт делает изумительное признание:
Я в море был, в кровавой битве,
На крае пропастей и скал
И никогда в своей молитве
Об жизни к Богу не взывал.
В битве и в иной опасности поэт молился не о сохранении своей жизни. Двадцатисемилетний поэт, имеющий за плечами полтора года боевых действий, пишет о готовности смиренно и без ропота принять смерть по воле Божьей. Его «упоение в бою» иное, чем у Пушкина, это не состояние героя гордого, бунтующего, утратившего веру, но человека с совершенной верой в Бога.
В теме противопоставленности двух миров в поэзии Хомякова – дольнего и горнего, пошлости и подвига – звучит бесстрашная и смиренная готовность по воле Творца без сожаления покинуть земной мир. В поздних стихах, не отрицая первоначального понимания подвига, поэт углубляет его смысл, – это уже подвиг духовный – подвижничество ради стяжания христианских добродетелей:
Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.
«Главный подвиг в смирении заключается», – говорил преп. Амвросий Оптинский[439]439
Там же. Т. 2. С. 35.
[Закрыть], и мысль поэта звучит в унисон с этими словами. Не случайно в поздних стихах авторская мысль устремляется к Богу чаще, чем к миру земной природы, пусть даже и в самом возвышенном ее лике. Все, что есть в природе, – лишь причина для обращения к Богу с хвалой и благодарением:
В мгле полунощной, в полуденном зное…
Всюду сияние солнца святого,
Божия мудрость и сила и Слово,
Слава Тебе!
Невозможно говорить о пантеизме поэта, которому в видении явлено созерцание ангельских миров. «Видение» – стихотворение, приоткрывающее тайну личности поэта, в него он вложил, может быть, самое глубокое свое переживание. Небеса распахиваются перед духовным взором (тоска об этом безусловном опыте отражалась уже в юношеском стихотворении «Желание покоя»).
«Видение» может быть поставлено в ряд лучших произведений великих русских поэтов, в котором пушкинский «Пророк», «Меня во мраке и в пыли…» А. К. Толстого, «Измучен жизнью, коварством надежды…» А. А.Фета.
Оно начинается ночным пейзажем:
Как темнота широко воцарилась!
Как замер шум денного бытия!
С самого начала задается тема ночного покоя и свободы от дневного шума – характерная для Хомякова тема истинной свободы и покоя, обретенных благодаря глубокой вере и смирению души, как о том писал преп. Макарий Оптинский: «Истинный покой рождается от истинного смирения»[440]440
Там же. С. 57.
[Закрыть]. В высший час, когда в жизни поэта, кажется, осуществилась полнота бытия: творчество, цветение мысли, семейное счастье, – глубина покоя связывается с глубиной счастья:
Как сладостно дремотою забылась
Прекрасная, любимая моя!
Здесь счастье и духовное прозрение неразрывны – редчайшее в русской поэзии сочетание.
Что пронеслось как вешнее дыханье?
Что надо мной так быстро протекло?
И что за звук, как арфы содроганье,
Как лебедя звенящее крыло?
Вдруг свет блеснул, полнеба распахнулось <…>.
Поэту является грозный и прекрасный Ангел – вдохновитель творчества. В поэзии Хомякова нет образа музы-вдохновительницы, изящная женственность и искусственная традиционность которого здесь неуместны, для него гений – именно грозный Ангел, потрясающий душу своими явлениями. К нему обращена молитва поэта:
Склонись ко мне, возьми меня из праха,
По-прежнему мечты благослови!
У А. С. Пушкина и А. К. Толстого в их вершинных стихотворениях тоже описана встреча с существом мира высшего: «шестикрылый серафим» является А. С. Пушкину, «Любови крылья» возносят А. К. Толстого. Хомяков более подробно описывает это потрясающее явление. Вся сила молитвы поэта, обращенной к Ангелу-вдохновителю, вкладывается в просьбу о вдохновении, об освобождении от «праха» земного и о слове, которое обладало бы властью вдыхать «жизни дух» в мертвые сердца. В этой молитве (ведь и евангельское слово не всегда оживляет мертвые сердца, не то что слово поэтическое) – все духовное своеобразие поэта.
В переживании «Видения» – исток пророческого самочувствия поэта. Для него истина столь очевидна, и она так явно открыта каждому в евангельской вести, что душу поэта мучает жажда передать всем то самоочевидное, что так ослепительно открывается ему самому. Молитвы поэта именно о том, чтобы мир услышал слово истины.
Исходя из духовного опыта поэта, отраженного в стихах, стоит говорить о его теме России. В силу своего пророческого дара поэт-христианин, поэт-воин прозревает ее судьбу. Глубина и своеобразие поэтических прозрений в стихотворениях Хомякова, какой бы темы он ни коснулся, раскрываются на фоне святоотеческой традиции, христианского понимания мира и человека.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































