Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
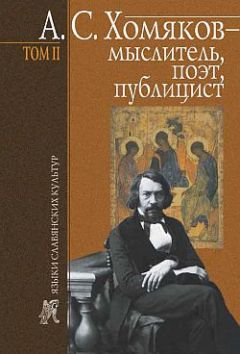
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 51 страниц)
Раздел 7
Художественный мир А. С. Хомякова
В. П. Океанский
Поэтическая метафизика (энергийность имени) в творческом наследии А. С. Хомякова
«Не мы говорим слова, но слова, внутренне звуча в нас, сами себя говорят, и наш дух есть при этом арена самоидеации вселенной… В нас говорит мир, вся вселенная, а не мы, звучит ее голос… Слово есть мир, ибо это он себя мыслит и говорит… Слово космично в своем естестве, ибо принадлежит не только, где оно вспыхивает, но бытию, и человек есть мировая арена, микрокосм, ибо в нем и через него звучит мир, потому слово антропокосмично»[390]390
Булгаков Сергий, протоиерей. Философия имени. Париж, 1953. C. 23–24.
[Закрыть]. Нет, это – не Хайдеггер, с именем которого стало уже привычно в культурологии связывать эти «поворотные» идеи, но отец Сергий Булгаков, заговоривший на этом языке за несколько десятилетий раньше великого немца и почитавший творения А. С. Хомякова «музыкальным императивом» к своему софиологическому учению.[391]391
См.: Булгаков С. Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения // Булгаков С. Н. Образ Первообраз: Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 360. На аналогичную хомяковской мифопоэтическую укорененность метафизики С. Н. Булгакова интересно указывает современный исследователь его творчества (см.: Роднянская И. Б. Чтитель и толмач замысла о мире // Там же. С. 10). Здесь неизбежно возникает вопрос, и в силу его особости вынесем его отдельно: говоря о Софии, мы вращаемся вокруг собственных культурно-редуцированных представлений или же наша мысль движется или покоится в том, что есть и составляет всегда уже наперед протокультурную онто-мифо-основу? В сущности это вопрос о возможности фило-Софии отнюдь не чужд Хомякову, хорошо понимавшему, что корни наших представлений уходят в бытийную толщу. Конечно же, во всей этой проблематике сказывается и конкретно-исторический план царящей вокруг Хомякова культурной атмосферы масонского «елагинского салона» (здесь можно вспомнить и сочинение самого Ивана Елагина «Приношение Премудрости»), уходящего своими дальними корнями в не столь уж «просветительский» (в расхожем профаническом понимании), сколь эзотерический XVIII век, открытый невообразимо многому и не уступающий в этом отношении современному нам постмодернизму…
«София <…> “девичье” имя Екатерины, претендовавшей на воплощение мифологических интеллектуальных образов – Минервы, Фелицы, Семирамиды», – отмечает исследовательница творчества В. С. Соловьева, указывая на то, что «многие русские мыслители заново открывали для себя софийные сюжеты, сами того не подозревая, продолжали традицию, идущую из XVIII века» (Артемьева Т. В. Тайные пути философского духа: От Ивана Елагина к Владимиру Соловьеву // Соловьевский сборник: Мат-лы междунар. конф. «В. С. Соловьев и его философское наследие». М., 2001. С. 62).
[Закрыть]
В именах есть что-то наиболее устойчивое, постоянное в мире. Переходя из одной эпохи в другую, из одних содержательных контекстов и культурных форм в другие, воспринимаясь всегда по-разному, имена переживают судьбу своих интерпретаций и сохраняются дольше всего. Имена похожи на небесные звезды, само существование и значение которых объясняется различно в большом времени макроистории, но которые величественно светят во вселенских просторах миллиарды лет…
Софийная природа имени уводит к бездонности. Когда полнота последней взыскуется в слове, можно говорить о его метафизике. «Метафизику можно определить как встраиваемую в слово мысли истину о сущем как таковом в целом», – отмечал Хайдеггер, характеризуя космический размах гносеологических притязаний западного человека[392]392
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 85.
[Закрыть]. Метафизика укоренена в языке, манифестируя собою прежде всего особое состояние языка, а именно – поэтическое, которому доступно целое. Но потому и сам поэтический язык, одаренный опытом целого, есть начало метафизическое. Онтология художественного слова покоится на этом сопряжении метафизики и языка.
Творчество поэта и мыслителя, художника и механика, публициста и богослова А. С. Хомякова, «русского Леонардо» (как емко охарактеризовал его В. П. Раков), будучи своеобразным и неповторимым плодом синергийного взаимодействия русской, эллинской, западноевропейской культур, сродненных исконным метафизическим фонологоцентризмом, определяющим уже в течение двух с половиной тысяч лет судьбу средиземноморской цивилизации, остается поучительным примером эстетической обращенности к мировому целому и всеединому, иными словами – к просветленной Святым Духом и божественным смыслом тотальности.
Остановимся на трех составляющих хомяковского наследия, синтетического по своей природе: экклезиологии, историософии, лирике. В каждой из них имя, не только благодаря осмысленной креативной установке, но и даже поверх индивидуально-авторского замысла, выполняет космостроительную функцию, то есть выступает в качестве мирообразующей мифоосновы.
Унаследовавший от матери довольно редкое сочетание непоколебимой православной веры и широты мысли, потрясающей современников, Хомяков поныне остается загадкой, «парадоксом», требующим вдумчивого прояснения. Один из его друзей Д. Н. Свербеев следующим образом подчеркивал весь динамизм хомяковских интересов:
Традиционно сложилось весьма превратное истолкование хомяковской «почвенности», якобы граничащей с «узким национализмом» и провинциализмом, между тем как вслед за Н. А. Бердяевым и о. Георгием Флоровским можно утверждать, что Хомяков и вообще первые славянофилы являлись, пожалуй, единственными настоящими русскими европейцами. Специфика хомяковской «почвенности», роднящей русского поэта и мыслителя с поздним М. Хайдеггером[394]394
Ha это обратил наше внимание в частной беседе покойный приснопамятный Александр Викторович Михайлов.
[Закрыть], – в обращенности к истокам средиземноморской цивилизации. Творчество А. С. Хомякова, христианское и экклезиоцентрическое по своей сути, может быть адекватно воспринято лишь с учетом того, что мыслительно-понятийной (а значит, именной) «почвой» для его произрастания стал дрейфующий в истории философский эллинизм, отнюдь не ограниченный хронологическими и географическими рамками позднеантичного мира, но разомкнутый, как показал М. Хайдеггер, в последующее «философское» свершение судьбы исторического Запада, поглощенного «проблемой Бытия». Так, теоретические конструкции и методы западных мыслителей (от Платона до Гегеля) имплицитно содержатся и в хомяковском богословии, обращенном к миру. Церковная традиция своеобразного космологического мироприятия, свойственного святым отцам Каппадокийской школы (святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский), активно рецептировавших философскую традицию, сказывается и в хомяковском взгляде на мироздание как на гармоничное художественное творение Бога: «Мир есть творение, мысль Божия, и сам по себе он представляет полную и строгую гармонию красоты и блаженства»[395]395
Хомяков A. С. Письма к Аксаковым // Хомяков A. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1900. С. 358.
[Закрыть]. Это далеко не исчерпывающее отношение Церкви к миру (ср., например, аскетические творения преподобного Исаака Сирина, для которого мир есть космизированный морок, грандиозная обольстительная иллюзия, «обман чувств», подобный «пелене Майи» в индуистско-брахманической и буддийской традициях, особо пленявших знаменитого современника Хомякова – немца А. Шопенгауэра), но при данной формулировке связанное именно с фронтальным экклезиологическим усвоением философского эллинизма со всем присущим ему понятийно-номинативным ансамблем, положенным в основу любого философского языка.
Фундаментальной составляющей хомяковского миро-приятия оказывается также интереснейшее и почти уникальное явление семантической диффузии древнерусского слова «мир»[396]396
См.: Камчатнов А. М. К лингвистической герменевтике древнерусского слова МИРЪ // Герменевтика древнерусской литературы: В 2 ч. Ч. 2. Сб. 6. М., 1994.
[Закрыть], определившей во многом специфику Православия на русской почве: «мир» – это мироздание, вселенная, космос и одновременно покой, тишина, согласие. Функционирование орфографической нормы с XVII по начало XX века, различавшей графически эти омонимы (миръ, мiръ), не смогло окончательно дифференцировать семантические различия и было стихийно вытеснено. В хомяковском словоупотреблении лексемы «мiръ» всегда остается прозадуманным и «миръ»: совокупность целого существует благодаря согласию. Таким образом, языковой фактор, задающий смысловой размах слова «мир», усугубляет философское мироприятие у Хомякова. Изначальная христианская напряженность в отношении к «во зле лежащему» миру («не любите мира») трансформируется в творческий замысел о глобальном преображении мира, подхваченный впоследствии столь разными русскими писателями и мыслителями, как Ф. М. Достоевский, Н. Н. Федоров, В. С. Соловьев, о. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, И. Л. Солоневич, Д. Л. Андреев… Современное православное богословие склоняется к осмыслению мира как богозданного и храмоподобного «прекрасного и целостного организма» (А. И. Осипов), воспроизводя, однако, здесь то, что было высказано еще более чем за два с половиной тысячелетия назад Гераклитом Эфесским…
Хомяковская художественно-метафизическая концепция мира вполне может быть названа философской «поэтологией» самой жизни, однако воспринятой как Божий дар. Хомяковым переосмысляется сама сущность художественного, отчужденного в новоевропейской эстетике от бытия мира; чувство художника им объявляется мерой истины («Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может»[397]397
Хомяков A. С. Записки о всемирной истории // Хомяков A. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 31.
[Закрыть]), а поэзия выдвигается как метод подлинной исторической науки: «Нужна поэзия, чтобы узнать историю»[398]398
Там же. С. 71.
[Закрыть]. Лишь в связи с этой «поэтологической» философией жизни, понятой как структурно-художественная субстанция, может быть адекватно осмыслена и хомяковская апологетика Церкви. Эта субстанция обладает неотъемлемым качеством нравственной (а потому свободной) богообращенности. Однако ее сохранение носит не пассивный, а волевой и творческий характер, требует свободного единения в любви, органическим выражением которой является Церковь, созидаемая самим Богом. Разрушение такой церковности несет смертоносные силы в самые недра и основания космической жизни.
Против теофании экклезиоцентрической веры обращен, по Хомякову, всем ходом своего исторического развития западный теологический рационализм. Опровержению его притязаний в жизненном и богословском свидетельстве церковной истины посвящен цикл апологетических сочинений А. С. Хомякова[399]399
См.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. T. 2. М., 1900; Хомяков А. С. О Церкви. Берлин, 1926; Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2: Работы по богословию. М., 1994; Хомяков A. С.. Сочинения богословские. СПб., 1995.
[Закрыть], созданных в разные годы (1844–1845, 1853, 1855, 1858), но объединенных единым пафосом. Две противоборствующие ветви западного христианства Хомяков рассматривает как единое, растянувшееся на века и углубляющееся во времени отступление от Вселенской Церкви через предательство взаимной любви: «Романизмом совершено это преступление, протестантизмом оно унаследовано»[400]400
Хомяков A. С. По поводу разных сочинений латинских и протестантских // Хомяков A. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 194.
[Закрыть]. Интересно, что аналогичным образом процесс разрушения западной церковности будут описывать К.-Г. Юнг и М. Хайдеггер, находя в обезбоженности некое фатальное наследие западноевропейского человека[401]401
См., например: Юнг К.-Г. Психология и религия // София: Издание Новгородской епархии / Гл. ред. В. В. Мусатов. 1992. № 3. С. 14; Хайдеггер М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 93–94; Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии. 1990. № 7. С. 167.
[Закрыть]. Хомяков утверждает, однако, что «перед лицом религиозного заблуждения горестное неверие становится доблестью»[402]402
Хомяков А. С. По поводу послания архиепископа парижского // Хомяков A. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. T. 2. С. 140.
[Закрыть], и в этом он примыкает к мыслителям экзистенциально-виталистической ориентации (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Камю), подчеркивая, что «латинская идея религии превозмогла над христианскою идеею веры» и что «только в безверии и можно теперь встретить неподдельную искренность», недоступную «религиозному ханжеству».[403]403
Там же. С. 141.
[Закрыть]
Ю. Ф. Самарин, а позднее и Н. А. Бердяев, очень удачно говорили о совпадении Церкви и свободы в учении Хомякова[404]404
См.: Самарин Ю. Ф. Предисловие // Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 2; Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912.
[Закрыть]. Однако этому своеобразному хомяковскому «анархизму» было присуще удивительное для XIX века и поистине эллинистическое качество универсальной логической гармонии, задающей метафизическую «меру» самой «логике». Хомяков в конечном итоге верит, что «Бог во время, Им определенное, приведет снова европейские племена в лоно Церкви».[405]405
Хомяков А. С. По поводу разных сочинений латинских и протестантских // Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 247.
[Закрыть]
Большинство исследователей совершенно справедливо характеризуют Хомякова как «православного модерниста», однако «модернизм» нужен здесь был не для разрушения, а для возрождения истинного Православия; лишь через модернизацию и взрыв господствующего окостенения ума оказывается возможен возврат к патристике, к мыслительному мужеству святых отцов.
Между тем другая, неэкклезиологическая, часть хомяковского богословия, привлекаемая автором как бы случайно, мимоходом, позволяет все же усомниться в адекватности хомяковских штудий святоотеческому опыту. Например, «слово» Хомяковым трактуется как «улетучивающийся звук» и «немой знак»[406]406
Там же. С. 238.
[Закрыть], а в первых словах пролога Евангелия от Иоанна предполагается вполне допустимой замена «Слова» на «другой термин, например: объект»[407]407
Там же. C. 238–239.
[Закрыть]. Такое вполне «конвенциалистское» понимание слова и имени сочетается и соседствует у Хомякова с убежденностью в онтологической природе языка («Язык наш вполне вещественен, не только по своей форме, но и во всех почти корнях своих, хотя он и невещественен по своему началу»; «слово есть воссоздание мира»[408]408
Там же. С. 238; Хомяков А. С. Письмо о философии к Ю. Ф. Самарину (Предсмертное неоконченное сочинение) // Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1900. С. 334.
[Закрыть]), что в свою очередь позволяет заключить: автор фрагментарно приближается к средневековой проблематике «реализма – номинализма», однако никакого четкого разрешения ее нет в его рефлексии. Философизация богословия доходит у Хомякова до предела, когда он пытается определить Христа как «осуществившуюся идею»[409]409
См.: Хомяков А. С. По поводу разных сочинений латинских и протестантских // Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 221.
[Закрыть], что является основой его довольно-таки оптимистических исторических упований и потрясающего нечувствия сотериологической исключительности имени Христа.
Находясь под латентным для XIX века (знаменующего фронтальное начало антириторической эпохи) влиянием «номиналистической» тенденции к отрицанию за именем его реальности как «энергемы сущности», Хомяков» тем не менее остается весьма чуток к критическому разбору понятий, к этимологии, таким образом являя достойное филологическое сопротивление забвению сущности языка.
Пожалуй, впервые в истории Хомяков полностью деконструирует слово «религия» как западное и латинское по своему происхождению и смыслу («внешняя связь») и не имеющее отношения к живому опыту Церкви. Здесь Хомяков предвосхищает – на что обращал внимание также С. С. Аверинцев[410]410
См.: Аверинцев С. С. Как нить Ариадны… // Юность. 1987. № 12. Подобно А. В. Михайлову, писавшему аналогичные вещи о феномене «барокко», ученый очень глубоко показывает абсолютное порубежье феномена «романтизма», не только оставляющего традиционалистскую модель культуры, но и постепенно обнажающего ее конкретно-исторические и геолокальные мифоосновы. См. также: Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
[Закрыть] – мысли современного греческого богослова Х. Яннараса, который восполняет хомяковскую неотрефлектированность проблематики имени, впрочем, в вопросе о бытии духовного мира уступает Хомякову, более близкому здесь к патристике.
Экклезиологическая миро-логия Хомякова конституируется на «поэтологическом» изоморфизме художественного и жизненного, красоты и жизни с ее «динамической неопределенностью», что стилистически родственно многовековой тенденции Восточной Церкви, для которой глобальный систематизм никогда не был типичным явлением (исключение составляет преподобный Иоанн Дамаскин, и неслучайно его влияние на Фому Аквината). Между тем этот исходный апофатический принцип осложняется рецепцией западного философского рационализма с рожденной в его лоне конвенциалистской тенденцией в понимании языка, наметившейся, впрочем, как показывает о. Георгий Эдельштейн[411]411
См.: Эдельштейн Ю. М. Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
[Закрыть], еще у греческих святых отцов, активно усваивавших философский эллинизм, но никогда не доходивших в своем богословии, в отличие от Хомякова, до замещения аскетики и мистики моралистическим пафосом. Несмотря на это, явно гуманистическое наследие, экклезиология А. С. Хомякова содержит в себе такие глубинные прозрения о существе самой церковности, что позволяет современному православному богословию, выходящему из многовекового отчуждения, успешно рецептировать его главные идеи. Во всяком случае, лишь с учетом коренной экклезиоцентричности творчества А. С. Хомякова, оно может быть адекватно воспринято научно-гуманитарным и культурным сознанием.
Историософия Хомякова при всей обширности контекстуально-типологических ассоциаций фокусирует внимание на поведенческой роли имени в знаменитом тексте «Семирамиды» (случайно подсказанный Н. В. Гоголем вариант названия крупнейшего и неоконченного хомяковского труда «Записки о Всемирной Истории», над которым автор работал около двадцати лет: 1833–1852 годы). Так, конститутивность опорных ядерных имен «иранство» и «кушитство» (маркирующих два типа всемирно-исторических сил «духовной свободы» и «вещественной необходимости», включая соответствующие этим глобальным тенденциям два языковых типа с доминантой гласово-речевого либо письменно-образного строя), «Аполлон» и «Дионис» (поставленных в соответствие бинарной оппозиции «иранство – кушитство», задающей тот метафизический масштаб, которому мог бы позавидовать сам Ницше, как известно, «накладывавший отпечаток своей руки на целые тысячелетия как на воск»), «Семирамида» (имя древневосточной царицы из легендарных времен создания чудесных «висячих садов», поднимаясь до названия по ничтожному поводу, выполняет вместе с тем генерирующую чисто энигматическую функцию), развернутого имени «Всемирная История» организует весь квазибарочный смысловой объем хомяковского текста, включая сюда его коннотативные и реминисцентные связи.
Исследователи В. В. Кожинов, Г. Померанц, Ю. Барабаш писали о своеобразном русском протекании ренессансных процессов начиная с XVII века вплоть до рецидива барочности в русской культуре первой трети XIX века[412]412
См.: Кожинов В. В. Возрождение или Средневековье? // Русская литература. 1973. № 3; Померанц Г. Долгая дорога истории // Знамя. 1991. № 11; Барабаш Ю. Сад и Вертоград. Гоголевское барокко: на подступах к проблеме // Вопросы литературы. 1993. Вып. 1.
[Закрыть]. «Хотя о барокко очень часто говорили и говорят как о “стиле”, – писал А. В. Михайлов, – на самом деле барокко – это вовсе не стиль, а нечто иное. Барокко – это и не направление»[413]413
Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 329–330.
[Закрыть]. Ученый определил понятие «барокко» как «общий и целостный смысл – как смысл, очевидно поставленный перед всей наукой», усматривая в этом «смысле» феноменологию «конца риторической эпохи», длившейся две с половиной тысячи лет. Исчерпанность исторических сил порождает глобалистику всемирных обзоров, нацеленных на целокупный и последний охват бытия.
«Записки…» Хомякова представляют собою художественную россыпь историософских размышлений, фрагментарно касающихся самых разных сторон человеческого бытия в аспекте духовного опыта: религий, мифов, языков, топонимов… Между тем эта россыпь отнюдь не есть некая совершенно произвольная небрежная рассыпанность, подчиненная лишь таинственной прихоти художественного вдохновения, ибо она одновременно выступает как собор, собирающий эти записки согласно прозадуманной в именах и потому наперед заданной авторской концепции, соцветию его главного, ведущего и все определяющего замысла, предваренного самоэнергийностью имен.
Таким образом, сoбop этой россыпи являет собою именно на жанрово-морфологическом уровне художественную концепцию мира как всеобъемлющего собора динамического согласия, при котором мир есть образ и подобие Божьего храма. Энергийность имени задает не только смысловые горизонты произведения, но и порождает жанровую морфологию: малый жанр записок укрупняется в огромный свод-объем, в книгу, уподобляющую себя сути мира. При этом имеет место синкретизм «научного» и «художественного» подходов, произведение тяготеет к энциклопедической обширности, а текст в максимальной степени изоморфен живой бытийности. «Соборный» состав хомяковских «Записок…» хранит под иероглифической маскою структуры произведения и опорное имя «соборность», проявляющееся как ведущий принцип всего хомяковского творчества, так и центральная экклезиологическая характеристика в будущих богословских сочинениях автора.
Синергия имен питает изнутри и стилевое свечение текста «Семирамиды». Собственно стиль и выступает внешним свечением концептуально-жанрового состава произведения, его «формы смысла». Соотношение имени и стиля наиболее ярко осуществляется в плане выражения «внутреннего» во «внешнем», следовательно, имени – через концепцию и жанр – в стиле: сами хомяковские имена-пары (построенные на фатальном противоборстве элементов) «иранство – кушитство», «Аполлон – Дионис», связь между которыми носит устойчивый постромантический квазиафористический характер, неизбежно порождают соразмерный этой связи стиль как способ фаллогероического наступления на землю с последующим воспарением над нею.
Собственно Хомяков, будучи «европейски образованным интеллектуалом» (по замечанию покойного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна), обнажает здесь свои западные, барочные и романтические, масонско-эзотерические корни, служа примером одной из типичных российских «метаморфоз». Не будем здесь останавливаться на опасностях эзотерической глобалистики в контексте экологического отношения к традиционным формам культуры. В конце концов, само ее появление связано с глубочайшим внутренним кризисом этих риторико-классических форм.
Существует множество типологически близких «Семирамиде» прецедентов из «большой литературы» аналогичного эссеистского и «записочного» плана, ставших ныне «классикой» культурологической науки: хорошо известные произведения Дж. Вико, И. Г. Гердера, Н. Я Данилевского, К. Н. Леонтьева, Ф. Ницше, О. Шпенглера, Р. Генона, Ю. Эволы, Р. Гвардини, Д. Л. Андреева…
Интересно, что название «Запискам о Всемирной Истории» дали Ю. Ф. Самарин и А. Ф. Гильфердинг, однако хорошо известно, что у самого Хомякова в начале черновых записей стояло только: «И. и. и. и.». Предлагались разные прочтения и расшифровки: все они в известной степени удачны. Однако хомяковская запись всегда рассматривалась как фонетическое сокращение, но не как графема. Можно предположить, впрочем, что «и» – это союз, а его употребление с точкой означает фиксированную в пространстве и, следовательно, на письме темпоральность, длительность (согласно, например, А. Бергсону, этот союз выражает собственное качество времени). Заглавное «И.» может означать высший, метафизический, вечный Голос (Логос), сопрягающий в пространственных терниях и тупиках макроистории все иные голоса, порождаемые им, дарящим каждому самостоятельное бытие и печать подобия: три строчных «и.» могут указывать на пространственную координированность. В этом случае имя (название хомяковского текста) – парадоксальный иероглиф, символизирующий торжество «гласового письма» над «немым изображением», что было столь чаемым для «философа в охоте – охотника в философии». Такой авторитетный исследователь хомяковского наследия, каким является В. А. Кошелев, однажды заметил, что этот ход мысли совершенно отвечает духу и характеру творчества Алексея Степановича.
Лирика Хомякова представляет собою опыт работы с пространством, в котором поведение лирического героя имеет титанические черты и носит подчеркнутый ураноцентрический характер. Б. Ф. Егоров, ссылаясь на рукопись Т. А. Николаевой, приводит в качестве «наиболее излюбленных понятий автора» следующие: «небо, Бог, сердце, душа, мир, сила, песня»[414]414
Егоров Б. Ф. Поэзия А. С. Хомякова // Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. C. 42.
[Закрыть]. Как поэт Хомяков сложился ранее, чем обратился к созданию историософских и богословских опытов, но как раз в этих первичных именных элементах просматривается вся протоплазма его будущих ариософских и экклезиологических идей. Обращают на себя внимание прежде всего дедуктивность и конструктивизм хомяковской поэтики, а также ландшафтность, обусловленная таким значимым аспектом творчества, как авторская позиция, несущая на себе антропоцентрическую печать леонардовской ренессансной метафизики («Молодость», 1827; «Видение», 1840). Точка зрения автора заявляется с высоты орлиного полета («Милькееву», 1839). «Орлиный» техногенез лирики Хомякова отмечен также Б. Ф. Егоровым. Орел в церковной символике указывает на высокое парение богословского мышления и прежде всего является церковным символом святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Таким образом, уже в лирике Хомяков выступает как имплицитный богослов. Чаяния поэта, выраженные в стихотворении «Орел славянский» (1832), оказываются созвучны пророчеству его современника преподобного Серафима Саровского о грядущем «слиянии России с прочими славянскими странами в единый громадный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные»[415]415
Цит по: Богомолов Моисей, иеромонах, Булгаков Н. А., Яковлев-Козырев А. А. Православие, армия, держава. М., 1993. С. 39.
[Закрыть]. Вместе с тем, учитывая некоторую языческую завороженность раннего Хомякова (мистериальная драма «Вадим»), следует отметить, что орел есть и огненный символ уранической солярной силы в самых различных мифологических очагах планеты. Столь близкое Хомякову романтическое представление о поэтах как вестниках Божества более сродственно мифологическому, а не православному мирочувствию, где эта «роль» вестничества принадлежит скорее ангелам и святым. Можно говорить об эзотерическом снятии их радикального взаимонапряжения в поэтическом сознании романтика А. С. Хомякова.
Наиболее интересное поэтическое явление, отнюдь не характерное для специфики мировосприятия XIX века, – хомяковское описание неба как тверди (приближающееся к библейскому гнозису). В стихотворении «Благодарю тебя! Когда любовью нежной…» (1836) родина и приют орла оказываются вовсе не на земле, не в нашем дольнем мире бесконечных тревог и опасностей, а в небе: в «родных небесах» раненой небесной птице как будто бы уготована опора и, стало быть, «твердь». Художественный топос, в котором небо – твердь, ярко выражают и такие хомяковские сочинения, как «Ноктюрн» (1841) и «К детям» (1839) – лучшее стихотоворение Хомякова, по замечанию И. В. Киреевского.
Однако этот же самый топос, формирующий вертикальное напряжение воли, более соответствует архитектонике католического религиозного акта, построенного, как отмечал Н. А. Бердяев, на романтическом порыве, на «вытягивании человека ввысь», тогда как «православный опыт есть распластание перед Богом» благодаря изобильному нисходящему истечению божественных энергий долу. Таким образом, Хомяков обнажает и здесь свою ментальную укорененность в западноевропейской культуре (чему, впрочем, совсем не противоречит его православная экклезиология – как фактор метакультурный). С этим связаны также натурфилософский элемент поэзии Хомякова, романтически-шеллингианские настроения, ландшафтный символизм, роднящий его с В. А. Жуковским и Ф. И. Тютчевым (зеркально-нейтрализуемая оппозиция «небо – море», приводящая к событию тотальной теофании).
В качестве многолинейного и многопланового символа предстают у Хомякова «звезды», сообщающие миру особую глубину и выступающие ее вестниками. Но непостижимая головокружительная даль поднебесных пространств для лирики Хомякова таинственно соустроена с близостью спасительной нити в безднах мироздания, и потому человек не потерян, у него есть главная метафизическая опора, ибо: «Звезды светят, словно Божьи очи»[416]416
Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. C. 135.
[Закрыть].
Со звездным символизмом связана у Хомякова и одухотворенность человеческой экзистенции, выражающаяся в самой способности к просветляющему мышлению, о чем свидетельствуют такие стихотворения, как «В альбом сестре» (1826), «Остров» (1836), «К И. В. Киреевскому» (1848), «Ночь» (1854), «Звезды» (1856).
Внимание поэта неоднократно фиксируется и на полисемантическом романтическом образе, маркированном именем «заря», однако наиболее проявлен в поэзии Хомякова фундаментальный смысл «зари-границы», который оказался раскрыт с необычайной духовно-художественной глубиною. Стихотворение «Заря» (1826) первым же поэтико-ландшафтным и семантико-стилистическим сигналом («В воздушных высотах…») обращено к той сфере, которая имеет вполне закрепленное за ней значение в церковно-православном восприятии, семантическая актуальность и насыщенность которого не только размыта, но и аксиологически перевернута в эстетике романтизма. Воздух, окрыляющее и ветрогонное пространство поднебесной, по церковному учению, есть область низверженных с ангельского неба демонических сил, то есть духовная зона повышенной тревоги и опасности, требующая трезвения и молитвенной вооруженности, пьянящая, усыпляющая, озаряюще-прельщающая. Здесь у Хомякова встречаются архитектурно-церковная и диффузно-романтическая энергийно-структурирующие художественный ландшафт концепции. Человек, уподобленный самой заре, помещен в бытийно-кульминационную зону обострения этой поднебесной борьбы. Огромную роль на пути экзегетико-герменевтического прочтения играет имя падшего херувима Денницы, которое «сопутствует» самой заре в этом юношеском хомяковском стихотворении.
Тем не менее мы не разделяем встречающихся деклараций об исключительной православности А. С. Хомякова. Совсем напротив, для него было характерно типичное романтическое слияние поэзии и богослужения: святость подменялась волевой и творческой активностью. Композиционно-организующими началами художественного мира здесь выступают схематические блоки хомяковской «концептосферы»: иранство – кушитство, северо-восток – юго-запад, небо – земля, дyx – вещество, свобода – необходимость… Впрочем, поэтическая космология Хомякова имеет церковно-эллинские признаки: вселенная в его поэзии предстает разумно и оптимально организованным, световым и зримым пространством, Божиим творением, где царят «гармония и блаженство»; лишь уровни околоземного и особенно земного бытия отмечены крупномасштабным «апокалиптическим» драматизмом.
В конце творческого пути возникает ведический мотив бытия как тотального сновидения, сплавленный с церковным образом успения души (последнее стихотворение «Спи», 1859). Поэтическая ариософия Хомякова в его художественном пространстве все же доминирует над библейским и экклезиоцентрическим мировидением. Здесь усматривается латентный гностицизм, однако с тою физиогномической разницею, что гармоническое состояние Бытия достигается изнутри тварного космоса, а сновидность реальности оказывается оборотной стороною богоузрения. Можно говорить об индоевропейском культурном ареале этого архаического лейтмотива «белой мифологии» (Ж. Деррида).
В целом художественное пространство лирики Хомякова рационально моделируется на основе концептуальных составляющих традиционных умозрений (каппадокийское православие, платонический гностицизм, брахманический индуизм), что приводит к парадоксальным метафизическим «псевдоморфозам», свидетельствующим о напряженной романтической попытке собрать ускользающее целое.
Об этом же говорит интереснейшее в культурологическом отношении, но все еще ждущее добротного, лингвистического комментария «Сравнение русских слов с санскритскими»[417]417
См.: Хомяков А. С. Сравнение русских слов с санскритскими // Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 5
[Закрыть] (подготовленное автором как приложение к его работе над «Записками о Всемирной Истории»). Ведь не только современник и друг А. С. Хомякова поэт-шеллингианец Д. В. Веневитинов, но и сам еще Аристотель, вторя Платону, говорил о гносеологических преимуществах поэтического видения мира как целого над любыми историоцентрическими путями его постижения. Эта же мысль по-своему звучит у А. Шопенгауэра, раннего Ф. Ницше, О. Шпенглера, позднего М. Хайдеггера.
Словесный образ «поэтической метафизики» родился впервые под пером родоначальника культурологии как «новой науки» неаполитанского историографа Дж. Вико, который противопоставил ее «рациональной и абстрактной метафизике современных ученых»[418]418
См.: Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940. С. 131–132.
[Закрыть]. Но для культурологической мысли сегодня совершенно очевидна метафизическая непрозрачность самой мифоосновы имени. И опыт Хомякова со всеми его «парадоксами»[419]419
Кошелев В. А. Парадоксы Хомякова // Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 1: Работы по историософии. М., 1994.
[Закрыть] являет собою не просто феноменологию тотального кризиса рационализма и перехода к предстоящему неведомому, но и творческого (!) человека, открывшего, согласно X. Л. Борхесу, большее, чем он узнал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































