Текст книги "Ипатия"
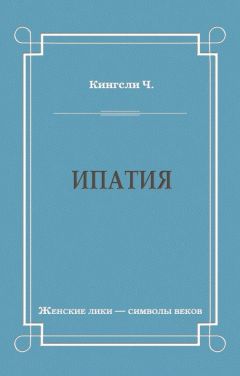
Автор книги: Чарльз Кингсли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Кто из трех, – возразил Августин, – был полезнейшим для человека, попавшего в руки разбойников, если не тот, который сжалился над ним? Говорю тебе, друг мой Рафаэль Эбн-Эзра, ты не далек от Царствия Божия.
– Но какого Бога? – лукаво спросил Рафаэль.
– Бога предка твоего Авраама, которому, как ты услышишь, мы будем молиться сегодня вечером, если на то будет Его воля. Синезий, есть ли у тебя церковь, где бы я мог совершить вечернее богослужение и сказать слово утешения и наставления моим детям?
Синезий вздохнул:
– Месяц тому назад у меня была церковь, а теперь осталась только развалина.
– Но все же это по-прежнему храм!
Всадники, разъехавшиеся по различным направлениям в поисках дичи, вскоре вернулись, нагруженные добычей, и все общество еще до наступления сумерек достигло дома Синезия. Больную Викторию поручили попечению старой ключницы епископа. Воины прошли прямо в церковь, в то время как слуги Синезия, не понимавшие службы на латинском языке, занялись приготовлением кушанья.
Среди почерневших от дыма столбов, под полуразрушенными стропилами церкви началось богослужение. Рафаэлю было странно слышать здесь величественные древние псалмы своего народа и песнопения, которые, по словам раввинов, пелись еще при богослужении в Иерусалимском храме.
Началась проповедь. Августин склонился перед разрушенным алтарем, и лунный свет, падая сквозь пробитую крышу, осветил морщины его лица. Рафаэль с нетерпением ожидал его речи. Что-то скажет этот тонкий диалектик, бывший учитель языческой риторики, ученый-исследователь и аскетический философ? Что связывает Августина с этими суровыми воинами – фракийцами, маркоманами, галлами и белгами?
Начало проповеди казалось Рафаэлю неудачным, несмотря на обаятельный голос, благородную осанку и красоту речи Августина, поражавшей изяществом выражений. Но постепенно перед слушателями развертывался целый ряд картин и образов. Это не была восторженная декламация, а скорее драматический диалог, изобилующий вопросами, намеками и укорами, имеющими отношение к общераспространенным недостаткам среди солдат. Августин умел тронуть всякого человека, так как ему были знакомы грехи людские.
К концу проповеди Рафаэль вспомнил доброе старое время, когда он, бывало, сидел на коленях у няньки и слушал легенды о Соломоне и царице Савской.
Что, если Августин прав? Если Иегова Старого Завета не только покровитель детей Авраама, но и владыка всей земли и всех народов, населяющих ее? А может быть, Августин имеет право идти дальше Ипатии, и Иегова есть действительно Бог не только плоти, но и духа?
У Рафаэля возникло много вопросов, и вечером, в комнате Синезия, он вынес их на общее обсуждение. Майорик с грубоватой простотой солдата стравил Рафаэля с Августином; еврей попробовал сперва отделаться шутками, но, пытаясь опровергнуть какое-то воззрение епископа, вскоре убедился, как трудно сбить с позиции этого серьезного, рассудительного человека. Он несколько разгорячился и, поощренный поддержкой Синезия, вступил в оживленные философские прения с Августином, продолжавшиеся до самого рассвета. В пылу спора Рафаэль забыл все на свете и, конечно, не подозревал, что в соседней комнате Виктория всю ночь на коленях молилась за него. В долетавшем до нее гуле голосов она тщетно пыталась уловить смысл отдельных слов и никому, даже самой себе не решалась признаться, что все ее счастье и земные надежды зависели от исхода этого спора.
Глава XXII
Безумная оргия
Но где был Филимон в течение всей этой недели?
Первые два дня он метался в темнице, как дикий зверь, попавший в капкан.
Мысль, что его планы разрушены и силы скованы, приводила его в бешенство. Он потрясал решетку окна и с воплями отчаяния бросался на пол. Напрасно призывал он Ипатию, Пелагию, Арсения – всех, кроме Бога. Молиться он был не в силах: он не решался молиться, не знал даже, к кому обращаться. К звездам? К бездне или к вечности?
В мучительном смятении и безнадежной тоске молил он каждого караульного и часового, проходившего мимо его кельи, и заклинал их, как братьев, как отцов, как людей, помочь ему. Но бедный узник как будто лишался дара слова, когда тюремщики, обещая свое содействие, предлагали ему рассказать о своих страданиях.
Так, в состоянии тупого изнеможения, провел узник целую неделю и едва не лишился рассудка. Филимон перестал различать смену дня и ночи, не прикасался к пище, которую ему приносили, и по целым часам сидел неподвижно на полу, охватив голову руками. Им овладела полудремотная апатия. Зачем двигаться, есть, пить? Во всей Вселенной для него существовала только одна цель, но ее-то как раз он и не мог достигнуть.
– Вставай, сумасшедший! – воскликнул хриплый голос. – Вставай и благодари благосклонных богов и нашего милостивого, великодушного наместника. Сегодня он даровал свободу всем заключенным, и я думаю, что такой красивый юноша, как ты, сумеет воспользоваться ею не хуже безобразных негодяев.
Филимон поднял голову и взглянул на тюремщика. Он не вполне понимал его слова.
– Слышишь, что ли? Ты свободен, – повторил тот с проклятием. – Вставай и выходи, а не то я опять запру дверь и ты навеки лишишься удобного случая.
– Танцевала ли она Венеру Анадиомену?
– Она? Кто она?
– Пелагия, сестра моя.
– Одному Богу известно, чего только она не танцевала в свое время. Говорят, будто сегодня она опять пляшет. Выходи скорее! А то я опоздаю на представление. Оно начнется через час. Сегодня в театр пускают всех, и негодяев, и честных людей, и язычников, и христиан. Проклятый парень! Да он ведь право с ума спятил!
Так оно и было. Филимон вскочил, бросился во двор, опрокинул тюремщика и сломя голову выбежал на улицу вместе с толпой освобожденных грабителей и убийц.
Прежде всего он поспешил домой, оттуда – в общественные бани, а затем в театр. Там он протискался к первому ряду скамеек, желая быть ближе к этому ужасному и отвратительному зрелищу.
По странному совпадению проход, по которому ему приходилось идти, шел мимо трона префекта, где Орест уже восседал в роскошном сенаторском одеянии. Рядом с Орестом, к величайшему удивлению и смятению Филимона, сидела Ипатия. Она была прекраснее, чем когда-либо, и походила на лучезарную Юнону. Голову девушки украшала высокая диадема из драгоценных камней, а белая ионического покроя одежда была наполовину скрыта под пурпуровой мантией.
Он заметил, что Ипатия расстроена и печальна. При неожиданном появлении Филимона Орест повернул голову в его сторону и гневным жестом приказал ему удалиться; Ипатия также обернулась и вспыхнула, встретив взгляд своего ученика. Она испугалась и, по-видимому, желала, чтобы он исчез, но, быстро овладев собой, что-то шепнула Оресту и смягчила раздражение наместника. Затем к ней вернулось ее прежнее самообладание и она уселась в кресле с видом человека, приготовившегося ко всему.
Толпа веселых молодых учеников окружила Филимона, со смехом приветствуя его, но не успел он прийти в себя, как занавес раздвинулся и представление началось.
На заднем фоне виднелись декорации, изображавшие пустынные горы, а на самой сцене, перед небольшими хижинами, стояли чернокожие ливийские пленники с женами и детьми. Украшенные блестящими перьями и поясами из длинных кожаных полосок, они потрясали копьями и деревянными щитами и широко раскрытыми глазами глядели на невиданное зрелище.
Среди глубокой тишины глашатай возвестил публике, что эти ливийцы захвачены в плен с оружием в руках и заслуживают немедленной смерти. Но высокородный префект из сострадания к несчастным, а равно и для того, чтобы позабавить послушных и благонамеренных граждан Александрии, разрешает ливийцам защищать свою жизнь и обещает победителям свободу и прощение, если, конечно, они выкажут себя храбрецами.
Несчастным жертвам разъяснили решение префекта. Они встретили эту милость громкими радостными возгласами и еще яростнее стали потрясать копьями и щитами.
Восторг чернокожих был непродолжителен. Трубы возвестили начало боя, и отряд гладиаторов, равный дикарям по численности, выступил из двух больших боковых проходов. Гладиаторы поклонились зрителям, приветствовавшим их рукоплесканиями и, прислонив к сцене лестницы, приготовились к штурму ливийского поселка.
Чернокожие дрались, как львы, но было ясно, что обещание даровать им жизнь оказалось злой насмешкой. Их легкое метательное оружие не могло сравниться с большими мечами и латами опытных гладиаторов, которые спокойно сносили удары по голове и лицу, ибо были защищены шлемами и забралами. И все-таки, несмотря на неравенство сил, гладиаторам пришлось дважды отступить. Все дурные инстинкты развращенной толпы пробудились. С отвращением и изумлением убеждался Филимон, что ни блеск, ни утонченные нравы, ни даже облагораживающее влияние философии не избавляли людей от кровожадных инстинктов. Не подлежало никакому сомнению, что все симпатии зрителей были на стороне наемников, и толпа вдохновляла их, требуя кровавой расправы. В защиту несчастных дикарей не раздалось ни одного голоса: они видели только презрение и жестокую радость в глазах безжалостных зрителей и, упав духом, отступали.
Восторженные крики приветствовали гладиаторов, взобравшихся на искусственные укрепления и завладевших сценой. Несчастные ливийцы, ища спасения, в диком смятении метались из угла в угол.
Тогда началась настоящая резня. Около пятидесяти мужчин, женщин и детей сгрудились на небольшом пространстве, оцепленные тесным кольцом гладиаторов. Ипатия оставалась по-прежнему спокойной. Да и зачем ей было волноваться? Через несколько мгновений все будет кончено: эти черные люди успокоятся навеки… А затем появится Венера Анадиомена, и с ней искусство, веселье и мир. Обаятельная мудрость и красота Древней Греции успокоит все сердца, вызовет благоговейную веру в муз и бессмертных богов, вдохновлявших ее предков в доблестные дерзкие времена.
Но масса черных тел все еще трепетала. Ипатия оглянулась, посмотрела вокруг и встретила взор Филимона, устремленный на нее с выражением ужаса и отвращения.
Ей стало стыдно; она покраснела и, склонив голову, шепнула Оресту:
– Сжалься! Пощади уцелевших!
– Нет, дорогая моя весталка! Народ отведал крови и должен пресытиться ею, а то он разорвет нас на части! А вот беглец! Как ловко мчится этот маленький негодяй!
При этих словах со сцены соскочил мальчик, – единственный, оставшийся в живых, и бросился к ним через арену. Вслед за ним бежала собака с короткой жесткой шерстью.
– Ты получишь этого мальчика, если он добежит до нас!
Затаив дыхание, следила за ним Ипатия. Мальчик был уже посреди оркестра, как вдруг его настиг один из гладиаторов, уже занесший руку для удара; но тут, к изумлению всего театра, мальчик и собака обернулись, бросились на атлета и повалили его на землю. Торжество длилось не долее минуты.
Крик – пощади его! – опоздал. Гладиатору удалось во время борьбы нанести удар мечом, и ребенок был убит.
Атлет поднялся с земли и спокойно направился к боковым выходам, в то время как собака стояла над маленьким трупом, лизала ему руки и лицо и оглашала все здание жалобным воем.
Через секунду явились служители и на длинных крюках поволокли трупы, обагряя арену кровью жертв.
Собака поплелась следом за своими хозяевами, и ее визг наконец замер вдали.
Филимону стало тошно и жутко. Он уже встал, чтобы выбраться на улицу. Но Пелагия! Нет, он должен сидеть и ожидать самого ужасного, если только можно себе представить что-либо более ужасное! Он оглянулся. Зрители невозмутимо ели сладости и пили вино, восторгаясь красотой занавеса, который скрывал сцену от взоров публики.
За занавесом глухо заиграла флейта. Сладостная мелодия, казалось, доносилась откуда-то из неведомых гор и ущелий. Затем из боковых проходов вышли три грации под предводительством Пейто, богини убеждения, державшей в руке жезл герольда. Она направилась к алтарю, стоявшему посреди оркестра, и сообщила зрителям, что во время отсутствия Ареса, принявшего участие в некоем великом походе, Афродита помирилась со своим супругом Гефестом. Этот поход решит вопрос о римском владычестве, а также о счастье и свободе Александрии. В походе особенно близкое участие принимает муж богини красоты, как покровитель искусств и художников. Он уговорил свою прекрасную супругу предстать во всей своей несравненной прелести перед собравшимся народом и в бессловесной поэзии движений выразить чувства, испытанные ею, когда, родившись из пены морской, она впервые узрела дивное небо и роскошную землю, над которыми теперь обрела неограниченную власть.
Крики восторга приветствовали это сообщение, и с противоположной стороны сцены показался хромой бог с молотом и клещами на плече; за ним следовали гигантские циклопы, которые несли различные предметы, сделанные из позолоченного металла.
Гефест, игравший комическую роль в этом мимическом зрелище, хромал с преднамеренной неловкостью и вызывал громкий хохот зрителей. Он подошел к алтарю и с презрительным взглядом разбил его на куски, а затем подозвал своих слуг, велел им убрать обломки и соорудить на их месте нечто более достойное его супруги.
С удивительной быстротой великаны сложили из принесенных металлических частей великолепный пьедестал для жертвенника, украшенный коралловыми ветвями, дельфинами, нереидами и тритонами. Сгибаясь под тяжестью ноши, четыре чудовищных циклопа принесли круглый камень зеленого мрамора, отполированный как зеркало, и поставили его на подножие алтаря. Грации украсили этот символ моря венками из водорослей, раковинами и мхом, а потом отступили в сторону.
Между тем Гефест не сводил взора с занавеса и с нетерпением ожидал появления богини.
Весь театр затаил дыхание и жадно внимал звукам флейт, которые приближались, усиливались и постепенно сливались с гудением цимбал. Занавес раздвинулся при звуках громкой музыки и при восторженных кликах десяти тысяч зрителей.
Сцена изображала роскошный храм, полускрытый искусственным лесом тропических деревьев и кустов; из-за стволов выглядывали смеющиеся фавны и дриады. Двустворчатые двери храма раскрылись с медленной торжественностью; изнутри раздались согласные аккорды инструментов, и показался торжественный поезд Афродиты.
На блестящей колеснице, запряженной белыми волами, была наложена масса редких, ценных плодов и цветов, которые разбрасывались молодыми девушками среди зрителей. За колесницей следовали попарно прекрасные юноши и женщины с венками на голове, одетые в легкие покровы из пурпурового газа. Впереди несли на руках птиц, посвященных богине: голубей, воробьев, ласточек, а за ними гнали массу редкостных тропических птиц – павлинов, золотых и серебряных фазанов, дроф и страусов. Рокот восторженного изумления пронесся над толпой, когда, мерно выступая, стали показываться медведи и леопарды, львы и тигры, которых для этого случая привели наркотическими средствами в полубессознательное состояние; их вели в тяжелых золотых оковах прекрасные отроки, а за отроками двигались безобразные двухклыковые носороги с дальнего юга и стройные, тонкошеие жирафы с большими кроткими глазами. Таких зверей не видывали в Александрии уже с полвека.
– Слава Оресту, достойному наместнику! Благодарим за его великодушие! – кричали зрители.
Послышалось и несколько голосов подкупленных агентов:
– Да здравствует Орест, император Африки!
Но к этим голосам никто не присоединялся.
– Роза еще не распустилась! – цветисто пояснил Орест, нагнувшись к Ипатии.
Орест встал, поклонился с выражением скромной, но глубоко прочувствованной признательности и с торжеством указал на тянувшуюся в глубине сцены пальмовую аллею, в тени которой появилось чудо дня – белый слон с огромными клыками и хоботом. Так вот он, наконец! Сомнения невозможны! Настоящий слон, и притом белый, как снег! Александрия не видала ничего подобного и не увидит впредь!
– Трижды благословенные мужи македонские! – закричал какой-то добряк из задних рядов. – Боги осыпают нас сегодня своими милостями!
Зрители с восхищением упивались великолепием процессии. Слон шествовал торжественно, и пол театра дрожал под его тяжестью, а фавны и дриады в испуге попрятались. Вокруг него с пением и пляской кружился хор нимф, восхваляя непреодолимую власть красоты, укрощающей диких зверей и порабощающей людей и богов. Группы маленьких крылатых купидонов рассыпались справа и слева от оркестра и наделяли публику ароматическими конфетами и крошечными стрелами из своих луков.
Поезд сошел с искусственного возвышения, и слон приблизился к зрителям: клыки его были обвиты розами и миртами, в ушах висели дорогие серьги, повязка из самоцветных камней украшала лоб. На шее у него сидел Эрот, направляя слона острием золотой стрелы. Но кто сидел в колеснице, сделанной в форме раковины? Богиня, сама Пелагия – Афродита!
Все встрепенулись при виде ее обаятельной улыбки, скромно потупленных дивных очей и грациозных движений руки. Единодушный крик восторга потряс стены театра, и десять тысяч глаз пожирали несравненную красавицу.
Вся процессия снова поднялась на возвышение, и слон опустился на колени перед мраморной площадкой, предназначенной для богини. Створки раковины замкнулись; грации отвязали ее от нижней половины колесницы, а слон, загнув хобот на спину, охватил раковину, высоко приподнял ее и опустил на ступени храма около площадки.
Гефест подбежал, сильно прихрамывая. Затем он удалился, а грации, обняв друг друга и приняв строго классические позы, приблизились к авансцене и запели оду Ипатии.
По окончании первой строфы створки раковины снова раскрылись и показалась Афродита, склонившая одно колено. Она подняла голову и окинула взором обширные ряды зрителей. На лице ее отразилось легкое изумление, сменившееся радостным восторгом. Затем, выпрямившись во весь рост, она сделала несколько шагов, ступила на зеленую поверхность мрамора, изображавшего море, и стала выжимать душистую влагу из волнистых кудрей, как делала некогда Афродита, выйдя на побережье.
Затем началась пляска, – чудо искусства, доступное лишь народу с таким совершенным физическим развитием и с таким тонким эстетическим чувством, какими отличались древние греки даже в эпоху своего упадка. В этом танце движения говорили, а покой был выразителен, как движение. Артистка на мгновение стала богиней. Театр, Александрия, блестящая роскошь обстановки – все перестало существовать и для нее и для зрителей, зачарованных всепокоряющим обаянием ее искусства. Подобно ей, они видели лишь пустынное побережье Цитеры и богиню, которая вознеслась над изумрудным зеркалом вод, озаряя красотой, радостью, любовью и море, и воздух, и землю.
Глаза Филимона чуть не выскочили из орбит от стыда и отвращения. Но он не испытывал ни ненависти, ни презрения, ибо на лице Пелагии не выражалось ничего, кроме откровенной радости и удовлетворенного тщеславия ребенка, наслаждающегося своей искусной игрой.
Пелагия продолжала танцевать. Филимону казалось, что смертельная агония длится целые века. Земля и небо исчезли из глаз, и он видел лишь беспрерывное движение белых ног, скользивших по гладко отполированному мрамору. Но вот настал конец. Слон встал и подошел к мраморной площадке. Пелагия скрестила руки на груди и улыбнулась, когда слон, осторожно охватив хоботом ее стан, собирался приподнять красавицу и посадить на приготовленное место. Ее маленькие ножки уже отделились от земли, но тут слон чего-то испугался и, грузно опустив свою легкую ношу на мрамор, испустил пронзительный крик страха и отвращения. Его передняя нога окрасилась кровью, кровью ливийского мальчика, которая просочилась сквозь только что насыпанный песок и выступала на поверхности темными пурпуровыми пятнами.
Филимон не мог долее сдерживаться. В одно мгновение он прорвался сквозь тесно сгрудившуюся толпу зрителей и в безумном порыве, перескочив ряды скамеек, бросился от балюстрады к оркестру.
– Пелагия! Сестра! Моя сестра! Пора сжалиться надо мной и над собой! Я укрою и спасу тебя! Мы вместе убежим из этого ада, притона дьяволов! Я твой брат! Идем!
С минуту она смотрела на него растерянным взором, и вдруг все ей стало ясно…
– Брат!
Она ринулась с платформы к нему. Она вспомнила высокое окно в Афинах, откуда открывался вид на далекие оливковые рощи, вспомнила блестящие кровли и корабельные верфи Пирея, и дивное голубое море. Черноокий мальчик стоял возле нее, он обвивал ее шею, смеясь указывал на мачты гавани и называл ее сестрой. Разом воскресла в ней заснувшая было душа, и, громко вскрикнув, она попятилась от него, ощущая мучительный стыд. Пелагия закрыла лицо руками и упала на окровавленный песок.
Весь театр огласился неистовыми воплями:
– Долой его! Прочь его! Распять раба! Бросьте варвара диким животным! Пусть они его разорвут на части, благородный повелитель!
На Филимона кинулась толпа служителей, многие зрители вскочили с мест и готовились броситься в оркестр. Но молодой монах встрепенулся, как разгневанный лев. Его голос ясно и отчетливо зазвенел среди рева освирепевших зрителей:
– Да, убейте меня, зарежьте, как зарезали римляне святого Телемака! Вы – обольщенные гнусные рабы, достойные своих распутных презренных деспотов! Вы хуже животных, которым вы бросаете людей! Жестокость и разврат сродни друг другу, и позорный престол моей сестры высится на настоящем месте, над кровью невинных жертв! Пусть моей смертью закончатся жертвоприношения дьяволу и да наполнится до краев чаша грехов!
– Бросить его зверям! Пусть растопчет его слон!
Громадное животное, натравленное вожаками, бросилось на юношу. Слон охватил хоботом Филимона и высоко приподнял его. Юноша попробовал пробормотать молитву и закрыл глаза, но тут зазвучал нежный голос Пелагии, не утративший своей прелести даже в минуту душевной муки:
– О, пощадите его! Он – брат мой! Простите ему, мужи македонские! Простите ему ради Пелагии, ради вашей Пелагии! Я прошу милости, только этой милости!
С мольбой протянула она к публике руки, а потом обняла огромные ноги слона и заговорила с ним, как безумная, прося и нежно лаская его.
Зрители в нерешимости колебались, но животное спокойно опустило закинутый хобот и поставило на ноги Филимона. Монах был спасен. Оглушенный, ошеломленный, он едва ощутил прикосновение слуг, которые протащили его через длинные, темные проходы и наконец вытолкнули на улицу. Одни его предостерегали, другие проклинали, третьи поздравляли и желали счастья, но все проносилось перед ним, как во сне.
А Пелагия по-прежнему закрывала руками лицо. Наконец, подавленная невыразимой тоской, она медленно вернулась через оркестр и исчезла между олеандрами и пальмами, не обращая ни малейшего внимания на насмешки и угрозы, проклятия, просьбы и неистовые рукоплескания громадной толпы грешных рабов.
Казалось, что неожиданная катастрофа разрушила тщательно обдуманные планы Ореста. Зрители были недовольны и разочарованы. Многие христиане собирались уходить, искренно стыдясь и раскаиваясь, что были добровольными зрителями подобного зрелища. Простой народ, сидевший на задних скамьях, удовлетворив свое любопытство, начал возмущаться языческой жестокостью празднества, и даже Ипатия закрыла лицо руками.
Только один Орест не растерялся в этот критический момент. Теперь или никогда! Выступив вперед, он водворил тишину властным движением руки, а затем произнес искусно подготовленную речь:
– Не могу допустить, мужи македонские, что ваше спокойствие духа, столь необходимое политическим деятелям, могло быть возмущено, хотя бы на мгновение, капризом танцовщицы. Зрелище, которое я имел честь и удовольствие предложить вам (рукоплескания и радостный рев со стороны знатной молодежи и освобожденных узников) и к которому вы, по-видимому, отнеслись с некоторой благосклонностью (новые одобрения, поддержанные отчасти и христианской чернью), является лишь веселым введением для более важного дела, по которому созвал я вас сюда. Свою преданность интересам народа, свои благие намерения доказал я не только помилованием невинных страдальцев, но и даровой раздачей продуктов, которые составляют исконное и неотъемлемое богатство Египта, хотя ваши последние тираны отсылали их распутному далекому двору.
Быть вашим представителем, вашим слугой, принести в жертву самого себя, свое время, здоровье, даже жизнь ради обеспечения самостоятельности Александрии, – вот тот труд, надежда и слава, к которым я стремился в течение долгих лет. Но этим упованиям суждено осуществиться только после падения призрачного римского императора. Помните, мужи македонские, что Гонорий свержен! На троне цезарей восседает африканец! После решительной победы, ниспосланной милостью неба, ему выпал на долю императорский пурпур, и новая эра наступает для мира! Предоставим римскому триумфатору свести счеты с тем византийским двором, который столько времени расточал наши богатства и угнетал нашу жизнь, и да возникнет свободная, независимая, объединенная Африка вокруг дворцов и складов Александрии, являющейся естественным средоточием гражданского управления и общественного развития.
Ореста прервали громкие крики подкупленного одобрения, к которым присоединились и многие зрители, отчасти тронутые его лестью, отчасти решившие по личным соображениям примкнуть к более сильной стороне.
Городские власти хотели было провозгласить Ореста императором, но сдержались, выжидая инициативы влиятельного лица, за которым можно было бы смело последовать. Начальник гвардии, человек решительный, пощекотал острием кинжала смотрителя доков, убеждая его не быть изменником.
Почтенный гражданин, не то из боязни, не то из патриотизма, мгновенно проревел:
– Да здравствует император Орест!
Этот крик был подхвачен почтенным сборищем, приветствовавшим с замечательным единодушием префекта, провозглашенного императором.
Тогда поднялась Ипатия и, бурно приветствуемая своими аристократическими учениками, опустилась перед Орестом на колени, хотя в душе чуть не умирала от стыда и отчаяния. Она просила его принять верховную власть, которую подносил ему боготворивший его народ, и умоляла его взять под свое высокое покровительство греческую торговлю и греческую философию.
– Все это ложь, – воскликнул вдруг голос из третьего ряда скамеек, предназначенного для женщин низших сословий. Все головы в изумлении обратились туда.
– Ложь! Ложь! Вы обмануты! Обмануты! Гераклиан потерпел под Остией полное поражение и бежал в Карфаген, преследуемый императорским флотом!
– Врет! Долой эту тварь! – кричал Орест, совершенно лишившись самообладания от столь неожиданного происшествия.
– Он сам лжет! Я – монах, сам привез эту новость. Кирилл это знал! Каждому еврею в Дельте это известно уже с неделю. Так гибнут все враги Божии, пойманные в собственных сетях!
И монах исчез, пробравшись сквозь толпу обступивших его женщин. Зловещее молчание последовало за его словами. Зрители смотрели друг на друга с такой злобой, точно желали перерезать горло свидетелям собственной измены.
Поднялась отчаянная суматоха, и Орест напрасно пытался успокоить возбужденные умы. Поверил ли народ монаху, или нет, – неизвестно, но им овладела паника при одной мысли, что слова монаха могут оказаться справедливыми. Охрипнув от опровержений, уверений и воззваний, Орест собрал, наконец, вокруг себя и Ипатии свою стражу и стал пробираться к выходу. Толпа растаяла, словно снег под теплым дождем, и понеслась бурливым стремительным потоком вдоль улиц. На всех церквах уже висели официальные объявления Кирилла о поражении Гераклиана со всеми подробностями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































