Текст книги "Ипатия"
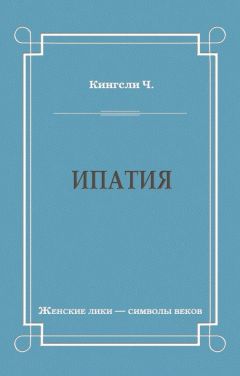
Автор книги: Чарльз Кингсли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Глава VIII
Восточный ветер
На следующее утро, когда Ипатия торжественно направилась в свою аудиторию, сопровождаемая благоговейной толпой философов, философствующих умников, знатной молодежи и учеников, ей преградил дорогу оборванный нищий, за которым шла большая собака свирепого вида. Он протянул к ней грязную руку и попросил подаяния.
Утонченный вкус Ипатии не выносил ничего некрасивого и низменного, и она отступила назад, приказав рабу, шедшему за ней, бросить бедняку монету и поскорее удалить его. Некоторые из юных щеголей начали издеваться над нищим, стараясь показать свое остроумие. Он слушал с поразительным спокойствием, но, когда ему подали милостыню, оттолкнул руку жертвователя и не двигался с места, видимо, желая помешать Ипатии идти дальше.
– Что тебе надо? Господа, прогоните этого несчастного с его ужасной собакой, – с тревогой сказала прекрасная Ипатия.
– Прекрасная сивилла, ты, по-видимому, уже забыла самого преданного из своих учеников, так же, как забыли его эти щенки.
И нищий сдвинул со лба широкополую соломенную шляпу, скрывавшую черты Рафаэля Эбн-Эзра.
Ипатия отступила с криком изумления.
– А, ты изумляешься? Чему, смею я спросить?
– Мне странно видеть тебя в таком костюме.
– Что же тут особенного? Ты нам долго проповедовала, как прекрасно избегать обольщений чувств. Не высокого же ты мнения и о своих учениках, и о влиянии собственного красноречия, если ты так поражена поступком одного из своих последователей, который решился, наконец, на деле осуществить твои мечты.
– Что означает этот наряд, почтенный Рафаэль Эбн-Эзра? – спросило несколько голосов.
– Спрашивайте у Кирилла. Я отправляюсь в Италию и хочу разыграть роль нового Диогена – искать Человека. Если я найду такое чудо, то с радостью возвращусь и поделюсь с тобой этим необычным открытием. Прощай! Мне хотелось еще раз взглянуть на твое лицо. Как видишь, я обратился в циника. Теперь единственным наставником моим будет моя собака, которая, к счастью, не требует вознаграждения. А если бы она пожелала получить плату, то я остался бы совсем без учителя, так как богатство моих предков вчера утром улетучилось. Вы слышали, конечно, что произошел бунт, направленный против евреев и удавшийся как нельзя лучше благодаря руководству святого народного трибуна?
– Постыдное дело!
– И опасное, моя дорогая повелительница. Успех вдохновляет… Дом Теона так же легко ограбить, как и еврейский квартал. Берегись.
Ипатия наклонилась к Рафаэлю и прошептала на сирийском языке:
– Останься, прошу тебя! Ты самый способный из моих учеников, быть может, самый верный… Мой отец найдет тебе убежище, где можно скрыться от злодеев. Если же ты нуждаешься в деньгах, то помни, что он твой должник. Мы тебе до сих пор не отдали золото, которое…
– Прекраснейшая из муз, это была лишь моя плата за вход на Парнас Я твой должник и этим опаловым кольцом хотел бы погасить числящиеся за мной недоимки. Что же касается до пребывания под твоей кровлей, – продолжал он еще тише и также по-сирийски, – то язычница Ипатия слишком прекрасна и может нарушить душевное спокойствие еврея Рафаэля.
И, сняв с пальца кольцо, подаренное Мириам, он подал его Ипатии.
– Не надо! – воскликнула девушка, зардевшись, – я не могу его принять.
– Умоляю тебя, возьми его. Кольцо – мое последнее земное бремя, если не считать сию темницу из плоти и крови, в которой томится мой дух. Я вынужден настаивать на своей просьбе, потому что воины Гераклиана способны убить меня из-за этой драгоценности.
– Но неужели ты не можешь продать кольцо и бежать к Синезию? Он даст тебе приют.
– Этот гостеприимный непоседа? Правда, он даст мне приют, но лишит покоя. С таким же удобством я мог бы расположиться и в кратере Этны. Он будет говорить весь день и всю ночь, стараясь вбить мне в голову ту эклектическую смесь, которую ему угодно называть философским христианством. Но если ты ни в коем случае не хочешь взять кольцо, то я все-таки сумею быстро освободиться от него. Мы, восточные люди, умеем быть расточительными и сходить со сцены так, как приличествует владыкам мира.
И он обратился к толпе философов:
– Вот, господа представители Александрии, не желает ли какой-нибудь повеса сразу рассчитаться со всеми своими долгами? Это радуга Соломонова! Посмотрите, вот опал, еще не виданный в Александрии; тому, кто пожелает стать обладателем этого сокровища стоимостью в десять тысяч золотых, придется вынуть его из водосточной трубы, в которую я его бросаю.
Рафаэль хотел уже бросить драгоценность на мостовую, как вдруг кто-то схватил его за руку и вырвал кольцо. Молодой еврей гневно обернулся и увидел старую Мириам, глаза которой пылали яростью и презрением.
Собака мгновенно кинулась к горлу старухи, но попятилась, испуганная ее сверкающим взором.
Рафаэль позвал собаку и с невозмутимым видом обратился к разочарованным зрителям:
– Делать нечего, мои незадачливые друзья! Вам придется, кажется, призанять денег, хотя после ухода нашего ненавистного племени это будет много труднее, чем раньше. Богини рока, правительницы вселенной, которым даже философы не могут противиться, вернули прежнему владельцу эту чудную радугу Соломона. Прощай, царица философии! Если я найду Человека, то ты об этом услышишь. А с тобой, матушка, я хотел бы еще раз дружески побеседовать, прежде чем расстаться, – добавил Рафаэль и ушел вместе с Мириам.
Ипатия продолжала свой путь к музею. Она была смущена этой странной встречей и еще более изумлена заключительной сценой.
Она подавила свое волнение и ничем не обнаруживала его, пока, наконец, не осталась одна в небольшой приемной, находившейся возле аудитории.
Здесь она бросилась в кресло и, совершенно неожиданно для себя самой, почувствовала, что слезы навернулись у нее на глазах.
Девушка-философ теряла в лице Рафаэля самого преданного ученика, а может быть, даже своего единственного учителя. Она ясно понимала, что под личиной Силена[21]21
Силены – низшие божества греческой мифологии.
[Закрыть] таилась натура, способная на то, о чем она едва дерзала помышлять.
Но кто же теперь мог заменить его? Не отец ли? Человек, увлекающийся исключительно математикой, ученый, для которого нет ничего дороже треугольника и конических сечений! Как жалки все они в сравнении с талантливым и дерзким евреем! Все они ткут изящную паутину, но мухи не хотят оставаться в ней. Они строят воздушные замки, но люди не находят в них приюта. Они проповедуют возвышенную нравственность, но их ученики и не думают проводить ее в жизнь.
Прошло несколько минут.
Ипатия вытерла глаза и гордо вступила в аудиторию. При рукоплескании всего собрания поднялась она на кафедру и начала поучать… Будут ли повиноваться ей эти слушатели? Станут ли они исполнять ее требования? Все равно. Ипатия прочитала половину лекции, прежде чем ей удалось овладеть собой и изгнать воспоминание о Рафаэле.
Вот что проповедовала девушка-философ.
– Истина! Где она, если не в душе человека? Факты, предметы – все это только призраки, сотканные из материи. Через покров чувственного восприятия постигаем мы духовную истину, которая таится под случайной оболочкой. Поэтому-то философ может пренебречь фактами ради идеи, скорлупой ради ядра, телом ради души, символом которой является плоть. Для философа безразлично, были ли образы Гектора и Приама, Елены и Ахиллеса когда-либо доступны людскому взору, обладали ли они обычными жизненными формами. Что нам за дело, так ли говорили они и мыслили, как вещал о них слепой певец? Неужели можно утверждать, что его дивная душа унизилась до описания действительно происходивших пиршеств, плясок, ночных разбоев, преданных собак и верных свинопасов? Унизительная мысль! Так может говорить только грубая, ограниченная чернь, способная ценить только то, что доступно осязанию и зрению. Если рассуждать так, то почему не поверить книгам христиан, рассказывающим о божестве с руками и ногами, глазами и ушами, о божестве, которое достигло совершенства, воплотившись в сына крестьянской девушки и, осквернив себя потребностями, свойственными самым низким рабам…
– Это ложь! Это богохульство! Священное Писание не может лгать, – раздался чей-то громкий голос с другого конца зала.
Филимон не выдержал. Он слушал лекцию, не столько внимая словам Ипатии, сколько любуясь красотой учительницы, прелестью ее осанки, благозвучием ее голоса. Первый раз в жизни вставали перед ним основные вопросы религии и философии.
«Кто я и что я? Откуда я явился? Что могу знать? – спрашивал себя юноша, чувствуя, однако, что необходимо бороться против властного очарования. – Ведь она язычница, эта чудная красавица. Ее считают пророчицей!»
Когда представился случай ухватиться за нечто осязательное, на что можно возражать, Филимон заговорил, отчасти потому, что был возмущен богохульством Ипатии, отчасти потому, что чувствовал необходимость перейти к делу.
В аудитории раздались громкие крики:
– Выбросить монаха! Вышвырнуть этого дурака за окно!
Некоторые из наиболее отважных молодых людей перепрыгнули через скамьи и устремились к Филимону, который радостно приготовился встретить славную мученическую кончину. Но сейчас же раздался серебристый голос Ипатии:
– Господа, позвольте юноше продолжать слушать лекцию. Он простой монах, необразованный и ничего не знающий. Его ничему не учили. Пусть он сидит спокойно, и, быть может, нам удастся внушить ему иные понятия.
Ипатия, как ни в чем не бывало, продолжала прерванное чтение.
– Обратимся теперь к отрывку из шестой книги Илиады, где я нашла подтверждение моей мысли. Все вы знаете это великое творение, но я все-таки хочу его прочесть.
И Филимон впервые услыхал чтение мощных стихов Гомера.
Она читала сцену, где описывается прощание Гектора с Андромахой.
– Вот миф. Полагаете ли вы, что Гомер хотел передать грядущим векам такие общие места, как животная любовь матери и испуг ребенка? Без сомнения, глубокому взору философа позволительно усмотреть в этой сцене указания на величавую тайну, не заслуживая упрека в фантастическом произволе.
Ипатия с увлечением говорила о Гомере, объясняла те или другие сцены из его бессмертного творения и, наконец, заключила лекцию словами:
– Смейтесь, если хотите, но не ждите, чтобы я вас научила неизъяснимым вещам, которые превосходят всякую науку. Они недоступны вам! Жалкие циники, идите прочь! Прочь и вы, стоики, поклоняющиеся чувствам! Еще несколько дней томления в этой темнице нашего духа – и все вернется к своему первоначальному источнику: капля крови к неведомому мировому сердцу, вода к потоку, а поток к сверкающему морю. Росинка, упавшая с неба, вновь воспарит к небесам, освободившись от песчинок, удерживавших ее на земле; она оттает от мороза, приковывавшего ее к траве, и устремится вверх, паря над звездами и солнцами, над богами и отцами богов, последовательно очищаясь в различных фазах бытия, пока не достигнет того Ничто, которое есть все, и не найдет, наконец, свою истинную родину.
Ипатия внезапно остановилась; в ее глазах засверкали слезы, и вся она трепетала от восторга. С минуту она оставалась неподвижной и сосредоточенной, глядя на своих слушателей и точно надеясь воспламенить в них родственную искру. Потом, овладев собой, она добавила задушевным, несколько грустным тоном:
– Теперь идите, мои ученики. Ипатии нечего больше сказать вам сегодня. Ступайте, но так как Ипатия все же женщина, то избавьте ее от мучительного сознания, что она слишком много дала вам, приподняв покров Изиды перед недостойными очами! Прощайте!
Ипатия замолчала. Замер ее чарующий голос, и Филимон, быстро вскочив, выбежал на улицу…
Как она прекрасна, как спокойна! Как вдохновляется она всем благородным! Не говорила ли она о невидимом мире, о надежде на бессмертие, о торжестве духа над плотью, точно так же, как говорил бы истинный христианин на ее месте? Разве такие речи можно назвать обольщением? Кто она? Служительница Сатаны в оболочке ангела света? А светом она действительно была: чистота, сила воли и нежная любовь сияли в ее глазах и выражались в каждом движении.
Не успел Филимон сделать несколько шагов по улице, как маленький человек схватил его за руку; это был тот самый носильщик, которому он помог донести корзину с фруктами и которого он не видел с той минуты, как тот исчез в проходе под ногами толпы. Суетливый человечек схватил его за руку и, задыхаясь, проговорил:
– Боги… осыпают… своими милостями тех, кто меньше всего заслуживает этого! Ты дерзкий, глупый человек, а между тем тебе везет.
– Оставь меня, – сказал Филимон, которому вовсе не хотелось возобновлять знакомства с маленьким человечком.
Но хранитель зонтиков крепко держал его за край одежды.
– Безумец! Сама Ипатия призывает тебя! Она зовет тебя к себе, бесчувственный истукан! Теон прислал меня за тобой, – добавил носильщик дрожащим от зависти и быстрой ходьбы голосом. – Ступай, любимец несправедливых богов.
– А кто же это Теон?
– Ее отец, невежда! Он приказывает тебе явиться к ней в дом, вот сюда, напротив, завтра же, в третьем часу. Слушай и повинуйся! Ах, что это? Все выходят из музея и могут перепутать зонтики! О, я несчастный!
И бедный маленький человечек бросился назад. Филимон, ошеломленный, охваченный страхом и любопытством, быстро шел по дороге к Серапеуму. Молодого монаха толкали и едва не сбили с ног, но он ничего не видел и не сознавал. Ему хотелось скорее очутиться в жилище архиепископа и побеседовать с ним. Разыскав Петра, он попросил, чтобы Кирилл дал ему аудиенцию.
Глава IX
Струна лопается
Кирилл с улыбкой выслушал рассказ Филимона о лекции Ипатии и отпустил юношу в город на обычные монашеские работы. Он приказал Филимону никому не рассказывать о своих приключениях, а за дальнейшими приказаниями зайти вечером, когда он успеет все обдумать.
Филимон вместе с товарищами отправился странствовать по тесным переулкам. Все окружающее казалось юноше мрачным сном. Перед его глазами сияло лицо Ипатии, в ушах звучал ее серебристый голос, говоривший: «Он монах и невежда! Его ничему не учили!»
Речь Ипатии, как дивная музыка, продолжала звучать в ушах юноши, не ослабевая, не замирая. Это возвышенное вдохновение, кроткое и скромное при всем своем величии, это чувство жалости, сквозившее в ее обаятельном существе и совсем не походившее на презрение, эта печать избрания – все это делало ее непохожей на толпу.
Филимон изнемогал под тяжким бременем новых впечатлений и метался, как больной в лихорадочном жару.
«Не растрачиваю ли я попусту свои силы? – думал юноша. – Ведь я обладаю и разумом, и вкусом? Почему же не развить моих способностей? Наряду с христианским познанием существует и языческое. Разве стремление мое к знанию не является доказательством того, что я способен к его усвоению?» Спутники Филимона, – он вынужден был в этом себе признаться, – казались ему теперь гораздо менее почтенными. Ему невольно вспомнились рассказы и сетования старого священника, ибо факты говорили за себя. Эти люди, взявшие на себя обязанность помогать ближнему, оказались грубыми, неприветливыми, жестокими. Без единого слова сострадания говорили они об убитых или загубленных жертвах и толковали со смехом о прошлых или предстоящих погромах, считая, что любое бедствие – достойная небесная кара для еретиков и язычников. Они спорили о страшной борьбе, которая вот-вот грозила вспыхнуть между императором и наместником Африки, и интересовались только одним вопросом: возрастет или уменьшится в конце концов власть Кирилла, а следовательно и их собственная. Упоминая об Оресте и о советнице его Ипатии, они разражались проклятиями, призывали небесный гром на их головы и утешали себя надеждой, что их постигнут адские муки.
Филимон слушал и изумлялся: «Неужели, – думал он, – это служители Евангелия? Неужели они христиане?»
И в глубине души неиспорченного юноши голос сомнения шептал: «Существует ли Евангелие для этих людей? Понимают ли они дух Христов? Неужели все это были плоды христианства?»
Утомленный работой и еще более измученный думами, Филимон возвратился домой поздно вечером. Он надеялся и в то же время боялся, что ему будет разрешена вторая беседа с Ипатией.
В доме патриарха царило необычайное оживление. Группы монахов, священников, параболанов, богатые и бедные горожане стояли посреди двора, возбужденно беседуя между собой. Кучка монахов из Нитрии громко и дико кричала, убеждая более миролюбивых товарищей смыть оскорбление, нанесенное церкви. У этих монахов были всклокоченные волосы, длинные бороды и то характерное выражение, которое свойственно фанатикам всех национальностей. С бледными лицами, истомленные постом и самоистязаниями, в длинных изодранных одеяниях, окутывавших тело с ног до головы, они казались спесивыми, самоуверенными и в то же время тупыми и лукавыми.
– Что случилось? – спросил Филимон какого-то статного горожанина, спокойно стоявшего в стороне и смотревшего вверх на окна патриарха.
– Не спрашивай, – мне нет до них никакого дела! Отчего не выходит его святейшество и не поговорит с ними? О, Пресвятая Дева Мария, хоть бы скорее все это кончилось!
– Трус! – проревел монах над его ухом. – Эти торгаши ни о чем не беспокоятся, пока их лавки в безопасности. Они готовы отдать церковь на разграбление язычникам, лишь бы только не потерять своих покупателей.
– Не надо нам никого! – кричал другой. – Мы справились с Диоскуром и его братом и, конечно, одолеем Ореста! Нам безразлично, какой ответ он пришлет. Дьявол получит то, что заслужил.
– Они должны были бы вернуться часа два тому назад. Теперь их, наверное, убили.
– Он не посмеет их тронуть! Ведь один из посланных – архидиакон!
– Пустяки! Он на все отважится. Но Кириллу не следовало ни под каким видом посылать их, как овец в волчье стадо. Зачем понадобилось уведомлять наместника об уходе евреев? В свое время он и сам бы об этом узнал, как только ему понадобились бы деньги.
– Что это все значит, почтенный отец? – спросил Филимон Петра, который вне себя от ярости бегал взад и вперед по двору.
– А, ты тут? Подожди до завтра, молодой безумец, у патриарха нет времени говорить с тобой. Да о чем вам толковать? По-моему, есть люди, которые слишком высоко задирают нос. Да, ты можешь идти к ней, но если ты еще не совсем спятил с ума, то, вероятно, завтра лишишься последней капли рассудка. Мы скоро увидим, чем кончится эта история и как будет унижен тот, кто сам себя возвышает!
Петр хотел удалиться, но Филимон удержал его, рискуя вызвать новую вспышку гнева. Юноша не ошибся.
Петр с яростью обернулся к нему:
– Дурак, как смеешь ты надоедать Кириллу своими глупыми вопросами в такую трудную минуту?
– Он сам приказал мне прийти сегодня вечером, – произнес Филимон кротко. – И я пройду к нему во что бы то ни стало. Ведь не захочешь же ты лишить меня его совета и благословения?
Петр злобным взором поглядел на Филимона. Вдруг он ударил его по лицу и стал звать на помощь.
Если бы старец Памва, в лавре, дал ему пощечину, то Филимон спокойно перенес бы такое наказание, но неожиданное оскорбление от такого человека, как Петр, переполнило чашу разочарований. Юноша не стерпел удара, и в одно мгновение длинная фигура Петра очутилась на мостовой. Как раненый бык, громко ревел Петр, призывая на помощь всех монахов Нитрии.
Дюжина грязных загорелых людей бросилась на Филимона. Петр с трудом поднимался на ноги.
– Держите его! Держите его! – кричал он. – Изменник! Еретик! Он братается с язычниками!
– Долой его! Выбросить его! Ведите его к архиепископу! – орало множество голосов.
Филимону удалось вырваться, а Петр продолжал выкрикивать свои обвинения.
– Я призываю в свидетели всех добрых христиан! Он ударил духовное лицо… И где же, в обители Господа! В твоих стенах, о Иерусалим! Сегодня утром, я знаю наверное, он посетил аудиторию Ипатии.
Поднялся ропот и шум, послышались бранные крики. Филимон прислонился спиной к стене и отвечал спокойно:
– Меня послал его святейшество, патриарх.
– Он сознается, он сознается! Он злоупотребляет добротой патриарха и обманывает его. Лукавством и хитростью он добился разрешения посетить лекцию Ипатии под предлогом обращения язычницы. Даже сейчас он осмеливается докучать архиепископу. Он увлекся плотской страстью к проклятой колдунье и намеревается завтра опять идти к волшебнице!
Толпа бросилась на бедного юношу. Наиболее осторожные из крикунов, как это обыкновенно бывает в подобных случаях, благоразумно удалились и предоставили юношу на растерзание монахам. Они заботились о своей репутации, а с другой стороны, не желали подвергать себя опасности.
Филимону нечего было рассчитывать на помощь. Он оглянулся кругом, ища какого-нибудь оружия, но ничего не находил. Монахи окружили его, и хотя с каждым в отдельности юноша легко мог бы справиться, но борьба со всеми была невозможна.
– Пустите меня! – смело сказал Филимон. – Богу известно, еретик ли я, и пусть сам Он судит меня. Святой патриарх узнает о вашей несправедливости. Я не буду оправдываться. Называйте меня, как хотите, еретиком или язычником, но я не перешагну этот порог, пока сам Кирилл не призовет меня обратно и не пристыдит вас!
Юноша двинулся вперед и силой проложил себе путь к воротам, не обращая внимания на вой и насмешки, хотя кровь его кипела от незаслуженного оскорбления. Пока он шел под сводчатым проходом, на него дважды хотели напасть сзади, но более разумные из преследователей помешали этому.
Порывистый и горячий юноша не хотел уйти, не сказав последнего слова, и, остановившись у выхода, обратился к своим гонителям:
– И вы еще называете себя учениками Господа Бога! Нет, такие люди, как вы, подобны адским духам, которые денно и нощно живут среди могил и с диким воем осыпают друг друга камнями!
Толпа снова ринулась на него, но, к счастью, совершенно неожиданно столкнулась с группой духовных лиц, которые спешили во двор с бледными, искаженными от страха лицами.
– Он отказал, – кричали они. – Он объявляет войну церкви Божьей!
– О, друзья мои, – говорил один из посланцев – архидиакон, едва переводя дыхание, – мы спаслись, словно птицы из силков птицелова. Тиран заставил нас ждать два часа перед воротами своего дворца, а потом выслал к нам ликторов с веревками и топорами и приказал сказать, что это единственный его ответ разбойникам и мятежникам.
– Назад, к патриарху!
Вся толпа повалила обратно, и Филимон остался один, один на всем свете…
– Куда теперь идти? Что делать?
Он прошел сотни две шагов, прежде чем задать себе этот вопрос, на который не было ответа.
Его несло по течению, его выбросило из гавани в открытое море, в непроглядную тьму. Земля и небо скрылись у него из глаз. Он был одинок, и гнев душил его.
Он долго шел, прежде чем очутился в аллее, которая ему показалась знакомой.
Не виднеются ли там вдали ворота Солнца? Филимон беззаботно шел все дальше и дальше и, наконец, очутился на большой площади, куда дня три тому назад привел его маленький носильщик.
Итак, значит, он был вблизи музея, около дома Ипатии.
Юноша не знал, в котором из домов жила Ипатия, но дверь музея он помнил отлично. Усевшись возле ограды сада, освеженный прохладой ночи, очарованный священной тишиной и ароматом неведомых цветов, Филимон тщетно ждал, не появится ли существо, ради которого он пришел сюда.
Он осмотрелся и увидел, что одно окно было открыто и из него лился яркий свет лампы… Юноша встал и сделал несколько шагов, чтобы заглянуть во внутренность освещенной комнаты. Хотя окно находилось высоко, ему все же удалось различить полки с книгами и картины, развешанные по стенам. Затем он услышал чей-то голос. Голос был женский.
Ипатия громко читала стихи, он явственно различал в ночной тишине отдельные звуки и замирал от восторга, точно прикованный неведомыми чарами.
Но вот голос умолк; женская фигура подошла к окну и остановилась, глядя на чистое звездное небо и словно упиваясь великолепием, безмолвием и одуряющими ароматами.
Она ли это?
Сердце юноши сильно и порывисто забилось… Филимон не мог разглядеть лица Ипатии, но яркий свет месяца озарял ее лоб, поднятый кверху и окаймленный золотистыми прядями волос, падавшими на ее плечи.
– Что она делает? Что? Молится? Творит свои ночные заклинания?
Сердце юноши билось и стучало, и ему казалось, что до нее непременно должно долететь это шумное биение.
Но Ипатия ничего не слыхала. Словно изящное изваяние из слоновой кости, она продолжала стоять неподвижно, созерцая небо. А позади нее, в ярко освещенном покое, множество картин и книг, целый мир неведомого знания и красоты…
Ипатия, жрица всего прекрасного в мире, пригласила его учиться и стать мудрым! Искушение! Мгновениями Филимону хотелось бежать. «Безумец я, – быть может, это вовсе и не она!» – подумал юноша. И он сделал неосторожное движение. Ипатия взглянула вниз, увидела чью-то фигуру, быстро затворила ставни, исчезла и больше не появлялась. Смертельно уставший, молодой монах скоро заснул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































