Текст книги "Ипатия"
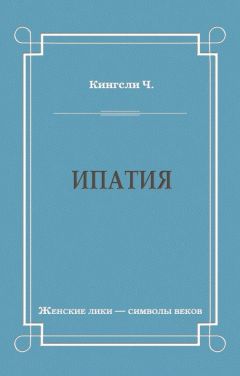
Автор книги: Чарльз Кингсли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Пелагию они уважали, правда, не больше чем остальное человечество, но в это мгновение она была не александрийская Мессалина, а просто девушка. Охваченные древним инстинктом почитания женщины, они смотрели, не отрываясь, на ее глаза, выражавшие не только великодушное сострадание и благородное негодование, но и чисто женский страх. Они отошли в сторону и перешептывались.
С минуту нельзя было сказать, что восторжествует – добро или зло. Затем Пелагия ощутила на своем плече тяжелую руку и, обернувшись, увидела Вульфа, сына Овиды.
– Назад, красавица! Товарищи, я требую юношу для себя. Смид, отдай мне его – он твой. Ты мог его убить, если бы захотел. Ты этого не сделал, и никто, кроме тебя, не смеет этого сделать.
– Дай его нам, викинг Вульф! Мы так давно не видали крови.
– Вы увидали бы целые потоки ее, если бы решились идти вперед. Этот парень мой, он храбрый парень. Он сегодня победил воина и пощадил его; за это мы из него сделаем тоже воина.
Вульф приподнял распростертого монаха.
– Ты теперь принадлежишь мне! Любишь ли ты войну?
Филимон, не понимавший языка, на котором тот обратился к нему, кивнул головой. Впрочем, говоря по совести, он не ответил бы отрицательно, даже если бы понял смысл вопроса.
– Он покачал головой! Он не любит войны! Он трус! Отдай его нам!
– Я уже убивал людей, когда вы еще стреляли в лягушек! – вступился Смид. – Послушайте меня, сыны мои! Трус сильно сопротивляется в первое мгновение, но быстро ослабевает. Рука же храброго становится тем тверже, чем дольше он держит противника, ибо на него нисходит дух Одина. Я испытал прикосновение этого юноши и уверяю вас, из него выйдет мужчина. Я его сделаю мужчиной. А пока мы извлечем из него пользу. Дайте ему весло!
Воины снова взялись за весла, вложив одно из них в руки Филимона, который заработал с такой силой и ловкостью, что его мучители, в сущности добродушный народ, несмотря на некоторую склонность к убийству и грабежу, начали ласково трепать его по плечу. А затем все, не занятые греблей, отправились осматривать только что убитого диковинного зверя.
Глава IV
Мириам
На той же неделе, рано утром, любимая рабыня Ипатии с испуганным лицом вошла в комнату своей госпожи.
– Старая еврейка, колдунья, которая так часто подсматривала за тобой последнее время… Вчера вечером она заглянула в дверь и страшно испугала нас. Мы все сказали, что если у кого дурной глаз, то именно у нее.
– Что ей нужно?
– Она внизу и хочет говорить с тобой, госпожа. Я сама не боюсь ее, потому что на мне надет амулет. Наверное, и ты его носишь?
– Глупая девушка! Те, кто, подобно мне, посвящены в таинства богов, презирают духов, потому что могут повелевать ими. Неужели ты думаешь, что любимица Афины Паллады унизится до волшебства? Пошли ее наверх…
Девушка удалилась, бросив на свою госпожу боязливый взгляд. Вскоре она вернулась со старой Мириам, держась из предосторожности позади. Мириам вошла, поклонившись до земли, и не спускала глаз с гордой красавицы, которая приняла ее сидя.
Лицо еврейки было худощаво, а полные резко очерченные губы носили отпечаток силы и чувственности. Но что мгновенно привлекло и приковало внимание Ипатии – это черные глаза старухи, со странным сухим блеском. Окруженные густой каймой ресниц, они горели, выделяясь на фоне черных с проседью кудрей, покрытых золотыми монетами. Ипатия не могла оторваться от этих глаз. Она покраснела и рассердилась совсем не по-философски, когда заметила, что старуха смотрит на нее не отрываясь. После краткого молчания Мириам вытащила из-за пазухи письмо и передала его, еще раз низко поклонившись.
– От кого это?
– Быть может, само послание ответит прекрасной госпоже – счастливой, мудрой, ученой госпоже, – заговорила Мириам льстиво. – Может ли бедная старая еврейка знать тайны важных господ!
– Важных господ?
Ипатия взглянула на печать, скреплявшую шелковый шнурок, которым было обвито послание. Печать и почерк принадлежали Оресту. Странно, что он избрал такого посланного! Какова же была весть, требовавшая столь глубокой тайны?
Ипатия ударила в ладоши, призывая рабыню.
– Пусть эта женщина подождет в приемной!
Мириам пошла, низко кланяясь и направляясь к двери. Но когда Ипатия подняла глаза, чтобы убедиться, одна ли она, она снова встретила упорно устремленный на нее взгляд и уловила в нем выражение, заставившее ее похолодеть и содрогнуться.
Оставшись, наконец, одна, она прошептала:
– О, как я безрассудна! Что мне за дело до этой колдуньи? Лучше взглянем на письмо.
«Благороднейшей, прекраснейшей представительнице философии, любимице Афины, шлет привет ее ученик и раб».
– Мой раб! Он не называет своего имени!
«Есть люди, которые полагают, что любимая курочка Гонория[14]14
Гонорий Флавий – сын Феодосия, первый император западноримской империи, вел борьбу с наступавшими варварами. При полководце Стилихоне эта борьба была удачна, а после его умерщвления неспособный Гонорий начал терпеть поражения.
[Закрыть], носящая имя столицы, будет жить лучше под властью нового хозяина. Наместник Африки, по собственному желанию и по воле бессмертных богов, намеревается теперь присматривать за птичником цезарей, по крайней мере на время отсутствия Адольфа и Плацидии[15]15
Плацидия – дочь императора Феодосия Великого, сестра императоров Аркадия и Гонория. В 409 г. была взята в плен Аларихом, королем готов, и вышла замуж за его родственника Адольфа.
[Закрыть]. Некоторые же думают, что тем временем удастся убедить нумидийского льва взять себе в спутники нильского крокодила. Земли, которые войдут в состав владений этой четы, вероятно будут простираться от верхних водопадов до столбов Геркулеса и представят некоторую прелесть даже для философа. Но новая Аркадия останется несовершенной, пока земледелец будет лишен своей нимфы.
Чем был бы Дионис без Ариадны, Арес без Афродиты, Зевс без Геры? Даже Артемида имела своего Эндимиона. Одна лишь Афина осталась без супруга, и то лишь потому, что Гефест оказался слишком грубым претендентом. Но тот, кто дает представительнице Афины возможность разделить с ним нечто, достижимое при содействии ее мудрости и немыслимое без нее, не таков… Неужели Эрос, от века непобедимый, не сможет овладеть благороднейшей добычей, в которую когда-либо метили его стрелы?»
На щеки Ипатии, побледневшие под убивающим взором старой еврейки, возвращался румянец, по мере того как она пробегала это странное послание. Наконец она встала и, смяв письмо в руке, поспешила в смежный покой, где сидел Теон над своими книгами.
– Отец, известно ли тебе что-либо об этом? Посмотри, что Орест посмел мне прислать через эту противную еврейскую колдунью.
И она нетерпеливо развернула перед ним письмо, дрожа всем телом от гнева и оскорбленной гордости. Старик прочел письмо медленно и внимательно, а затем взглянул на дочь, очевидно не очень оскорбленный содержанием послания.
– Как, отец! – воскликнула Ипатия с упреком. – Неужели ты не понимаешь, какое оскорбление нанесено твоей дочери?
– Мое дорогое дитя, – возразил он в смущении, – разве ты не видишь, что он тебе предлагает?
– Я понимаю, отец. Владычество над Африкой… Он предлагает покинуть горные высоты науки, оторваться от созерцания вечно неизменного, неизъяснимого великолепия и спуститься в грязные равнины и долины земной практической жизни! Стать рабыней, погрязнуть в борьбе политических интриг и мелочного честолюбия, в грехах и обманах смертного человечества… А в награду он предлагает мне, целомудренной и неуязвимой, свою руку…
– Но, дочь моя, дитя мое, целое государство…
– Даже власть над всем миром не вознаградит меня за утрату самоуважения и законной гордости. Стать собственностью, игрушкой мужчины, предметом его похоти, рождать ему детей, терзаться отвратительными заботами жены и матери… Целые годы искал он моего общества для того, чтобы, подбирая крохи с праздничной трапезы богов, употреблять их для эгоистических, земных целей! Я была тщеславна, я слишком ему потакала! Нет, я несправедлива к себе. Я только думала и надеялась, что дело бессмертных богов возвеличится и окрепнет в глазах толпы, если Ореста будут видеть у нас… Я пыталась поддерживать небесный огонь земным топливом – и вот справедливая кара! Я ему немедленно напишу и пошлю письмо с тем самым посланцем, которого он ко мне направил!
– Во имя богов, дочь моя! Заклинаю тебя ради твоего отца, ради тебя самой! Ипатия! Моя гордость, моя радость, моя единственная надежда! Сжалься над моими сединами!
Бедный старик бросился к ногам дочери и с мольбой обнял ее колени.
Ипатия нежно приподняла его, обняла и положила его голову себе на плечо. Слезы ее падали на серебристые кудри старика, но на губах выражалась непреклонная решимость.
– Подумай о моей гордости, о моей славе, которая заключается в твоей славе, вспомни обо мне – не ради меня! Ты знаешь, я никогда не думал о себе! – рыдал Теон. – Я готов умереть, но перед смертью желал бы видеть тебя императрицей!
– А если я умру во время родов, как умирает столько женщин?
– А… – начал старик, стараясь придумать довод, способный убедить прекрасную фанатичку. – А дело богов? Сколько бы ты могла совершить – вспомни Юлиана![16]16
Юлиан (331–363) – римский император; занимался восстановлением язычества в углубленной и облагороженной форме.
[Закрыть]
Руки Ипатии внезапно опустились. Да, верно. Эта мысль поразила ее душу, наполняя ее восторгом и ужасом… Видения детства восстали перед ней. Храмы… жертвоприношения… священнослужители… коллегии и музеи! Чего только не удастся ей совершить! Что бы она сделала из Африки! Десять лет власти – и ненавистная религия христиан будет предана забвению, а исполинское изваяние Афины Паллады из слоновой кости и золота осенит в величавом торжестве гавани языческой Александрии… Но за какую цену! Она закрыла лицо руками и, разразившись слезами, дрожа от внутренней борьбы, медленно вернулась в свою комнату:
Старик робко последовал за ней. Он остановился на пороге и от глубины сердца молил всех богов, демонов и прочих духов, чтобы они изменили решение, которое рассудок его не мог одобрить, но которому по слабости своей он не смог бы воспротивиться.
Борьба окончилась, и красавица смотрела опять ясной, спокойной и гордой.
– Это должно совершиться ради бессмертных богов, в интересах искусства, науки и философии. Да будет! Если боги требуют жертвы, я готова ее принести.
И она села писать ответ.
– Я приняла предложение Ореста с некоторыми условиями, – сказала она, – но все зависит от того, хватит ли у него мужества исполнить их. Не спрашивай, каковы мои требования. Пока Кирилл еще остается вожаком христианской черни, тебе лучше всего отрицать всякое отношение к этому делу. Будь доволен: я ему сказала, что если он поступит так, как я желаю, я сделаю то, чего он от меня ждет.
– Не была ли ты слишком опрометчива, дочь моя? Не потребовала ли ты от него то, чего он не смеет сделать из боязни общественного мнения, хотя, быть может, разрешит выполнить самой, если…
– Если мне суждено стать жертвой, то жрец, приносящий меня в жертву, должен быть мужчиной, а не трусом, не лукавым льстецом! Если он действительно предан христианству, то пусть защищает его против меня, ибо должны погибнуть или христианство, или я. Если же он не верит во Христа, – а я знаю, что он не верит, – то пусть откажется от лицемерия и перестанет поносить бессмертных богов, ибо это противно его сердцу и разуму.
Она ударила в ладоши, молча передала письмо вошедшей служанке, закрыла дверь комнаты и попробовала снова приняться за комментарии к Платону. Но что значили все грезы метафизики в сравнении с действительной пыткой человеческого сердца? Где связь между чистым верховным разумом и отвратительными ласками развратного трусливого Ореста? Нет, Ипатия не хочет, она воспротивится. Подобно Прометею, она не покорится судьбе, а отважно вступит с ней в борьбу!
Красавица вскочила, чтобы потребовать письмо назад. Но Мириам уже ушла, и, в отчаянии бросившись на ложе, Ипатия залилась слезами.
Ее настроение, конечно, не стало бы радостнее, если бы она увидела, как старая Мириам торопливо вошла в грязный дом еврейского квартала, вскрыла письмо, прочла и потом снова запечатала его с такой удивительной ловкостью, что никто не мог бы заподозрить ее в нескромности. Столь же мало утешительно было бы для Ипатии и подслушать беседу, происходившую в летнем дворце Ореста между этим блестящим государственным мужем и Рафаэлем Эбн-Эзра. Они возлежали на диванах друг против друга и забавлялись игрой в кости, чтобы убить время в ожидании ответа Ипатии.
– Опять у тебя три очка! Тебе помогает нечистая сила, Рафаэль!
– Я в этом уверен, – сказал тот, загребая золото.
– Когда же, наконец, вернется старая колдунья?
– Как только прочтет твое письмо и ответ Ипатии… А вот и Мириам, – я слышу ее шаги в приемной. Давай побьемся об заклад, прежде чем она войдет. Я держу два против одного, что Ипатия потребует от тебя возвращения к язычеству.
– А что поставим на заклад? Негритянских мальчиков?
– Что тебе угодно.
– Согласен. Сюда, рабы!
С недовольным видом вошел мальчик.
– Еврейка стоит там с письмом и нагло отказывается передать его мне.
– Так пусть она сама его принесет.
– Не знаю, к чему я в доме, если есть тайны, которые от меня скрывают, – ворчал избалованный мальчик.
– Не желаешь ли ты, чтобы я украсил синяками твои белые ребра, обезьяна? – заметил Орест. – Если так, то там вон висит наготове бич из бегемотовой кожи. Но вот и Мириам с ответом! Подай-ка письмо сюда, царица сводниц.
Орест начал читать, и его лицо омрачилось.
– Ну что ж, выиграл я?
– Вон из комнаты, рабы, и не смейте подслушивать!
– Так, значит, я действительно выиграл?
Орест подал приятелю письмо, и Рафаэль прочел:
«Бессмертные боги требуют нераздельного почитания, и тот, кто желает пользоваться внушениями их пророчиц, должен принять к сведению, что они ниспошлют своим слугам вдохновение свыше лишь тогда, когда будут восстановлены их утраченные права и погибший культ. Если тот, кто намеревается стать властителем Африки, осмелится втоптать в грязь ненавистный крест, то он должен возвратить верховную власть олимпийцам, для прославления которых возникла империя и окрепла власть цезарей. Если он публично, словом и делом, выразит свое презрение к новому варварскому суеверию, то я сочту высшей для себя славой разделить с подобным человеком труды, опасности, даже смерть. А до тех пор…»
На этом месте письмо прерывалось.
– Что мне делать?
– Согласиться.
– Великий Боже! Тогда меня отлучат от церкви. Что станет с моей бедной душой?
– То, что ее ожидает во всяком случае, мой повелитель! – ласково возразил Рафаэль.
– Но меня назовут отступником. И это – перед лицом Кирилла и всего народа. Говорю тебе, – я не могу на это отважиться.
– Никто от тебя не требует отступничества, благородный префект.
– Как? А что же ты сам только что говорил?
– Я посоветовал только соглашаться на все. Перед браком дают немало обещаний, которым никогда не суждено осуществиться.
– Я не смею, я не хочу обещать. Я подозреваю, что тут какая-то западня, расставленная вами, еврейскими интриганами. Вам нужно, чтобы я опозорил себя перед христианами, которых вы ненавидите.
– Уверяю тебя, я слишком глубоко презираю людей, чтобы ненавидеть их. Но тебе, право, следует принести небольшую жертву, чтобы овладеть этой своенравной девушкой. При помощи ее глубокого и смелого духа ты мог бы справиться и с римлянами, и с византийцами, и с готами, если бы она пожелала использовать их для твоих целей. А что касается красоты, то одна ямочка у кисти ее маленькой, прелестной ручки стоит всех красавиц Александрии.
– Клянусь Юпитером! Ты так ею восторгаешься, что я начинаю подозревать, не влюблен ли ты сам в нее. Почему бы тебе не жениться на ней? Я бы возвел тебя в сан первого министра, и мы могли бы пользоваться ее мудростью, не страдая от ее капризов.
Рафаэль встал и поклонился до земли.
– Милость высокородного префекта подавляет меня, но до сих пор я заботился только о собственном благе, и трудно думать, что в настоящем возрасте я посвящу себя чужим интересам, хотя бы и твоим.
– Ты откровенен.
– Без сомнения… Кроме того, как с практической, так и с теоретической точки зрения, женщина, на которой я когда-либо женюсь, будет моей частной собственностью… Ты меня понимаешь?
– Весьма откровенно с твоей стороны!
– Конечно, но мы упустили из виду третий пункт, а именно, что она, вероятно, не согласится выйти за меня замуж.
– Клянусь Юпитером, она меня отвергла всерьез! Она раскается в этом. Глупо было делать ей предложение. К чему телохранители, если не можешь взять силой то, чего добиваешься? Если кроткие меры недействительны, – помогут строгие. Я немедленно велю доставить ее сюда.
– Благородный повелитель, это ни к чему не приведет. Разве тебе незнакома непреклонная твердость этой женщины? Ни бичевание, ни истязание раскаленными клещами не поколеблют ее решимости при жизни. Мертвая же она совершенно бесполезна для тебя, но не бесполезна для Кирилла…
– В каком смысле?
– Он с радостью ухватится за эту историю, как оружие против тебя. Он заявит, что она умерла целомудренной мученицей во славу вселенской апостольской веры, подстроит чудеса над ее прахом и, опираясь на эти знамения, сровняет с землей твой дворец.
– Так или иначе, Кирилл услышит обо всем, – и это второе затруднение, в которое ты, пронырливый интриган, вовлек меня. Ипатия оповестит всю Александрию, что я искал ее руки, а она отказала мне.
– Положись на меня. Как бы ни грезила наша красавица о заоблачных сферах, престол сам по себе настолько заманчивая вещь, что даже пифия Ипатия не откажется от него. На прощание побьемся еще раз об заклад: держу три против одного. Не предпринимай ничего ни в том, ни в другом направлении, и не пройдет месяца, как она сама пришлет тебе письмо. Поставим кавказских мулов? Хочешь? Решено!
И Рафаэль, низко поклонившись, покинул комнату. Выходя из дворца, он заметил на другой стороне улицы еврейку Мириам, которая очевидно поджидала его. Но, увидев его, она спокойно пошла дальше, как бы вовсе не желая с ним говорить. Завернув за угол, Рафаэль остановил ее, и она порывисто схватила его за руку.
– Дурак решился?
– Кто решился и на что?
– Ты знаешь, о чем я говорю! Неужели ты думаешь, что Мириам способна передавать письма, не ознакомившись с их содержанием? Отречется ли он от христианства? Скажи мне. Я буду нема, как могила!
– Дуралей нашел в каком-то закоулке своего сердца старый изъеденный крысами клочок совести – и не решается!
– Проклятый трус! У меня сложился такой великолепный план заговора! В течение года я бы вышвырнула всех христианских собак из Африки. Чего опасается этот человек?
– Адского огня.
– Он и без того не избегнет его, поганый язычник!
– Я ему на это намекнул, по возможности деликатно и осторожно, но, подобно остальному человечеству, он предпочитает отправиться в преисподнюю собственной дорогой.
– Трус! Кого мне взять теперь? О, если бы во всем теле Пелагии было столько ума, сколько в мизинце Ипатии, то я бы посадила ее на трон цезарей вместе с ее готом.
– Она, без сомнения, самая знаменитая из твоих питомиц. Ты, мать, вправе гордиться ею.
Старуха слегка усмехнулась и быстро повернулась к Рафаэлю:
– Посмотри, у меня есть подарок для тебя, – сказала она, вытаскивая роскошное кольцо.
– Но, мать, ты даришь меня постоянно. Всего месяц тому назад ты прислала мне этот отравленный кинжал.
– Почему бы и нет? Возьми кольцо от старухи.
– Какой чудесный опал!
– Да, это настоящий опал. На нем начертано непроизносимое имя Божие, – точь-в-точь как на кольце Соломона. Возьми его, говорю тебе. Тому, кто его носит, нечего бояться огня и стали, яда и женских очей.
– Включая даже твои?
– Возьми, говорю тебе! – Мириам силой надела кольцо на его палец. – Вот оно тут. Теперь ты в безопасности. Не смейся! Прошлой ночью я составляла твой гороскоп и знаю, что тебе сейчас не до смеха. Тебе угрожает великая опасность и великое искушение. Когда же ты победишь это испытание, ты можешь сделаться ближайшим советником цезаря, первым министром, даже императором. И ты будешь им, клянусь четырьмя архангелами!
И старуха скрылась в боковом переулке, оставив Рафаэля в полнейшем недоумении.
Глава V
День в Александрии
Пока все это происходило, Филимон плыл вниз по течению реки с приютившими его готами. Перед ними мелькали древние города, превратившиеся в развалины. Наконец они вошли в устье большого александрийского канала и, проплыв всю ночь по озеру Мареотис, к рассвету очутились среди несчетных мачт, возле шумных набережных величайшей гавани мира. Пестрая толпа чужеземцев, гул наречий всех народов, от Тавриды до Кадиса, высоко громоздившиеся склады товаров, огромные груды пшеницы, сваленной под открытым небом, не знавшим дождя, суда, могучие корпуса которых вздымались ярусами и походили на плавучие дворцы, вся эта оживленная картина навела молодого монаха на мысль, что мир не так ничтожен, как он думал.
Перед большими грудами плодов, только что подвезенных базарными лодками, грелись на солнце группы негритянских рабов, которые, болтая и смеясь, с тревогой и нетерпением высматривали покупателей. Филимон отвернулся, не желая смотреть на мирскую суету, но всюду, куда ни обращались его глаза, он видел ее в самых разнообразных формах. Он изнемогал под массой новых впечатлений, его оглушал шум, и он едва овладел собой настолько, чтобы воспользоваться первой возможностью и постараться ускользнуть от своих опасных спутников.
– Эй, – заревел Смид, оружейный мастер, когда Филимон начал подниматься по лестнице пристани. – Ты никак задумал сбежать, даже не попрощавшись с нами?
– Оставайся со мной, парень, – сказал старый Вульф. – Я тебе спас жизнь, и ты принадлежишь мне.
Филимон с некоторым колебанием повернулся к нему.
– Я монах и слуга Божий.
– Им ты можешь остаться везде. Я хочу сделать из тебя воина.
– Оружие мое – не плотские вещи, а молитва и пост, – возразил бедный Филимон, чувствуя, что это средство самообороны в Александрии нужнее, чем где-либо в пустыне. – Пустите меня, я не создан для вашей жизни. Я благодарю и благословляю вас. Я буду молиться за тебя, мой повелитель, но отпусти меня.
– Проклятие трусливому псу! – завопило с полдюжины голосов. – Почему ты не дал нам воли, викинг Вульф? От монаха иного нечего было и ждать.
– Он не дал мне позабавиться, – воскликнул Смид, – но я своего не упущу!
Топор, брошенный искусной рукой, полетел в голову Филимона. Монах едва успел уклониться от удара, и тяжелое орудие разбилось о гранитную стену позади него.
– Ловко увернулся, – холодно заметил Вульф.
Матросы и торговки закричали: «убивают!», а таможенные чиновники, надзиратели и сторожа гавани сбежались со всех сторон. Но все они спокойно разошлись по местам, когда раздался громовой голос амалийца, стоявшего у руля:
– Ничего не случилось, ребята! Мы только готы и едем к наместнику.
– Мы только готы, мои милые ослиные погонщики! – повторил Смид.
При этом грозном слове чиновники поспешили удалиться, стараясь сохранить равнодушие и всем своим видом показывая, что их присутствие необходимо как раз на противоположном конце гавани.
– Отпустите его, – сказал Вульф, поднимаясь по лестнице. – Отпустите мальчика. Всякий человек, к которому я чувствовал расположение, впоследствии меня обманывал, и от этого малого я не вправе ожидать чего-либо иного, – пробормотал он про себя. – Пойдемте, товарищи, ступайте на берег и напейтесь как следует.
Так как Филимону было разрешено удалиться, то он, конечно, пожелал остаться. Во всяком случае ему следовало вернуться, чтобы поблагодарить варваров за оказанное гостеприимство. Обернувшись, он увидел, что Пелагия садилась на носилки вместе со своим возлюбленным. С опущенными глазами приблизился он к прекрасному созданию и пролепетал несколько слов признательности. Пелагия приветствовала его ласковой улыбкой.
– Перед разлукой расскажи мне побольше о себе. Ты говоришь на прекрасном чистейшем афинском наречии. Ах, что за счастье опять слышать свой родной язык! Бывал ли ты в Афинах?
– Малым ребенком, – я помню, то есть мне кажется, что помню…
– Что? – быстро спросила Пелагия.
– Большой дом в Афинах, битву и потом долгое путешествие на корабле, доставившем меня в Египет.
– Милосердные боги! – воскликнула Пелагия и умолкла на мгновение. – Девушки, вы говорили, что он на меня похож?
– Мы ничего дурного не имели в виду, когда в шутку заметили это, – сказала одна из ее спутниц.
– Ты похож на меня! Ты должен навестить нас, мне нужно тебе сказать… Приходи непременно!
Филимон, ложно истолковав ее интерес к нему, правда, не отпрянул, но ясно проявил нерешительность.
Пелагия громко рассмеялась.
– Глупый юноша, не будь таким тщеславным, не питай подозрений и приходи. Не думаешь же ты, что я всегда болтаю только глупости? Посети меня, быть может, это окажется полезным для тебя. Я живу в…
Она назвала одну из самых роскошных улиц, которую Филимон не мог не запомнить, хотя в душе дал обет никогда не воспользоваться ее приглашением.
– Брось этого дикаря и иди! – ворчал амалиец, сидя в носилках. – Ты, надеюсь, не собираешься идти в монахини?
– Нет, пока еще жив единственный мужчина, которого я встретила на земле, – возразила Пелагия и, быстро взбираясь на носилки, обнаружила прелестную пятку и очаровательную щиколотку.
Это была как бы последняя стрела, пущенная наудачу. Но в Филимона стрела не попала. Толпа смеющихся пешеходов увлекла его вперед. Довольный, что избегнул опасной собеседницы, молодой монах осведомился, где живет патриарх.
– Дом патриарха? – переспросил человек, к которому он обратился, маленький, худощавый, черноватый малый, с веселыми, темными глазами. Поставив перед собой корзину с плодами, он сидел на деревянном обрубке и разглядывал иноземцев с выражением пронырливого, простоватого лукавства. – Я знаю его дом, ибо дом этот знает вся Александрия. Ты монах?
– Да.
– Так спроси монахов. Ты и шага не пройдешь, как встретишь кого-нибудь из них.
– Но я не знаю даже в какую сторону идти. А ты разве не любишь монахов, добрый человек?
– Видишь, юноша, мне кажется, ты слишком хорош для монаха. Я грек и философ, хотя, к несчастью, водоворот материи вовлек искру божественного эфира в тело носильщика. Поэтому, юноша, я питаю троякую вражду к монашеству. Во-первых, как мужчина и супруг. Ведь если бы монахам дать волю, они не оставили бы на земле ни мужчин, ни женщин и сразу погубили бы людской род проповедью добровольного самоубийства. Во-вторых, как носильщик, если бы все мужчины стали монахами, то не было бы бездельников и моя должность упразднилась бы сама собой. В-третьих, как философ. Как фальшивая монета внушает отвращение честным людям, так и нелепый, дикий аскетизм отшельника претит логическому, последовательному мышлению человека, который, подобно мне, смиреннейшему из философов, хочет устроить свою жизнь на разумных началах.
– А кто, – спросил Филимон, не удержавшись от улыбки, – кто был твоим наставником по части философии?
– Источник классической мудрости – сама Ипатия. Некий древний мудрец ночью качал воду, чтобы иметь возможность учиться днем, а я храню плащи и зонты, чтобы упиваться божественным знанием у священных врат ее аудитории. Но все-таки я укажу тебе дорогу к архиепископу. Философу приятно поверять скромной юности сокровища своего ума. Быть может, ты поможешь мне отнести эту корзину с фруктами?
Маленький человечек привстал и, поставив корзину на голову Филимона, направился в одну из ближайших улиц. Филимон последовал за ним, не то с презрением, не то с любопытством спрашивая себя, какова же та философия, которая поддерживала самомнение этого жалкого, оборванного, маленького обезьяноподобного существа. Миновав ворота Луны, они шли около мили по большой, широкой улице, которая пересекалась под прямым углом другой, столь же прекрасной. Вдали на обоих концах ее неясно обозначались желтые песчаные холмы пустыни, а прямо перед путниками сверкала голубая гавань сквозь сеть бесчисленных мачт.
Наконец они достигли набережной, в которую упиралась улица, и перед изумленными взорами Филимона широким полукругом развернулось синее море, окаймленное дворцами и башнями. Он невольно остановился, а вместе с ним и его маленький спутник, с любопытством следивший за впечатлением, которое произвела на монаха эта грандиозная панорама.
– Вот, смотри, это все творения наших рук! Это сделали мы, греки, темные язычники. Разве христиане там, на левой излучине, построили этот маяк, чудо мира? Разве христиане возвели этот каменный мол, который тянется на расстоянии многих миль? А кто создал эту площадь и выстроил вот эти ворота Солнца? Или Цезареум по правую руку? Обрати внимание на два обелиска перед ним!
И он указал на два знаменитых обелиска, один из которых, известный под именем иглы Клеопатры, уцелел до наших дней.
– Говорю тебе, смотри и убедись, как ничтожен, как страшно ничтожен ты на самом деле! Отвечай, потомок летучих мышей и кротов, ты, шестипудовая земляная глыба, ты, мумия скалистых пещер, могут ли монахи произвести нечто подобное?
– Мы продолжаем работу наших предшественников, – возразил Филимон, пытаясь сохранить безучастный и бесстрастный вид.
Он был слишком изумлен, чтобы сердиться на выходки своего спутника. Его подавлял необъятный простор, блеск и величие зрелища, ряд великолепных зданий, каких, быть может, никогда, ни раньше, ни позже, земля не носила на своей поверхности. Среди необычайного разнообразия форм можно было видеть и чистые дорические постройки первых Птолемеев, и причудливую варварскую роскошь позднейших римских зданий, и подражания величественному стилю Древнего Египта, пестрый колорит которого смягчал простоту и массивность очертаний. Ненарушимый покой этого громадного каменного пояса составлял разительный контраст с неуемной суетой гавани. Высокие паруса кораблей, продвинувшись далеко в море, походили на белых голубей, исчезающих в беспредельной лазури. Это зрелище смущало, угнетало и наполняло неопределенным тоскливым чувством сердце молодого монаха. Наконец, опомнившись, Филимон вспомнил о данном поручении и вторично спросил о дороге к дому архиепископа.
– Вот дорога, молокосос, – сказал маленький человечек, огибая с Филимоном большой фронтон Цезареума.
Взор молодого монаха случайно упал на новую лепную работу над воротами, украшенными христианскими символами.
– Как? Это церковь?
– Это Цезареум. Временно он стал церковью. Бессмертные боги на короткий срок соблаговолили поступиться своими правами, но тем не менее здание остается по-прежнему Цезареумом. Вот, – сказал, он, указывая на дверь с боковой стороны музея, – здесь последнее убежище муз – аудитория Ипатии, школа, где мы все поучаемся. А тут, – он остановился перед воротами прекрасного дома, находившегося напротив, – местожительство благословенной любимицы Афины. Теперь ты можешь опустить корзину.
Проводник постучал у двери, сдал плоды чернокожему привратнику, вежливо поклонился Филимону и, по-видимому, намеревался удалиться.
– А где же дом архиепископа?
– У самого Серапеума. Ты не ошибешься. Четыреста мраморных колонн, разрушенных христианскими гонителями, стоят на возвышении…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































