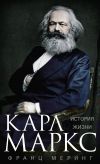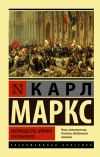Читать книгу "Карл Маркс. Человек, изменивший мир. Жизнь. Идеалы. Утопия"

Автор книги: Дэвид Маклеллан
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
II. Deutsch-Französische Jahrbücher
Пока Маркс в Кройцнахе писал свой комментарий к политическим идеям Гегеля, Руге занимался организацией издания Deutsch-Französische Jahrbücher. Для его финансирования он попытался получить крупный заем в Германии, когда же не удалось, сам взял на себя практически все расходы по изданию. Страсбург (который они ранее предпочитали) был отвергнут в качестве месторасположения издания, и Фрёбель предложил ему и Руге вместе отправиться в Брюссель и Париж, чтобы посмотреть, какой город подойдет больше. В конце июля Руге отправился на запад, заехал в Кройцнах к Марксу, а затем, объединив усилия с Гессом и Фрёбелем в Кёльне, отправился в Бельгию. Брюссель также не удовлетворил его, поскольку, хотя пресса пользовалась сравнительной свободой, город был слишком мал и не отличался культурой политического мышления. Поэтому в августе 1843 года Гесс и Руге отправляются в Париж и именно там основывают Deutsch-Französische Jahrbücher.
Привлечь авторов, особенно с общими взглядами, оказалось непросто: Руге и Фрёбель очень активно пытались добиться участия немцев, но либеральные писатели отказались, а из берлинских младогегельянцев согласился только Бруно Бауэр (и в итоге даже он ничего не внес). Таким образом, число авторов сводилось к тем, кто уже был связан с Фрёбелем через его публикации в Цюрихе: Гесс, Энгельс, Бакунин и Гервег. Их взгляды были разнообразны: Гесс и Бакунин пропагандировали собственный эклектичный анархо-коммунизм, в то время как Фрёбель, Гервег и Руге называли себя демократами и подчеркивали важность народного образования. По мере того как французское влияние повышало политическую сознательность младогегельянцев, лозунг «радикализм» стал уступать место более конкретному политическому термину «демократия». Но единство группы Руге сводилось лишь к желанию продолжить политическое применение философии Фейербаха; их любимым термином был «гуманизм». Но сам Фейербах не желал с ними сотрудничать. Маркс считал, что Шеллинг пользуется совершенно неоправданной репутацией среди французов: незадолго до отъезда из Кройцнаха в Париж он написал Фейербаху письмо, в котором предложил написать критику в его адрес: «Эти искренние юношеские идеи, которые у Шеллинга оставались воображаемой мечтой его молодости, у вас стали истиной, реальностью и мужественной серьезностью. Поэтому Шеллинг – предвосхищающая карикатура на вас, и как только реальность появляется напротив карикатуры, она должна раствориться в пыли или тумане. Таким образом, я считаю вас необходимым и естественным противником Шеллинга – призванным их величествами, Природой и Историей. Ваша борьба с ним – борьба мнимой философии с самой философией…» [37] Фейербах, однако, ответил, что, по его мнению, время для перехода от теории к практике еще не пришло, так как теорию еще нужно довести до совершенства; он прямо дал понять Марксу и Руге: они слишком нетерпеливы.
Все авторы Deutsch-Französische Jahrbücher были, по крайней мере, едины в том, что рассматривали Париж как пристанище и источник вдохновения. Их ожидания оказались оправданны, поскольку революции 1789 и 1830 годов превратили Париж в бесспорный центр социалистической мысли. Буржуазная монархия Луи-Филиппа близилась к завершению и становилась все более консервативной; в 1835 году были ужесточены цензурные законы, а с 1840 года в правительстве правил бал антилиберал Гизо. Но политическая деятельность была не менее оживленной, чем полуподпольная, и в стране существовало обескураживающее разнообразие всевозможных сект, салонов и газет, провозглашавших ту или иную форму социализма [38]. Сразу после прибытия в Париж Руге отправился заводить контакты под руководством Гесса, который был знаком с политической сценой еще со времен своей работы французским корреспондентом Rheinische Zeitung. Отчет Руге о его походе по салонам описывает череду недоразумений [39]. Каждая группа считала другую устаревшей на столетие. Французы были удивлены тем, что он оказался так мало осведомлен о коммунизме, и тем, что был сторонником атеизма и материализма, характерных для французской мысли до 1789 года. Руге, в свою очередь, не мог понять, как французы могут быть так привержены религии, на нейтрализацию которой немецкая философия потратила столько времени и усилий.
Ламартин сначала назвал концепцию Deutsch-Französische Jahrbücher «священной» и «высокой», но позже отказался от участия, узнав о ее революционном характере. Леру был занят изобретением нового печатного станка. Кабе был потрясен атеизмом Руге и его недостаточной приверженностью коммунизму. Консидеран также был настроен неодобрительно, подозревая, что журнал будет пропагандировать насилие[49]49
Альфонс Ламартин (1790–1869) – поэт, публицист и политик. Пьер Леру (1797–1871) и Виктор Консидеран (1808–1893) – представители утопического социализма. Этьен Кабе (1788–1856) – представитель утопического коммунизма.
[Закрыть]. Прудона в Париже не было. Таким образом, несмотря на все усилия, выпуск Deutsch-Französische Jahrbücher вышел без единого французского материала. К ноябрю Руге начал беспокоиться даже о количестве немецких авторов: Гервег проводил медовый месяц, а Бакунин после высылки из Цюриха вел разгульный образ жизни. Их отсутствие компенсировал Гейне, который (во время своего пребывания в Париже все больше симпатизировавший социалистическим идеям) согласился дать несколько стихотворений, а также Фердинанд Бернайс (недавно высланный из Баварии после того, как стал редактором Mannheimer Abend-Zeitung[50]50
Вечерняя газета Мангейма (нем.).
[Закрыть]).
Сам Маркс прибыл в Париж в конце октября 1843 года. Вместе с ним приехала Женни, находившаяся уже на четвертом месяце беременности. Сначала они поселились на улице Вано, 23, в тихом переулке в районе Сен-Жермен на левом берегу Сены, где проживало много других немецких иммигрантов. На первом этаже дома 22 располагался «офис» газеты Deutsch-Französische Jahrbücher, а Руге снял два этажа дома 23, где уже жил Жермен Маурер, ведущий немецкий писатель-социалист. Руге написал Марксу письмо, в котором изложил свой проект «фаланстера» в духе фурьеризма: он пригласил Марксов, Гервегов и Мауреров присоединиться к нему и его жене в эксперименте по совместному проживанию. У каждой семьи будут отдельные жилые помещения, но общая кухня и столовая; женщины будут по очереди выполнять домашние обязанности [40]. Эмма Гервег сразу же отказалась: «Как могла жена Руге, маленькая саксонка, милая, но без характера, сойтись с г-жой Маркс, очень умной, честолюбивой и гораздо более сведущей, чем она? Как могла г-жа Гервег, самая молодая из трех женщин, недавно вышедшая замуж, принять эту коммунальную жизнь?» [41] Маркс и Женни тоже не задержались здесь надолго: уже через две недели они переехали в дом 31, а в декабре окончательно обосновались на улице Вано, 38, где и прожили до конца своего пребывания в Париже.
Маркс привез с собой из Кройцнаха очерк под названием «К еврейскому вопросу», представлявший собой обобщение прочитанного им предыдущим летом материала о Франции и Америке. Главным вопросом для него по-прежнему оставалось современное отделение государства от гражданского общества и, как следствие, неспособность либеральной политики решить социальные вопросы. Вопрос об эмансипации евреев теперь представлял всеобщий интерес в Пруссии, где с 1816 года евреи пользовались правами, намного уступающими правам христиан. Сам Маркс уже некоторое время размышлял над этим вопросом. Еще в августе 1842 года он попросил Оппенгейма прислать ему все антисемитские статьи Гермеса, редактора Kölnische Zeitung, выступавшего за введение в Германии своего рода апартеида для евреев. Маркс мало использовал этот материал, но в ноябре 1842 года Бауэр опубликовал серию статей по этой проблеме в Deutsche Jahrhücher Руге. Маркс счел, что взгляды Бауэра «слишком абстрактны» [42], и решил, что пространная рецензия станет удобным колышком, на который можно повесить критику либерального государства. В своих статьях Бауэр утверждал, что для того, чтобы жить вместе, и евреи, и христиане должны отказаться от того, что их разделяет. Ни христиане, ни евреи как таковые не могут обладать правами человека: поэтому в эмансипации нуждались не только евреи, но и все люди. Гражданские права были немыслимы при абсолютной системе. Религиозные предрассудки и религиозное разделение исчезнут, когда исчезнут гражданские и политические касты и привилегии, и все люди будут пользоваться равными правами в либеральном, светском государстве.
Маркс приветствовал критику Бауэром христианского государства, но нападал на него за то, что он не ставил под сомнение государство как таковое и тем самым не исследовал связь политической эмансипации (то есть предоставления политических прав) с человеческой эмансипацией (освобождением человека во всех его способностях). Общество не может быть излечено от своих недугов только за счет освобождения политической сферы от религиозного влияния. Маркс процитировал несколько источников, чтобы показать масштабы религиозной практики в Северной Америке, и продолжил:
«Тот факт, что даже в стране полной политической эмансипации мы находим не только существование религии, но и ее живое существование, полное свежести и силы, показывает, что продолжение религии не противоречит и не препятствует совершенствованию государства. Но поскольку существование религии влечет за собой существование дефекта, источник этого дефекта можно искать только в природе самого государства. С этой точки зрения религия уже не имеет силы основания для светских недостатков, а является лишь симптомом. Поэтому мы объясняем религиозные предрассудки свободных граждан их светскими предрассудками. Мы не настаиваем на том, чтобы они отменили свои религиозные ограничения, чтобы отменить светские ограничения: мы настаиваем на том, чтобы они отменили свои религиозные ограничения, едва только отменят свои светские ограничения. Мы не меняем светские вопросы на теологические: мы меняем теологические вопросы на светские. История уже достаточно долгое время разрешается в суеверие: теперь мы разрешаем суеверие в историю. Вопрос об отношении политической эмансипации к религии становится для нас вопросом об отношении политической эмансипации к человеческой эмансипации. Мы критикуем религиозную слабость политического государства, критикуя светскую конструкцию политического государства без учета его религиозных слабостей» [43].
Таким образом, политическая эмансипация от религии не освобождает людей от религиозных представлений, поскольку политическая эмансипация не тождественна человеческой эмансипации. Например, граждане все еще могут быть окованы религией, от которой освободилось само государство. Бауэр не понимал, что политическая эмансипация, за которую он выступал, воплощает в себе отчуждение, подобное религиозному отчуждению, которое он только что критиковал. Эмансипация человека, поскольку проходила через посредничество государства, оставалась абстрактной, косвенной и частичной. «Даже когда человек провозглашает себя атеистом при посредничестве государства – то есть когда провозглашает государство атеистическим, – он все равно сохраняет свои религиозные предрассудки, просто потому, что он узнает себя лишь косвенно – через посредство чего-то другого. Религия – это именно косвенное признание человеком самого себя через посредника. Государство – это посредник между человеком и его свободой» [44]. Аналогично и с частной собственностью: в Америке она была отменена в соответствии с конституцией путем провозглашения отсутствия имущественного ценза для участия в выборах. Но в действительности это не отменяло частную собственность, а лишь предполагало ее наличие. В результате человек утратил целостность: «Когда политическое государство достигло своего подлинного завершения, человек ведет двойную жизнь, небесную и земную, не только в мыслях и сознании, но и в реальности, в жизни. Он живет и в политическом сообществе, где его ценят как общественное существо, и в гражданском обществе, где действует как частное лицо, относится к другим людям как к средству, низводит себя до средства и становится орудием внешних сил» [45].
Политическая демократия, однако, не заслуживала осуждения. Она была большим шагом вперед и «окончательной формой освобождения человека в рамках существующего мирового порядка» [46]. Политическую демократию можно назвать христианской, поскольку ее принципом является человек, и она рассматривает его как суверена и верховного правителя. Но, к сожалению, это означало «человека в его некультурном и необщительном виде, человека в его случайном существовании, человека, который приходит и уходит, человека, развращенного всей организацией нашего общества, потерянного для себя, продавшегося, подверженного господству нечеловеческих условий, – словом, человека, который больше не является настоящим родовым существом. Фантазия, мечта и постулат христианства, суверенитет человека – но человека как чуждого существа, отдельного от реального человека, – присутствует в демократии как осязаемая реальность и выступает ее светским девизом» [47].
Показав, что религия более чем совместима с гражданскими правами, Маркс теперь оспаривает отказ Бауэра признать притязания евреев на права человека. Бауэр заявил, что ни еврей, ни христианин не могут претендовать на универсальные права человека, поскольку их особые и исключительные религии неизбежно сводят на нет любые подобные претензии. Маркс опроверг мнение Бауэра, сославшись на французскую и американскую конституции: он рассмотрел различие между правами гражданина и правами человека. Права гражданина были политического порядка; они выражались в участии человека во всеобщности государства и, как уже было показано, ни в коем случае не предполагали отмены религии. Эти права отражали социальную сущность человека – хотя и в совершенно абстрактной форме, – и возвращение этой сущности дало бы начало человеческой эмансипации. С правами человека в целом дело обстояло иначе: будучи выражением раскола буржуазного общества, они не имели в себе ничего социального. Как показано во французских конституциях 1791 и 1793 годов, а также в конституциях Нью-Гэмпшира и Пенсильвании, права человека не отрицали права на исповедание религии; напротив, они прямо признавали его, и в подтверждение этого Маркс цитировал соответствующие главы и стихи из Библии.
Маркс спрашивает: почему эти права называются правами человека? Потому что это права человека, рассматриваемого как член гражданского общества. А почему член гражданского общества отождествлялся с человеком? Потому что права человека были эгоистическими и антисоциальными. Так было со всеми конституциями, даже самыми радикальными; ни одной из них не удалось подчинить «человека» «гражданину». Все права человека, которые они провозглашали, имели один и тот же характер. Свобода, например, «право делать и исполнять то, что не вредит другим», была, по словам Маркса, «основана не на союзе человека с человеком, а на отделении человека от человека. Это право на такое отделение, право ограниченного индивида, который ограничен самим собой» [48]. Собственность, право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, не считаясь с другими, была «правом эгоизма <…> из-за нее человек видит в других не реализацию, а ограничение своей свободы» [49]. Равенство являлось не более чем равным правом на свободу, описанную выше, а безопасность служила гарантией эгоизма.
Таким образом, ни одно из так называемых прав человека не выходило за рамки эгоистического человека, отделенного от общины в качестве члена гражданского общества. Подводя итог некоторым более подробным анализам своей «Критики гегелевской философии права», Маркс показал, что политическая эмансипация предполагает распад старого феодального общества. Но переход от феодального к буржуазному обществу не принес освобождения человека: «Человек не был освобожден от религии, он получил религиозную свободу». Маркс завершил свой обзор заявлением: «Реальный отдельный человек должен вернуть себе абстрактного гражданина и как отдельный человек в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде и индивидуальных отношениях стать родовым существом; человек должен признать собственные силы как социальные силы, организовать их и таким образом больше не отделять социальные силы от себя в виде политических сил. Только когда это будет достигнуто, человеческая эмансипация будет завершена» [50].
В ту же статью Маркс включил гораздо более короткую рецензию на эссе Бауэра «Способность современных евреев и христиан стать свободными», опубликованное в «21 листке из Швейцарии» Гервега. Идея Бауэра заключалась в том, что находится еврей еще дальше от эмансипации, чем христианин: в то время как христианин должен был порвать только со своей религией, еврей должен был также порвать с завершением своей религии, то есть с христианством: христианин должен был сделать только один шаг, а еврей – два. Вновь обратившись к теологической формулировке проблемы Бауэра, Маркс развил тему, которой уже касался в первой части своей статьи: религия как духовный фасад гнусного и эгоистического мира. Для Маркса вопрос об эмансипации евреев превратился в вопрос о том, какой конкретный социальный элемент необходимо преодолеть, чтобы отменить иудаизм. Он определил светскую основу иудаизма как практическую потребность и корысть, мирской культ еврея – как бартер, а его мирского бога – как деньги. В заключение он заявил: «Организация общества, отменившая предпосылку торга и, следовательно, его возможность, сделала бы еврея невозможным. Его религиозное сознание растворилось бы, как бесплодный пар, в живом воздухе общества. Однако если еврей признаёт эту свою практическую сущность недействительной и работает над ее отменой, он работает над человеческим освобождением, имея в основе свое прежнее развитие, и обращается против высшего практического выражения человеческого самоотчуждения» [51].
Еврей, однако, уже эмансипировался по-еврейски. Это стало возможным благодаря тому, что христианский мир пропитался практическим еврейским духом. Лишение номинальных политических прав мало что значило для евреев, так как на практике они обладали огромной финансовой властью. «Противоречие между отсутствием у еврея политических прав и его практической политической властью – это общее противоречие между политикой и властью денег. В то время как первая в идеале превосходит вторую, на деле она является ее кабалой» [52]. Основой гражданского общества была практическая нужда, а богом практической нужды – деньги, этот светский бог евреев. «Деньги – бог-ревнитель Израиля, перед которым не может устоять ни один другой бог. Деньги обесценивают всех богов человека и превращают их в товары. Деньги – общечеловеческая, самовозвеличивающаяся ценность всех вещей. Поэтому они лишили весь мир, как человеческий, так и природный, его ценностей. Деньги – это отчужденная сущность труда и бытия человека; эта чуждая сущность господствует над ним, и он обожает ее» [53].
Иудаизм не мог развиваться дальше как религия, но сумел на практике утвердиться в самом сердце гражданского общества и христианского мира. «Иудаизм достигает своего апогея с завершением гражданского общества; но гражданское общество сначала достигает своего завершения в христианском мире. Только под господством христианства, сделавшим внешними для человека все национальные, природные, нравственные и теоретические отношения, гражданское общество могло полностью отделиться от жизни государства, разорвать все видовые связи человека, поставить на место этих связей эгоизм и эгоистическую потребность и растворить человека в мире атомизированных индивидов, враждующих друг с другом» [54]. Таким образом, христианство, возникшее на основе иудаизма, теперь распалось и вернулось к иудаизму. В конце работы Маркс изложил идею отчужденного труда, которую он вскоре подробно разовьет: «Пока человек заключен в рамки религии, он знает только, как объективировать свою сущность, превращая ее в чуждое, воображаемое существо. Точно так же под господством эгоистической потребности он может стать практичным, создать практичные объекты, только поставив свои продукты и свою деятельность под господство чужой сущности и придав им значение этой чужой сущности: денег» [55].
В значительной степени именно эта статья породила мнение, что Маркс был антисемитом. Действительно, беглое и нерефлексивное прочтение, особенно краткого второго раздела, оставляет неприятное впечатление. Верно и то, что Маркс и в других своих работах допускал антиеврейские высказывания, но ни в одной из них он не был столь устойчив, как здесь. На него самого нападали как на еврея многие из его самых известных оппонентов – Руге, Прудон, Бакунин и Дюринг; но практически никаких следов еврейского самосознания нет ни в его опубликованных работах, ни в его частных письмах. Один случай, произошедший во время пребывания Маркса в Кёльне, проливает некоторый свет на его отношение: «Только что [писал он Руге в марте 1843 года] здешний глава израэлитов нанес мне визит и попросил меня помочь с парламентской петицией от имени евреев; и я согласился. Какими бы отвратительными ни казались мне убеждения сынов Израилевых, взгляд Бауэра все же кажется мне слишком абстрактным. Суть в том, чтобы проделать как можно больше дыр в христианском государстве и протащить туда рациональные взгляды, насколько это возможно. Это, по крайней мере, должно быть нашей целью – и горечь растет с каждой отклоненной петицией» [56].
Готовность Маркса помочь кёльнским евреям наводит на мысль, что его статья была направлена скорее против вульгарного капитализма, популярно ассоциируемого с евреями, чем против еврейства как такового – либо как религиозного объединения, либо (что еще менее важно) как этнической группы. Действительно, немецкое слово, обозначающее еврейство, – Judentum – имеет вторичный смысл коммерции, и в какой-то степени Маркс играл на этом двойном значении. Примечательно, что некоторые из основных положений второго раздела статьи Маркса – включая нападки на иудаизм как воплощение денежного фетишизма – были почти дословно заимствованы из статьи Гесса, который был полной противоположностью антисемита. Статья Гесса, озаглавленная «О сущности денег» (Über das Geldwesen), была представлена для публикации в Deutsch-Französische Jahrbücher, но журнал распался, не дождавшись ее появления [57].
Вторая из статей Маркса в Deutsch-Französische Jahrbücher была написана после его приезда в Париж: она свидетельствует о том, какое огромное влияние оказало на него открытие класса, освобождению которого он собирался посвятить всю оставшуюся жизнь. В Париже, культурной столице Европы, проживало большое количество немецких рабочих-иммигрантов – почти 100 000 человек. Некоторые из них приехали, чтобы отточить технику своих различных профессий, другие – просто потому, что не могли найти работу в Германии. Маркс был в огромной степени впечатлен: «Когда ремесленники-коммунисты создают ассоциации, их первыми целями становятся образование и пропаганда. Но сам акт объединения создает новую потребность – потребность в обществе, – и то, что казалось средством, становится целью. Самые поразительные результаты этого практического развития можно наблюдать, когда французские социалистические рабочие собираются вместе. Курение, еда и выпивка больше не являются просто средством объединения людей. Им довольно компании, товарищества, развлечений, целью которых также является общество; братство людей – не пустые слова, а реальность, и сквозь изможденные тела сияет благородство людей» [58]. Маркс посещал собрания большинства французских рабочих ассоциаций, но, естественно, был ближе к немцам – особенно к Союзу справедливых (Bund der Gerechten), самому радикальному из немецких тайных обществ, состоявшему из ремесленников-эмигрантов, целью которых было установление «социальной республики» в Германии [59]. Он близко знал обоих ее лидеров: Эвербека, врача, и Маурера, который был членом недолговечной фаланстерской общины Руге. Но на самом деле он не вступил ни в одно из обществ [60].
Хотя вторая статья Маркса заканчивалась откровенным провозглашением судьбы пролетариата, первая часть представляла собой переработку старых тем. Она была написана как введение к предлагаемому переизданию «Критики гегелевской философии права»; на самом деле некоторые из аргументов, изложенных в «Критике», уже были развиты в «Еврейском вопросе». Будучи лишь введением, она носила характер резюме, упорядочивая свои темы таким образом, чтобы отразить различные фазы развития самого Маркса: религиозную, философскую, политическую, революционную. Взятая в целом, она представляла собой манифест, чья язвительность и догматизм предвосхищали «Манифест коммунистической партии» 1848 года. Все элементы статьи уже содержались в «Критике гегелевской философии права» (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie), но теперь в ней сделан совершенно новый акцент на пролетариате как будущем освободителе общества. Хотя статья была написана в Париже, она ориентирована на Германию и возможность немецкой революции; соответственно, она начиналась с религии и переходила к политике – двум наиболее актуальным темам в Германии (согласно его программному письму к Руге от сентября 1843 года).
Маркс начал с блестящего отрывка о религии, подводящего итог всей работе младогегельянской школы от Штрауса до Фейербаха. «Пока речь идет о Германии, – писал он, – критика религии по существу завершена, и критика религии есть предпосылка всякой критики» [61]. Это последнее утверждение, несомненно, зависело от двух основных факторов: в Германии религия была одним из главных столпов прусского государства и должна была быть снесена, прежде чем можно было думать о каких-либо фундаментальных политических изменениях; в более общем смысле Маркс считал, что религия – самая крайняя форма отчуждения и точка, с которой должен начинаться любой процесс секуляризации, что давало ему модель для критики других форм отчуждения. Но в этом он отличался от Фейербаха: это был не просто вопрос редукции – сведения религиозных элементов к другим, более фундаментальным. Религиозное ложное сознание человека и мира существовало как таковое потому, что человек и мир были радикально искажены: «Основа нерелигиозной критики такова: человек создает религию, не религия создает человека. Но человек – не абстрактное существо, живущее на выселках мира. Человек – это мир людей, государство, общество. Это государство и это общество порождают перевернутое отношение религии к миру, потому что сами являются перевернутым миром» [62]. Религия была необходимым идеалистическим завершением несовершенного материального мира, и Маркс нагромождал метафору на метафору: «Религия – это общая теория этого мира, его энциклопедический компендиум, его логика в популярной форме, его духовная точка отличия, его энтузиазм, его моральная санкция, его торжественное дополнение, его универсальная основа для утешения и оправдания» [63].
Маркс продолжил серию блестящих метафор, чтобы показать, что религия являлась одновременно и симптомом глубокого социального недуга, и протестом против него. Религия тем не менее стояла на пути любого излечения социального зла, поскольку была склонна в то же время оправдывать его. Таким образом, «борьба против религии – косвенно борьба против того мира, духовным ароматом которого является религия. Религиозные страдания – это одновременно и выражение реальных страданий, и протест против реальных страданий. Религия – это вздох угнетенного существа, чувство бессердечного мира и душа бездушных обстоятельств. Это опиум народа[51]51
В русскоязычной историографии есть распространенное заблуждение, связанное с переводом этой легендарной фразы. Обычно ее переводят как «религия – это опиум для народа». В немецком оригинале она выглядит так: «Sie [Religion] ist das Opium des Volks». Из контекста становится ясно, что Маркс имел в виду, что религия нужна народу и народ сам сделал ее своим опиумом. В результате множественных переводческих неточностей появился предлог «для», отсутствовавший в тексте Маркса. Это сильно влияет на смысл: будто кто-то насаждает религию народу, спускает ее сверху. Однако у Маркса народ – это угнетенные люди, которые из-за своего положения вынуждены обращаться к религии.
[Закрыть] <…> Поэтому критика религии – это зародыш критики долины слез, ореолом которой является религия» [64]. Маркс мало писал о религии (Энгельс писал гораздо больше), и это самый подробный отрывок из всех его трудов. То, что он здесь сказал, – что религия является фантазией отчужденного человека, – полностью соответствует его ранним мыслям. (Позже элемент классовой идеологии должен был стать гораздо более весомым.) Он считал религию одновременно важной и неважной: важной, потому что чисто духовная компенсация, которую она давала людям, отвлекала от усилий по улучшению материального положения; неважной, потому что ее истинная природа была полностью раскрыта, по его мнению, его коллегами – особенно Фейербахом. Она была лишь вторичным явлением и, будучи зависимой от социально-экономических обстоятельств, не заслуживала самостоятельной критики.
Попытки охарактеризовать марксизм как религию, хотя и правдоподобные в своих терминах, запутывают вопрос, как и попытки утверждать, что Маркс на самом деле не был атеистом. Это обычный подход авторов, подчеркивающих параллель между марксизмом и иудеохристианской историей спасения [65], хотя некоторые говорят, что Маркс продолжил традицию, уже секуляризованную Шеллингом или Гегелем, до эстетического или философского откровения [66]. Правда, Маркс имел в виду религию современной Германии, в которой доминировало догматическое и чрезмерно духовное лютеранство, но он писал о «религии» в целом, и его неприятие было абсолютным. В отличие от многих ранних социалистов (Вейтлинга, Сен-Симона, Фурье) он не допускал компромиссов. Атеизм был неотделим от гуманизма, утверждал он; действительно, если учесть, в каких терминах он ставил проблему, это было неоспоримо. Конечно, можно изменить значение слова «атеизм», чтобы сделать Маркса верующим вопреки ему самому, но это лишает вопрос смысла, размывая понятия [67].
Затем Маркс перешел от краткого обзора прошлой критики и того, чего она достигла, к современному развитию событий: «Критика сорвала воображаемые цветы с цепей не для того, чтобы человек мог носить цепи без всякого воображения и комфорта, а для того, чтобы он мог сбросить цепи и сорвать живые цветы. Критика религии разочаровывает человека, чтобы он мог думать, действовать и создавать собственную реальность, как разочарованный человек, пришедший в себя; чтобы он мог вращаться вокруг себя, как вокруг своего настоящего солнца. Религия есть лишь ложное солнце, которое вращается вокруг человека до тех пор, пока он не вращается вокруг самого себя» [68]. Критика, следовательно, должна была обратиться к более глубокому отчуждению, к политике: «Поэтому задача истории – теперь, когда истина больше не находится в потустороннем мире, – состоит в том, чтобы установить истину здесь и сейчас. Первая задача философии, находящейся на службе истории, – после того как была открыта священная форма человеческого самоотчуждения, – открыть самоотчуждение в его нерелигиозных формах. Таким образом, критика неба превращается в критику земли, критика религии – в критику права, а критика теологии – в критику политики» [69].