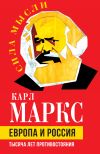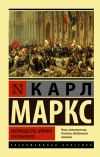Автор книги: Дэвид Маклеллан
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
После этого вступления основная статья Маркса состояла из двух частей: анализа разрыва между реакционным характером немецкой политики и прогрессивным состоянием немецкой философии и возможностей революции, вытекающих из этого контраста. Маркс начал с того, что даже необходимое отрицание настоящего Германии было бы анахронизмом и все равно оставило бы Германию на 50 лет позади Франции. «Действительно, немецкая история может поздравить себя с тем, что идет по пути, по которому ни один народ на историческом небосклоне не шел до нее и не пойдет после нее. Ведь мы разделяли с современными народами реставрации, не разделяя их революций. У нас были реставрации, сначала потому, что другие народы осмелились совершить революцию, а потом потому, что они пострадали от контрреволюции; потому что наши хозяева в один момент боялись, а в другой – не боялись. Не имея пастухов во главе, мы всегда оказывались в обществе свободы только один раз – в день ее погребения» [70].
Но был один аспект, утверждал Маркс, в котором Германия действительно опережала другие народы и который давал ей возможность совершить радикальную революцию: ее философия. Эта точка зрения, которую разделяли все авторы Deutsch-Französische Jahrbücher, превращала их в глазах французов в своего рода миссионеров. Она была актуальна в движении младогегельянцев с тех пор, как Гейне (в своей «Истории религии и философии в Германии», написанной в 1835 году) провел параллель между немецкой философией и французской политикой, предсказав революцию в Германии как следствие. Чтобы быть в центре современных вопросов, немецкая философия должна была подвергнуться критике. В Германии только политическая философия шла в ногу с современными условиями.
Затем Маркс прояснил свою позицию, указав на две различные установки, обе из которых казались ему неадекватными. Первую, в некоторых отношениях напоминавшую взгляды Фейербаха, Маркс назвал «практической политической партией»: «Эта партия обоснованно требует отрицания философии. Их ошибка состоит не в том, что они требуют, а в том, что они довольствуются требованием, которое выполняют и не могут выполнить. Они считают, что могут завершить это отрицание, отвернувшись от философии. Вы просите, чтобы мы начали с настоящих семян жизни, но забываете, что до сих пор настоящее семя немецкого народа процветало только внутри его черепа. Одним словом, нельзя выйти за пределы философии, не придав ей практического значения» [71]. Вторая позиция, характерная для «теоретической партии», под которой Маркс подразумевал Бруно Бауэра и его последователей, совершает ту же ошибку, но с противоположной стороны: «Она видит в нынешней борьбе не что иное, как критическую борьбу философии с немецким миром, и не задумывается над тем, что ранее философия сама принадлежала к этому миру и является его завершением, хотя и в идеях. Ее главный недостаток можно сформулировать так: она считала, что может дать практическое выражение философии, не выходя за ее пределы» [72].
Философия Бауэра, поскольку она отказывалась от любого посредничества с реальным, была недиалектичной и обреченной на бесплодие. Маркс предложил синтез двух осуждаемых им взглядов: посредничество с реальным, которое упразднило бы философию «как философию», придав ей практическое выражение. Это было сродни его более позднему выступлению за «единство теории и практики» и поднимало тему, которая занимала его с написания докторской диссертации (если не раньше): секуляризация философии. От «практики» Цешковского[52]52
Август Цешковский (1814–1894) – польский философ, экономист и общественный деятель.
[Закрыть] в 1838 году до «Философии действия» Гесса в 1843 году эта тема являлась ключевой для учеников Гегеля, пытавшихся оторваться от системы учителя, чтобы разобраться в современных событиях. Именно в этом Маркс видел единственно возможный путь решения политических проблем Германии.
Во второй части своей статьи Маркс перешел к исследованию возможности революции, которая не только устранила бы отсталость Германии, но и вывела бы ее в первые ряды европейских наций, сделав ее первой, кто достиг не только политической эмансипации. Таким образом, он ставил вопрос: «Может ли Германия достичь практики, которая будет равна ее принципам, то есть может ли она совершить революцию, которая не только поднимет ее на ступень современных народов, но и на человеческий уровень, который есть их ближайшее будущее?» [73] В качестве предварительного ответа Маркс повторил свой предыдущий вывод: «Оружие критики не может, разумеется, заменить критику оружия; материальная сила должна быть низвергнута материальной силой. Но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Теория способна овладеть массами, как только ее доказательства становятся ad hominem[53]53
Аргумент к человеку (лат.) – нарушение в логической аргументации, когда предметом критики становится не аргумент, а личность оппонента.
[Закрыть], а ее доказательства становятся ad hominem, как только она становится радикальной. Быть радикальным – значит хватать материю за корень. Но для человека корень – сам человек. Явным доказательством радикализма немецкой теории и ее практической энергии является то, что она начинается с решительного и позитивного упразднения религии. Критика религии завершается учением о том, что человек сам по себе является высшим существом, то есть категорическим императивом свержения всех систем, в которых человек унижен, порабощен, брошен и презираем» [74].
Важность «оружия критики» для Германии была продемонстрирована теоретической революцией Лютера – Реформацией. Конечно, эта революция была неполной: Лютер лишь интериоризировал религиозное сознание человека; он «уничтожил веру в авторитет, восстановив авторитет веры» [75]. Но хотя протестантизм и не нашел истинного решения, по крайней мере, его формулировка проблемы была верной. Нынешняя ситуация в Германии была похожа на ту, что предшествовала Реформации; разница заключалась лишь в том, что философия заняла место теологии, и результатом стало освобождение человека, а не то, что происходило исключительно в сфере религии.
На последних страницах статьи Маркс извлек из своего мрачного обзора немецкой действительности оптимистический вывод о том, что революция в Германии, в отличие от Франции, не может быть частичной и должна быть радикальной, и только пролетариат в союзе с философией способен осуществить ее. Маркс начал с трудностей, которые, казалось, стояли на пути радикальной немецкой революции. «Революции нужен пассивный элемент, материальная основа. Теория будет реализована в народе лишь в той мере, в какой она является реализацией того, в чем он нуждается» [76]. А «радикальная революция может быть только революцией радикальных потребностей, предпосылки и питательная среда которых как раз отсутствуют» [77]. Но сам факт политического недостатка Германии указывал на то, какое будущее ее ожидает: «Германия – это политические недостатки настоящего, сформировавшиеся в собственный мир, и как таковая она не сможет разрушить специфически немецкие барьеры, не разрушив общие барьеры политического настоящего» [78]. Утопией для Германии станет революция не радикальная, которая приведет к полному освобождению человечества, а частичная, которая будет просто политической, «которая, желая разрушить дом, сохранит сваи» [79]. Затем Маркс дал характеристику чисто политической революции, очевидно взяв в качестве парадигмы Французскую революцию: «Часть гражданского общества эмансипирует и достигает всеобщего господства, отдельный класс берет на себя общее освобождение общества от его конкретной ситуации. Этот класс освобождает все общество, но только при условии, что все общество находится в том же положении, что и этот класс, – что оно обладает или может легко приобрести (например, деньги и образование)» [80]. Ни один класс не мог занять это «особое положение» в обществе, «не вызвав порыва энтузиазма в себе и в массах. Это момент, когда класс сближается с обществом в целом и сливается с ним; он отождествляется с обществом, ощущается и признается как его общий представитель. Его требования и права – это действительно требования и права самого общества, настоящим главой и сердцем которого он является» [81]. Для того чтобы класс мог занять эту эмансипационную позицию, должна была произойти поляризация классов: «Один конкретный класс должен быть классом, вызывающим всеобщее порицание и вбирающим в себя все недостатки: одна конкретная социальная сфера должна рассматриваться как отъявленное преступление всего общества, чтобы освобождение этой сферы выглядело как всеобщее самоосвобождение. Для того чтобы один класс par excellence выступал как класс освобождения, другой класс, наоборот, должен быть явным классом угнетения» [82]. Такова, по мнению Маркса, была ситуация во Франции до 1789 года, когда «общеотрицательное значение французского дворянства и духовенства определяло общеположительное значение ближайшего к ним и противостоящего им класса – буржуазии» [83].
В Германии ситуация была совершенно иной. Там каждому классу не хватало сплоченности и мужества, чтобы выступить в роли негативного представителя общества, и каждому классу также не хватало воображения, чтобы отождествить себя с народом в целом. Классовое сознание проистекало из угнетения низшего класса, а не из вызывающего протеста против угнетения сверху. Таким образом, прогресс в Германии был невозможен, поскольку каждый класс вел борьбу на нескольких фронтах: «Так, князья борются с королем, бюрократия – с дворянством, буржуазия – со всеми ними, в то время как пролетариат уже начинает борьбу с буржуазией. Средний класс едва ли осмелится представить себе освобождение со своей точки зрения, а развитие социальных условий и политической теории уже делает саму эту точку зрения устаревшей или, по крайней мере, проблематичной» [84]. Затем Маркс подвел итог детально им рассмотренному контрасту между Францией и Германией:
«Во Франции достаточно быть чем-то, чтобы желать быть всем. В Германии нужно быть никем, если хочешь избежать отказа от всего. Во Франции частичная эмансипация – основа универсальной эмансипации, в Германии универсальная эмансипация – непременное условие всякой частичной эмансипации. Во Франции – это реальность, в Германии – невозможность постепенного освобождения, которое должно привести к полной свободе. Во Франции каждый класс народа политически идеалистичен и осознает себя в первую очередь не как отдельный класс, а как представитель общих общественных потребностей. Роль освободителя драматически переходит, таким образом, к различным классам французского народа, пока не доходит до класса, который уже не приводит к социальной свободе, предполагая определенные условия, лежащие вне человечества и еще не созданные человеческим обществом, но который организует условия человеческого существования, предполагая социальную свободу. Напротив, в Германии, где практическая жизнь столь же неинтеллектуальна, сколь интеллектуальная жизнь непрактична, ни один класс гражданского общества не имеет ни потребности, ни возможности добиться всеобщей эмансипации, пока его не вынудит к этому непосредственная ситуация, материальная необходимость и его цепи» [85].
Этот отрывок показывает, насколько важным было для Маркса изучение истории и опыта Французской революции. Рейнская область, где он родился и провел ранние годы, до 1814 года была французской и пользовалась благами Французской революции: гражданская эмансипация являлась подлинным опытом, а не достоянием лишь иностранцев, которым можно было завидовать издалека. Для всех немецких интеллектуалов Французская революция была Революцией, и Маркс и его друзья-младогегельянцы постоянно сравнивали себя с героями 1789 года. Именно чтение истории Французской революции летом 1843 года показало ему роль классовой борьбы в общественном развитии [86].
Приближаясь к завершению своей статьи, Маркс ввел развязку вопросом: «Так в чем же заключается действительная возможность освобождения Германии?» Его ответ был таков: «…в формировании класса, радикально опутанного цепями, класса в гражданском обществе, который не является классом гражданского общества, в формировании социальной группы, которая является распадом всех социальных групп, в формировании сферы, которая имеет универсальный характер из-за своих универсальных страданий и не претендует ни на какое конкретное право, потому что она является объектом не конкретной несправедливости, а несправедливости вообще. Этот класс уже не может претендовать на исторический, а только на человеческий статус. Он не находится в односторонней оппозиции к последствиям немецкого политического режима; он находится в полной оппозиции к его предпосылкам. Это, наконец, сфера, которая не может эмансипироваться, не эмансипировав себя от всех других сфер общества и тем самым не эмансипировав сами эти другие сферы. Одним словом, это полная утрата человечности, которая может восстановиться только путем полного высвобождения человечности. Это распадение общества как особого класса и есть пролетариат» [87].
Этот отрывок поднимает очевидный и крайне важный вопрос о причинах внезапной приверженности Маркса делу пролетариата. Некоторые утверждают, что описание пролетариата у Маркса неэмпирическое и что его конечным источником надлежит считать философию Гегеля. Например, утверждается, что «понимание всемирно-исторической роли пролетариата достигается чисто умозрительно, путем обращения вспять связи, которую Гегель установил между различными формами объективного духа» [88]. Другие утверждают, что идеи Гегеля в основе своей принадлежали немецкому протестанту, и поэтому основополагающей схемой Маркса здесь была христианская концепция спасения – пролетариат играл роль страдающего раба Исаии: «Через Гегеля молодой Маркс, несомненно бессознательно, связывается с сотериологической[54]54
Сотериология – религиозное учение о спасении.
[Закрыть] схемой, лежащей в основе иудеохристианской традиции: идея коллективного спасения, обретаемого определенной группой, тема спасительной обездоленности, противопоставление порабощающей несправедливости и освобождающей щедрости. Пролетариат, несущий всеобщее спасение, играет роль, аналогичную роли мессианской общины или личного спасителя в библейском Откровении» [89]. Или еще более определенно: «То, что универсальности пролетариата звучит эхо универсализма Христа, подтверждается тем, что Маркс настаивает на том, что пролетариат будет существовать именно в тот момент, когда станет всечеловеческим, в поруганном и опустошенном состоянии – и это, конечно, марксовский вариант божественного кеносиса[55]55
Кеносис (Кенозис) – богословский термин, означающий добровольное принятие Христом страданий и смерти через распятие.
[Закрыть]» [90]. Другие утверждают, что, поскольку взгляды Маркса не имеют эмпирического основания, это свидетельствует о том, что их источником является моральное возмущение по поводу положения пролетариата.
Все эти интерпретации ошибочны – по крайней мере, как попытки исчерпывающего объяснения. Провозглашение Марксом ключевой роли пролетариата было современным приложением результатов анализа Французской революции, изложенного ранее в его статье, в которой он писал о том, что определенная социальная среда «должна рассматриваться как результат отъявленного преступления всего общества, так что освобождение этой прослойки представляется как всеобщее самоосвобождение» [91]. Пролетариат теперь занимал то же положение, что и французская буржуазия в 1789 году. Именно пролетариат мог повторить слова аббата Сийеса: «Я – ничто, и я должен быть всем». Таким образом, из контекста видно, что Маркс в своих рассуждениях о роли пролетариата опирался на изучение Французской революции, каким бы языком он ни изъяснялся в младогегельянской журналистике.
К данной исторической базе добавилась дистилляция современных французских социалистических идей. Уже три месяца Маркс жил и работал с видными социалистами в Париже. Взгляд на пролетариат, изложенный в его статье, не был уникальным даже в младогегельянских кругах, но в Париже был, конечно, общепринятым [92]. Внезапная поддержка Марксом пролетарского дела может быть напрямую связана (как и другими ранними немецкими коммунистами, такими как Вейтлинг и Гесс) с его непосредственными контактами с социалистическими интеллектуалами во Франции. Вместо того чтобы редактировать газету для рейнской буржуазии или сидеть в своем кабинете в Кройцнахе, он теперь находился в самом центре социалистической мысли и действия. Он жил в одном доме с Жерменом Маурером, одним из лидеров Союза справедливых, чьи собрания часто посещал. С октября 1843 года Маркс дышал атмосферой социализма. Неудивительно, что окружение оказало на него быстрое влияние [93].
Маркс признавал, что описанный им пролетариат только начинает существовать в Германии – действительно, фабричные рабочие составляли не более 4 % всего мужского населения старше 14 лет [94]. Пролетариат отличала не естественная бедность (хотя и она сыграла свою роль), а бедность искусственно созданная, которая привела, в частности, к распаду среднего класса. Пролетариат должен был добиться разрушения старого порядка общества путем отрицания частной собственности, отрицания, воплощением которого сам являлся. Это был класс, в котором философия могла наконец найти свое практическое выражение: «Как философия находит свое материальное оружие в пролетариате, так пролетариат находит свое интеллектуальное оружие в философии, и как только молния мысли глубоко вонзится в девственную почву народа, эмансипация немцев в людей будет завершена» [95]. Сигнал к этой революции должен был прийти из Франции: «Когда все внутренние условия будут выполнены, день воскресения Германии будет возвещен криком галльского петуха» [96].
Первый двойной номер Deutsch-Französische Jahrbücher стал и последним. Прижав прессу внутри Пруссии, правительство особенно старалось избежать ввоза подстрекательской литературы. Пропаганда коммунистических идей в Пруссии была категорически запрещена, а некоторые статьи в Jahrbücher имели явно социалистический привкус. Немецкие власти приняли оперативные меры: журнал был запрещен в Пруссии, несколько сотен экземпляров были изъяты при ввозе. Были выданы ордера на арест Маркса, Гейне и Руге, и впервые в жизни Маркс стал политическим беженцем. Во Франции Jahrbücher не имел большого успеха. У него не было французских авторов, и он практически не вызвал комментариев во французской прессе. Фрёбель отказался от участия в этом предприятии как потому, что не хотел рисковать потерей денег, так и потому, что ему не нравился революционный тон первого номера. Но судьба Jahrbücher была окончательно предрешена все более расходящимися взглядами двух соредакторов. Руге болел в течение нескольких недель, непосредственно предшествовавших выходу журнала, и большая часть важнейшей редакторской работы легла на Маркса. Руге был весьма огорчен, увидев, что общее впечатление от Jahrbücher значительно отличается от его размыто-гуманистического предисловия; он ценил статьи Маркса, но считал их слишком стилизованными и схожими с эпиграммами. Были и финансовые проблемы: Руге заплатил Гессу аванс за статьи, которые тот фактически не написал, и хотел немедленно вернуть деньги – что раздражало Гесса, у которого денег не было (и который знал, что Руге только что заработал значительную сумму на удачной спекуляции железнодорожными акциями). Маркс призвал Руге продолжить издание: Руге отказался и в качестве платы за вклад Маркса передал ему экземпляры единственного номера Jahrbücher. Финансовое положение Маркса, однако, было восстановлено благодаря получению в середине марта 1844 года 1000 талеров (примерно вдвое больше его годового жалованья как соредактора), присланных по инициативе Юнга бывшими акционерами Rheinische Zeitung [97].
Весной 1844 года Маркс и Руге все еще поддерживали тесный контакт. К окончательному разрыву между ними привело открытое принятие Марксом коммунизма и его довольно богемный образ жизни. Он не использовал термин «коммунизм» в Jahrbücher, но к весне 1844 года Маркс определенно принял его в качестве краткого описания своих взглядов [98]. Руге терпеть не мог коммунистов. «Они хотят освободить людей, – писал он матери с горечью человека, чьи финансовые ресурсы были слишком часто востребованы, – превратив их в ремесленников и отменив частную собственность путем справедливого и коммунального передела товаров; но пока что они придают огромное значение собственности, и в частности деньгам…» [99] Их идеи, писал он далее, «ведут к полицейскому государству и рабству. Чтобы освободить пролетариат интеллектуально и физически от тяжести его страданий, они мечтают об организации, которая обобщит эти страдания и заставит всех людей нести их тяжесть» [100]. Руге обладал сильными пуританскими наклонностями, и его также раздражала сибаритская компания, в которой находился Маркс. Поэт Гервег недавно женился на дочери богатого банкира и вел жизнь плейбоя, по словам Руге: «Однажды вечером наш разговор зашел об отношениях Гервега с графиней д’Агу [101]. Я как раз в то время пытался возобновить Jahrbücher и был возмущен образом жизни и ленью Гервега. Я несколько раз назвал его распутником и сказал, что, когда кто-то женится, он должен знать, что делает <…> Маркс ничего не ответил и дружелюбно отстранился от меня. Но на следующий день он написал мне, что Гервег – гений, у которого впереди большое будущее, и что его разозлило мое отношение к нему как к распутнику, добавив, что я зашорен <…> Он больше не мог работать со мной, поскольку я интересовался только политикой, в то время как он был коммунистом» [102].
После этого разрыв между ними был окончательным. Маркс предал огласке эти противоречия летом того же года, резко напав на статью Руге о восстании ткачей в Силезии. Несколько тысяч ткачей сломали станки, недавно введенные в производственный процесс и снижавшие их заработную плату: обошлись с ними с особой жестокостью. Статья Руге, критикующая патерналистское отношение Фридриха Вильгельма IV к социальным проблемам, появилась в Vorwärts[56]56
Вперед (нем.).
[Закрыть], новом издании, выходившем два раза в неделю и ставшем (во многом благодаря таланту его редактора Ф. К. Бернайса) главной трибуной для радикальных дискуссий среди немецких эмигрантов. В своей статье Руге справедливо отрицал, что восстание ткачей имело какое-либо непосредственное значение: ни один социальный бунт, по его словам, не мог иметь успеха в Германии, поскольку политическое сознание было крайне неразвито, а социальная реформа вытекала из политической революции.
Маркс опубликовал свой ответ в Vorwärts в конце июля 1844 года. Он придавал действиям ткачей совершенно нереальное значение и выгодно отличал масштабы их восстания от восстаний рабочих в Англии. Политического сознания было недостаточно, чтобы справиться с социальной нищетой: Англия имела очень развитое политическое сознание, но при этом была страной с самым широким распространением нищеты. Британское правительство располагало огромным количеством информации, но после двух столетий принятия законов о нищенстве не смогло найти ничего лучшего, чем работный дом. Во Франции Конвенция и Наполеон также безуспешно пытались подавить нищенство. Таким образом, вина заключалась не в той или иной форме государства – как считал Руге, – и решение не могло быть найдено в той или иной политической программе. Вина заключалась в самой природе политической власти: «С политической точки зрения государство и любая организация общества – это не две разные вещи. Государство – это организация общества. В той мере, в какой государство признает существование социальных злоупотреблений, оно ищет их истоки либо в естественных законах, которые не подвластны никакой человеческой власти, либо в независимом от него частном секторе. Так, в Британии нищета – естественное следствие того, что население всегда превышает средства, необходимые для его существования; однако она объясняет нищенство природной грубостью бедных, тогда как король Пруссии объясняет его нехристианским духом богатых, а Конвенция – контрреволюционным и подозрительным отношением собственников. Поэтому Британия наказывает бедных, король Пруссии увещевает богатых, а Конвенция обезглавливает собственников» [103]. Если бы государство хотело преодолеть бессилие своего управления, оно должно было бы упразднить себя, ибо чем могущественнее государство и чем более развито политическое сознание нации, тем менее она склонна искать причину социальных бед в самом государстве. Маркс еще раз обосновал свою мысль ссылкой на Французскую революцию, герои которой «отнюдь не видели источника социальных недостатков в государстве, а видели в социальных недостатках источник политических несчастий» [104].
Таким образом, для Маркса было важно не «политическое сознание». Силезское восстание являлось даже более важным, чем восстания в Англии и Франции, потому что продемонстрировало более развитое классовое сознание. Положительно сравнив работы Вейтлинга с трудами Прудона и немецкой буржуазии, Маркс повторил свое предсказание, сделанное в Deutsch-Französische Jahrbücher, о роли пролетариата и шансах на радикальную революцию: «Немецкий пролетариат – теоретик пролетариата европейского, как английский пролетариат есть его экономист, а французский – политик. Следует признать, что Германия имеет призвание к социальной революции, которая предстанет тем более классической, поскольку не способна к революции политической. Только при социализме философский народ может найти соответствующую деятельность, и, следовательно, только в пролетариате он находит активный элемент своей свободы» [105]. Маркс закончил статью фрагментом, в котором в сжатой форме подвел итог своим исследованиям социальных изменений:
«Социальная революция, даже если ограничивается одним промышленным районом, затрагивает всю совокупность, потому что она есть протест человека против обесчеловеченной жизни, потому что она начинается с позиции отдельного, реального индивида, потому что коллективность, против которой реагирует отделенный от себя индивид, есть истинная коллективность человека, человеческая сущность. Политическая душа революции заключается, напротив, в стремлении классов, не имеющих политического влияния, покончить со своей изоляцией от высших позиций в государстве. Их позиция – это позиция государства – абстрактного целого, существующего только в отрыве от реальной жизни. Таким образом, революция с политической душой также организует, в соответствии со своей ограниченной и двойной природой, правящую группу в обществе в ущерб обществу» [106].
Таким образом, идея Руге о том, что социальная революция обязательно имеет политическую душу, была противоположна истине: «Каждая революция социальна постольку, поскольку она разрушает старое общество. Всякая революция является политической в той мере, в какой она разрушает старую власть <…> Революция в целом – свержение существующей власти и разрыв прежних отношений – есть политический акт. Социализм не может быть реализован без революции. Но когда начинается его организаторская деятельность, когда формулируются его конкретные цели, когда его душа выходит вперед, тогда социализм сбрасывает свой политический плащ» [107].
Эта полемика ознаменовала конец всех связей с Руге. Хотя Маркс продолжал дружить с Гервегом, это тоже продолжалось недолго, и вскоре Маркс признал, что в строгостях Руге все-таки что-то есть. Сибаритский характер Гервега и его сентиментальная концепция коммунизма не могли гармонировать с темпераментом и идеями Маркса, о котором Гервег в то время писал, что «он был бы идеальным воплощением последнего схоласта. Неутомимый труженик и великий эрудит, он знал мир больше в теории, чем на практике. Он полностью осознавал собственную ценность <…> Сарказмы, с которыми он обрушивался на своих противников, имели холодное проникновение палаческого топора» [108]. Разочаровавшись в Гервеге, Маркс проводил все больше времени с Гейне, единственным человеком, которого, по его словам, ему было жаль оставлять после изгнания из Парижа.
Гейне сразу после революции 1830 года устроил свою штаб-квартиру в Париже. Прекрасно себя чувствуя в городе, в котором жили Мюссе, Виньи, Сент-Бёв, Энгр[57]57
Альфред де Мюссе (1810–1857), Альфред де Виньи (1797–1863), Шарль Огюстен де Сент-Бёв (1804–1869) – французские писатели-романтики. Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) – французский художник, представитель академизма.
[Закрыть], Шопен и многие другие известные деятели культуры, Гейне не только расцвел как поэт, но и увлекся учением Сен-Симона и более поздних французских социалистов. Озлобленный запретом своих книг в Пруссии, он считал успех коммунизма неизбежным, но боялся триумфа масс и «того времени, когда эти мрачные иконоборцы уничтожат мои лавровые рощи и посадят картофель» [109]. Его дружба с Марксом совпала с написанием большей части его лучших сатирических стихов, в которых Маркс, как говорят, ободрял его словами: «Оставь свои вечные жалобы на любовь и покажи поэтам-сатирикам, как это делается на самом деле – с помощью кнута!» [110] По словам Элеоноры: «Был период, когда Гейне ежедневно приходил к Марксу и его жене, чтобы прочитать им свои стихи и услышать мнение. Маркс и Гейне могли бесконечно пересматривать небольшое десятистрочное стихотворение – выверяя каждое слово, исправляя и полируя его, пока все не становилось совершенным и не исчезали все следы их работы. Требовалось много терпения, поскольку Гейне был чрезвычайно чувствителен к любой критике. Иногда он приходил к Марксу буквально в слезах из-за того, что какой-то малоизвестный писатель нападал на него в журнале. Лучшей тактикой Маркса в таком случае было обращение к его жене, чья доброта и остроумие вскоре приводили отчаявшегося поэта в чувство» [111].
Гейне также спас жизнь первому ребенку Маркса: приехав однажды, он застал ребенка в конвульсиях, а обоих родителей в смятении. Он немедленно прописал горячую ванну, сам приготовил ее и искупал ребенка, который сразу же поправился.
Маркс проводил много времени в компании русских аристократов-эмигрантов, которые, как он говорил позже, «привечали» его на протяжении всего его пребывания здесь [112]. Среди них был и его поздний противник Бакунин, с которым Маркс, похоже, находился в дружеских отношениях. То же самое нельзя сказать о польском графе Цешковском, авторе основополагающей книги в начале младогегельянского движения, о котором Маркс позже вспоминал, что «он так мне надоел, что я не хотел и не мог смотреть ни на что из того, что он впоследствии написал» [113]. Маркс, естественно, проводил много времени с французскими социалистами – такими, как Луи Блан и особенно Прудон (также впоследствии его противник), чей уникальный анархо-социализм уже сделал его самым выдающимся левым мыслителем в Париже. Позже Маркс утверждал, что именно он приучил Прудона к немецкому идеализму: «В бесконечных спорах, которые часто длились всю ночь, я вводил ему большие дозы гегельянства; и едва ли ему это шло на пользу, ведь он не знал немецкого и не мог глубоко изучить эти вопросы» [114]. Что же, в этом они были похожи [115].